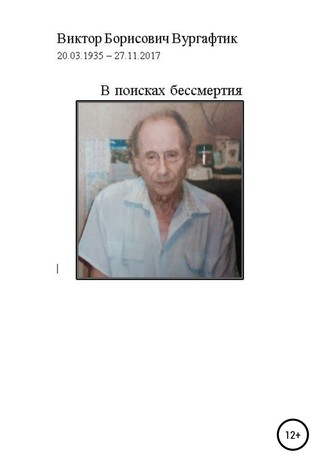
Виктор Борисович Вургафтик
В поисках бессмертия
Эта любовь не от мира сего. Любовь же от сего мира – ει̏ην, деятельность воли, направленная на предмет любви. В начале может быть вдохновение, сопровождающееся воображением – потерей абсолютной власти над миром. Последнее может воспевать и призывать предмет любви, потому что оно есть его утрата. И вот, когда он перестаёт быть абсолютно моим, я стремлюсь вернуть его. Это и есть та деятельность воли, которую я назвал любовью от сего мира. Благодаря ей этот человек может стать более моим, чем все остальное, но уже не абсолютно, разве что меня вновь посетит вдохновение.
При такой близости ко мне он разделяет со мною не только объективное, но и многое из субъективного, мы с ним хорошо понимаем друг друга. У нас одно внутреннее, однако не всё: моё самое интимное и, наконец, я сам от него закрыт.
Откуда я и куда иду? В начале мир был мною, но я утратил его, и эта утрата родила образы и мифы. Моя власть над ним стала ничтожной, и моя радость, смысл моей жизни, счастье стали заключаться в том, чтобы его вернуть. Я стремлюсь захватить всё, это стремление – я сам, это – моя воля. Но слаба моя воля, и ей не достичь счастья. И лишь вдохновение даёт мне его.
И я отрекаюсь от воли – начинаю мыслить. Не навсегда отрекаюсь – после передышки снова набрасываюсь на мир, но, выдохшись, снова отступаю. Нo я отступаю не до конца, всегда сохраняю нечто, и только опуcтошение ничего не оставляет мне, не оставляет и меня самого.
И вот я отказываюсь от себя – от радости и счастья – и от мысли, которая мне больше ни для чего не нужна и не в состоянии меня очистить. Я замираю на месте – в мире слов – идей и эйдосов,– абсолютно свободных действий и любви. Меня интересует не обретение чего-то, а лишь настоящее мгновение. Но затем опять мысль и воля.
Куда же я иду – к обладанию миром, к новому, своему миру или к исчезновению ?
Что такое знание ? Им может быть лишь мысль или воображение или опустошение. Таким образом, знание есть акт, а не что-либо закреплённое. Знание есть утрата.
О чём оно? Если это мысль, утрата вещи, то об этой же утрачиваемой вещи, об ее утрате. Если воображение, утрата мира, то об утрачиваемом мире. Если опустошение, утрата жизни,– об утрате жизни, о смерти. Итак, знание тождественно своему предмету.
Мысль есть возникновение понятий и представлений, она есть возникающие представления. Воображение – являющиеся образы. Опустошение есть откровение. Поэтому может быть лишь возникающее, актуальное знание. Как возникшее оно не существует.
Итак, знание есть познание. Ему противоположно получение – воля /получение вещи/, вдохновение /получение мира/, возрождение /получение жизни/. Если я хочу знать что-либо, я не могу его получать, не могу даже иметь – могу только утрачивать. Получая же, я не могу знать.
Что значит думать о себе? Думать о себе самом, т.е. о том, что абсолютно мое, я не могу. Но я разлит по всему доступному мне миру, я в каждой вещи – в той степени, в какой она моя. Поэтому думать о себе значит думать о той или иной вещи, и я не могу думать о какой- либо вещи, не думая о себе. Думать о себе значит в какой-то степени терять мир.
Я всегда думаю о себе в связи с определёнными людьми и вещами. По существу я думаю об этих людях и вещах, о себе же – поскольку они мои, поскольку я в них присутствую. Оттого я много сильнее думаю о себе, когда думаю о близком человеке, своей комнате или вещи, стоившей бóльших усилий, чем когда думаю о звёздах или атомах.
Если же я всё-таки думаю о себе безотносительно к иному, если я думаю о себе самом, это уже не думание, не мысль; это опустошение.
Из-за того, что моя власть над вещью неполна, относительна, последняя изменяется независимо от меня. Чашка может разбиться,человек – умереть, комнату могут у меня отнять. Ощущение временности есть ощущение неполноты моей власти.
Таким образом, время – от моей слабости, от того, что вещи лишь относительно мои. И чем меньше они мои, тем безраздельнее господство времени: всевластное в области объективного, оно с погружением в субъективное слабеет и не имеет никакой власти надо мною самим. Чашка разбивается и исчезает для меня, человек же, умирая, не исчезает – лишь тускнеет. Он умирает постепенно и может вновь ожить, смерть же как факт существует для меня лишь постольку, поскольку моя мысль отчуждает его в область объективного, превращает в объект физиологии и медицины. Память – от моей власти над вещью, я почти не помню того, что лишь в малой степени было моим.
Деятельность воли дает мне некоторую вещь. Её исчезновение или ощущение её временности вызывает страдание. Или вещь становится моей без всяких моих усилий, но я стремлюсь воспрепятствовать её исчезновению; в этом случае я также страдаю. Воля вместе с временностью того, на что она направлена, есть страдание. Но я называю волей именно относительное увеличение моей власти – такое, которое не может устранить временности. Поэтому достаточным условием страдания является любой акт воли – ει̏ην , хотя оно может наступить не тотчас же. Но одно лишь исчезновение вещи, без малейших моих усилий, не вызывает страдания.
Прибавление. Я разлит по миру, и каждая вещь, которая мне как-то известна,– в той или иной степени я. То, что является мною в малой степени, составляет объективное. В малой по сравнению с чем? С людьми, которые, таким образом, в отношении к этой части мира почти не отличаются от меня самого – от того единственного, что есть я в абсолютной степени.
Существую ли я сам? Если да, то это есть единственное, не подверженное независимым or меня изменениям, так как моя власть над ним абсолютна. Тогда существует нечто, чего не касается опустошение и смерть, если только оно само себя не уничтожает.
Но, может быть, я сам не существую, может быть, моя власть с погружением в субъективное неограниченно приближается к абсолютной, однако самого этого предела не достигает? Тогда меня нет совершенно не только далее объективного, но и там, где моя власть,казалось бы, становится бесконечной и где должен быть я сам: на месте меня самого – дыра, самое внутреннее есть самое внешнее.
Тогда всё подвержено не контролируемым мною изменениям, и опустошение и смерть ничего не оставляют от меня. Заполняется ли дыра во мне вдохновением? Если заполняется, то и вдохновение не нарушает единства самого внешнего с самым внутренним, но в нём они едины потому, что оба – я, а вне его – потому, что оба – не я. И во вдохновении мир един как я, а в опустошении – как не я. И два заложенные во мне стремления суть стремления к этому единству.
Но если я сам не существую, если на месте меня самого – дыра, из чего я изливаюсь на мир, из чего изливается моя воля? Тогда её источник – не я; источник я есть не я.
Моё благо – в распространении; когда я распространяюсь на весь мир, заполняю всё, оно переходит в блаженство. Это распространение и жажда его – способ моего существования. В каждой вещи моё внимание привлекает не то, что она уже в какой-то степени моя, а то, что она моя не вполне, и я жажду ее заполнить.
Но во мне заложено и противоположное стремление, от которого происходит познание. Оно одерживает мой разлив и осушает меня. Оно лишает меня блага.
Что же сдерживает меня и осушает ? Я сам ? Но способ моего существования – разлив и жажда разлива. Как же я могу сам отступать, как могу оставлять захваченное? Как возможно познание, если оно исходит от меня ? Вообще, как может во мне быть стремление не быть ? Разве я и стремление быть и расти – не одно к то же? Итак, не исходит ли познание от того, что не есть я, – что излило меня, а теперь, наоборот, вбирает ?
Люди и животные
Декабрь 1973 года
Животное живет в трехмерном мире – пространстве. Для человека к трем измерениям прибавляется четвертое – время: он видит расстояния, отделяющие его от прошлого и будущего.
Дикое животное вспоминает знакомые места, но не видит времена между тем их посещением и этим. Оно предвкушает утоление жажды, но перед его взором не проходит время от этого мгновения до воды. Оно видит лишь расстояния до предметов – впереди и сзади, слева и справа, вверху и внизу.
Но животное, живущее с человеком или среди людей, в какой-то степени выглядывает в четырехмерный мир. То, что отделяет его от кормления или встречи с хозяином, очень существенно для него и может даже стать важнее пространственной свободы. Ведь в таких условиях оно не может пройти столько-то в таком-то направлении, чтобы найти воду или пищу; и не от него зависит встреча с хозяином. Появляется нечто, перед чем оно бессильно, если даже обладает свободой в пространстве, – время.
Для человека временное измерение мира несравненно существеннее пространственных. И в этом измерении он обладает известной свободой: может вспоминать прошлое, планировать будущее. Он не выносит стеснения в нем, предпочитая терпеть стеснение в пространстве. Свобода во времени кажется ему бесконечной, ибо он не помнит дня своего рождения и не предвидит дня своей смерти. Но он знает, что ограничен с той и другой стороны.
Животное не знает рождения и смерти как моментов времени. Они предстают перед ним в пространстве: рождение как мать, материнское молоко, материнские заботы; смерть как пасть хищника, охотник, прибывающая вода. Человек живет под знаком того, что где-то во времени, близко или далеко, есть мгновение, дальше которого он идти не может. Тундровый олень постоянно видит волков, сопровождающих его стадо, и каждый из них есть для него та точка пространства, дальше которой он идти не может. При этом для него нет времени между нынешним мгновением и встречей с этой точкой. Человек же и тогда, когда видит смерть рядом с собой в пространстве, интересуется не расстоянием до нее, а временем, которое должно до нее пройти.
Мир человека относится к миру животного, как объемный к плоскому, и лишь животные, связанные с людьми, способны приподниматься над своим плоским миром. Для таких животных новое измерение приобретает особую важность, хотя и не столь большую, как для человека. Но и для него важны также пространственные измерения, лишь сравнительно со временем они отходят на задний план: имеет значение обстановка, в которой он живет, а по отношению к смерти – не только момент, в который она совершается, но и через что, каким образом.
Подобно тому как дикое животное, вступая в соприкосновение с человеком, получает доступ в четвертое измерение – время, человек, соприкасаясь с Богом, получает доступ в пятое. Он не живет в пятимерном мире так, как в четырехмерном, лишь иногда выходит в него. Я хочу сказать, что иногда только, по своему временному измерению, такой человек видит себя в пятимерном мире, однако те, кто населяет его, видят, что он живет в нем вместе с ними, хотя почти не замечает этого. Так же люди видят, что домашнее животное, как и они, живет не только в пространстве, но и во времени, но почти не замечает его.
Оторвавшись от мира пространства-времени, человек видит его не изнутри, а как бы издали, подобно взлетевшему высоко над землею и взирающему оттуда, с высоты третьего измерения, на двумерный мир, в котором он жил. Он едва различает отдельные предметы и моменты своей жизни и среди них – свое рождение и свою смерть. Они затерялись где-то там, внизу, и, как все остальное в том мире, больше не имеют значения.
Но он оторвался от своего обычного мира в каком-то его месте и в какое-то мгновение и возвратится тоже в какое-то место и мгновение. И в дальнейшем, продолжая жить в нем, он будет помнить, что все совершилось там-то и тогда-то, хотя об этом нельзя сказать «там» и «тогда».
Так же, как три измерения пространства отступают на задний план по сравнению с четвертым – временем, четыре измерения пространства-времени отступают на задний план по сравнению с пятым. Разве обыкновенный взрослый человек обращает серьезное внимание на что-нибудь, кроме времени, разве может он надолго задержаться на лесах, полях или небе? Он смотрит почти только на часы, он интересуется только часами. И тот, кто был в пятом измерении, хотя и живет как будто по-прежнему, уже не может всерьез принимать время и подолгу возлагать надежды на будущее, даже самые пустячные. Его сердцу почти уже нечего делать в этом мире, но он держится за него и не хочет отпускать. И не имеет того.
Когда я говорю о свободе человека во времени, я имею в виду не передвижение его вдоль временной оси, отмечаемое часами. Такое следование за стрелкой часов было бы, напротив, полным отсутствием свободы. Я говорю о свободе перемещения относительно времени, о возможности забегать вперед и возвращаться назад – о предвосхищении будущего и воссоздании прошлого. Неосуществленность планов или погрешность воспоминаний не имеет к этой свободе никакого прямого отношения. И именно без этой свободы не может жить человек.
Но маята во времени утомляет сильнее, чем маята в пространстве, а может наступить момент, в котором человек останавливается, чтобы передохнуть. Он перестает думать о будущем и прошлом – живет сейчас. Тогда он замечает, наконец, пространство – лес, поле, небеса – и видит, что оно прекрасно. И так же, как в пятимерном мире, нет для человека начала и конца. Однако там он поднялся высоко над ними, а здесь остановился на пути между тем и другим; там начало и конец не имеют уже значения, а здесь их нет для него, остановившегося на пути. Это «радость безмятежная» (Достоевский), которою живет животное, когда нет перед ним его мучителя или убийцы. «Тогда сказал бы я: мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой!» (Гете, «Фауст»).
Но бывает еще для человека стеснение во времени, когда он останавливается не потому, что устал, а потому, что из настоящего мгновения его не выпускают обстоятельства, например, требующая всего внимания работа. Это отсутствие свободы – мука для него, из которой два выхода. Один – привыкание к неволе, в которой усыхает душа1. Другой – бегство в пятое измерение: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные».
Соприкосновение разделяемых
Март, 1974 г.)
Учёный мне говорит: если ты создашь такие-то условия, увидишь то-то. Я создаю эти условия, но вижу другое. Может быть, я создал не совсем такие условия или просто не способен к экспериментированию?
Я многократно повторяю опыт, стараясь выдерживать эти условия, но ни разу не вижу предсказанного мне. Но я замечаю, что мои результаты группируются около какого-то одного: одни выше него, другие ниже, некоторые правее, я некоторые левее. И этот один совпадает с предсказанным, которого я так и не получил. Совпадение приближённое, оно тем точнее, чем больше повторений опыта.
Тогда я думаю, что и учёный не видел того, о чём говорит: по-видимому, и его результаты лишь группировались около этого, и тем точнее, чем больше их было. Я думаю также, что они не совпадали с моими результатами. Я хочу сказать, что если взять определённое отклонение от предсказанного, то у меня на каждую сотню опытов оно выпадало не совсем столько же раз, сколько у него. Хотя на тысячу опытов совпадение лучше, а на миллион ещё лучше.
Когда опыт относится к микромиру, учёный и не говорит мне, что я увижу в таких-то условиях, если воссоздам их один раз. Он говорит лишь, сколько раз на миллион проб у меня получится такое-то отклонение, сколько раз – такое-то и т.д. По существу отклонения являются здесь результатами, и предсказывается лишь вероятность каждого из них.
Но у меня каждый результат выпадает не совсем столько же раз на миллион. Однако на миллиард совпадение точнее, а на триллион ещё точнее.
Что же соединяет нас – меня и учёного? Не результаты опыта: это именно то, что нас разделяет – они у нас различны. Если бы их было бесконечно много, они, возможно, были бы одинаковы и соединили нас, но такая серия ни ему, ни мне не под силу. Это Вавилонская башня, которая никогда не будет возведена. Однако мы и не нуждаемся в ней, я и так знаю, что нас что-то соединяет.
Может быть, это теоретическая идея, которая продиктовала опыт или была создана для его объяснения? Но как она существует для нас, если мы никогда не видим тех опытных результатов, которые она должны обнимать? Это ведь не только слово, а именно идея.
Я соединён с ним, когда говорю: у меня получилось не то, что он имел в виду, но отклонение невелико, им можно пренебречь: если бы я повторил опыт много раз, мой средний результат был бы таким же. Или когда говорю: в моей серии проб этот результат повторялся реже, а вот этот – чаще, чем он думал, но моё статистическое распределение мало отличается от его распределения; если бы проб было бесконечно много, отличия не было бы совсем.
Нас связывает не то, что мы говорим друг другу, а нечто, скрывающееся за смыслом наших слов, о чём мы в тот момент не знаем. Когда мы сопоставляем результаты опытов, мы можем видеть лишь их различие, но движет нами и одушевляет нас совсем другое – их близость и даже тождество, которое существовало бы, если бы серия проб была бесконечно большой. Мы живы не реальностью цифр, а чем-то идеальным, стоящим за ними: оно-то и соединяет нас. Но в тот момент мы не знаем этого, мы видим лишь две колонки цифр, которые не совпадают.
Когда же узнаём – обращаем внимание на то, что пренебрегаем различиями и верим в полное совпадение при бесконечном числе проб – мы перестаём быть непосредственными исследователями некоторой области и становимся исследователями метода науки. Сами эксперименты исчезают из нашего поля зрения, их место занимают методы обработки результатов, обеспечивающие получение идеального закона. И тогда обнаруживается, что мы видим их неодинаково: я считаю правильными одни методы, он – другие. То, что соединяло нас, теперь нас разделяет. Переключив внимание на идеи, мы теряем общий язык, наше общение прерывается.
Бог творит мою свободу, для этого выделяет меня из Своей воли – отстраняет от Себя. Акт творения совершается не во времени, поэтому нельзя сказать, что он имеет начало и конец: можно лишь сказать, что он совершается.
Однако для меня, отстраняемого Богом, течёт время, быть отстранённым и значит жить во времени. Тогда, вместо того чтобы сказать: Бог творит меня свободным и для этого отстраняет от Себя, я говорю: Бог сотворил меня свободным и для этого отстранил от Себя; и теперь я один – замкнут самим собою.
Но Бог именно творит меня и отстраняет, и нельзя сказать, что творение закончено и прервана моя связь с Ним. Я связан с Богом, и ты связан с Богом, и через Бога – только через Него – мы связаны между собой.
Бог замыкает меня одним миром, а тебя – другим, и в этих мирах нет ничего общего. Поэтому я не могу видеть того, что видишь ты: результаты моего опыта никогда не совпадают с результатами твоего опыта. Стремление к бесконечно большой серии проб, к Вавилонской башне – это наше стремление к единому миру, в котором бы мы жили вместе.
Но, занятые нашими опытами, мы не замечаем, как приближаем их результаты к некоему одному и тем самым друг к другу. Поглощённые каждый своим миром – своим отпадением от Бога – мы не видим, что связь с Ним не прервана и мы живы только ею; что через Него мы связаны между собой. Когда же обращаем внимание на точку зрения, с которой смотрим на результаты наших опытов, получаются две различные точки зрения, и мы уже не чувствуем никакой связи. И ты, и я, отстраняемые Богом, живём во времени, и всё, вы том числе наше общение, имеет для меня начало и конец.
Итак, то, что, как нам кажется, нас соединяет, в действительности разделяет нас. Сюда относятся не только «научные факты» и мнения о научных методах, которые при достаточной точности измерений и мышления неизбежно становятся для нас различными. Сюда относятся любые идеи, не касающиеся непосредственно эксперимента: до тех пор, пока имеется в виду эксперимент, а сама идея не осознаётся или почти не осознаётся, они у нас одни и те же, это ещё даже не идеи, а связь каждого из нас с Богом, которою мы живём; когда же я начинаю специально исследовать какую-нибудь из них, она становится принадлежностью моего замкнутого мира, не совпадающую с принадлежностями твоего мира – превращается в сновидение, которое у каждого своё.
Посредством речи мы общаемся лишь потому, что толком не понимаем значения слов и предложений. Нас лучше всего связывают именно многозначные, неопределённые слова, когда мы не можем осознать, что́ же конкретно нас связывает. Общение посредством искусственной речи, в которой значения слов чётко определены – не живое общение, а смерть, замыкание каждого из нас в своём отдельном мире. Впрочем, это замыкание не бывает окончательным – в частности, потому, что слова определяются через другие слова и неопределённость не может быть устранена полностью.
В той мере, в какой мы знаем, что́ нас соединяет, оно разделяет нас. Но в той мере, в какой мы, соединённые, не знаем, что́ нас соединяет, нас соединяет не что, а Кто.
Бог творит мою свободу. Это акт вне времени. И точно так же моя свобода, творимая Им, есть не возможность свободы, а её действительность, акт, совершающийся вне времени. Бог отстраняет меня, и акт моей свободы от Него – только в соединении с Ним вопреки отстранению. Я свободен не в борьбе за свою неприкосновенность – этим я лишь слепо повинуюсь отстранению – но только в прорыве своей обособленности и возвращении к моему Творцу. Этим осуществляется цель Его творения.
Общаясь с людьми через что, я на самом деле замыкаюсь от них, вернее, это Он замыкает меня обособленным миром; я живу во времени и не свободен. Это не значит, что я не связан ни с кем: Бог творит меня и тебя, и мы связаны с Ним, а через Него – друг с другом. Но я сознаю не это, а что, будто бы связывающее нас, хотя чувствую, что именно оно нас разделяет.
Вот я ощущаю склонность к тебе, только к тебе. Это значит, что я соединён с тобою самим фактом творения, в котором каждый из нас соприкасается с единым Богом и через Него – с другим. Здесь ещё нет того, что нас соединяет, я не могу конкретно указать причину моей склонности. Поэтому мы ещё ничем не разделены.
Однако в нашем общении неизбежно появляется что-то, что, по нашему мнению, соединяет нас – идеи, цель, имущество, заботы друг о друге – и тогда каждый чувствует свою обособленность от другого. Она может дойти до того, что живой связи я уже не ощущаю. Это – отстранение меня Богом от Себя и, следовательно, от тебя, ибо связывает нас Он один – отстранение, которое с моей точки зрения окончательно: связь между нами прервалась.
Я оказываюсь совершенно одинок и умираю, потому что жизнь только в Боге, во мне самом нет жизни. И в ужасе одиночества и смерти бросаюсь к Нему по Пути, оставленному мне Его Сыном, и соединяюсь с Ним. Это соединение – не момент, оно совершается вне времени. Это – акт моей абсолютной свободы, ради которого Он сотворил меня. Это моя любовь к Нему и к тебе, потому что я соединяюсь с Ним и через Него – с тобою. И ты в исполнении и полноте твоих времён соединяешься с Ним и через Него – со мной.
Наука связывает нас в силу того, что и тебя и меня творит один Бог; это естественная связь между нами. Мы смотрим на несовпадающие колонки цифр, но за ними видим нечто общее. Мы не отдаём себе ясного отчёта в том, что это такое, но не сомневаемся в его существовании.
Когда же я пристально вглядываюсь в него, наука для меня заканчивается и начинается философствование о науке. Я уже не чувствую никакой связи с тобой: я вижу, что мои идеи – только мои, принадлежности моего замкнутого мира. Теперь я не чувствую собственно творения, я замечаю лишь отстранение меня и мою мёртвость.
Если в ужасе одиночества и смерти я бросаюсь к Богу по Пути, Который Его Сын оставил мне – если я бросаюсь к Богу и, следовательно, к тебе – тогда это уже не философствование, а исповедание веры.



