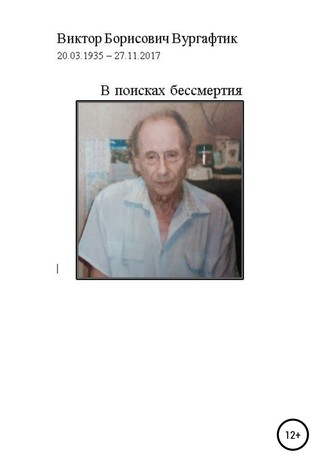
Виктор Борисович Вургафтик
В поисках бессмертия
Вместе с тем наука проникает всё ближе к центру; теория относительности явилась в результате глубочайшего из таких проникновений – проникновения в область геометрии. Таким образом, удаление общего уровня от центра сопровождается расширением той области по обе стороны от него, которую исследует наука.
Что же устремляет учёных и всех прочих людей к Богу? Не что иное, как все те же поиски смысла жизни. Не правда ли, там, где обретается большинство людей, где в сознании сменяют друг друга чрезвычайно многочисленные, составляющие необозримое множество впечатления, сущее кажется чересчур далёким от единства, а, значит, и от осмысленности? Чем ближе душа к центру, тем меньшим числом частей исчерпывается для неё мир, а если это расстояние равно единице, – всего семью; мы не видим такого единства мира ни во сне, ни в творении! Так вот, люди стремятся поближе к центру и притом к более продолжительному пребыванию здесь, чем это допускается связью души с телом. По-видимому, у некоторых связь более эластична и позволяет это, но требует столь же продолжительного пребывания снаружи от общего уровня на большем расстоянии от него /расстояния находятся в такой же взаимозависимости, как и инверсии/. Это объясняет чередование состояний блаженства и отчаяния у художника – в первых окружающее полно для него смысла, во вторых бессмысленно; ведь амплитуда колебаний около общего уровня у художника должна быть куда больше, чем у учёного; и не из-за этих ли колебаний художники так часто сходят с ума? И не поэтому ли гениальность и помешательство иногда сопутствуют друг другу?
Между прочим, чем определяется специализация человека? Почему один изучает свойства твёрдого тела, а другой – функционирование генов? Почему у одного живописное восприятие мира, а у другого музыкальное? Поля деятельности различных наук и различных искусств располагаются вокруг центра, только вторые – значительно глубже первых. Очевидно, душа может намного дольше созерцать находящееся в том поле, через которое проходит её тело. Значит, специализация зависит от расположения тела /все объекты, являющиеся им в различные моменты, мало отличаются друг от друга/. Интересно, что с телом связаны как наиболее светлые моменты души, так и наиболее чёрные. В первые оно может исчезнуть для неё в чём-то большем, во вторые – само быть не единым.
В связи с расширением общего уровня у тебя может возникнуть вопрос: неужели объекты, представляющиеся нам понятиями или художественными образами, т.е. созерцаемые на уровнях, много более глубоких, чем общий, могли когда-то быть обычными, такими, как ныне кошка или бриллиант? Приходится признать, что это так. Например, тяготение, понятие, охватывающее тяготение данного камня к Земле, тяготение Марса к Юпитеру, тяготение Земли к Солнцу, тяготение Солнца к Сириусу и пр., очень давно могло видеться как нечто живое, властно влекущее предметы вниз. Или возьмём сказочные образы русалок. Ещё недавно при лунном свете морякам случалось их видеть, но учёные установили, что это морские коровы – похожие на них животные. И тем не менее моряки видели русалок, а учёные – морских коров – первые приближались к центру, тогда как вторые оставались на общем уровне. Русалку, зримую весьма глубоко, находящееся на поверхности сознания расщепляет на множество различных животных, у которых имеются общие с нею признаки; среди них – и морские коровы. Конечно, это видение моряков было мимолётным, но очень давно люди могли видеть русалок подолгу и оставили о них свои предания. Что же мне мешает верить, например, Моисеевым или Иисуса Навина свидетельствам, воспринимаемым ныне как чудеса?
Когда-то Бог отделил от Себя первую человеческую душу и когда-нибудь примет последнюю.
Я думаю, что возможности этого языка не исчерпываются сказанным здесь. Может быть, я попытаюсь осмыслить на нём булгаковских Воланда со свитой, летающих мертвецов, вампиров и ведьм, покой, который обрели мастер и Маргарита. Мне кажется, всё это связано с тем, что после смерти души, видимо, не всегда сразу попадают на центр. Возможно, вблизи него – особый мир, населённый сказочными и мифическими существами. Возьми, например, дерево – обычно оно не кажется тебе единым, ибо по одной ветке ты не можешь угадать, какое оно, и видишь, что часто даже из оставшегося от него пня растут зелёные ветви. А что если где-то глубже общего уровня его можно созерцать как единый объект, вернее, как нечто живое, близкое к таковому, – ведь оно пульсирует? Очевидно, это нечто – уже не растение. Может быть, это дриада, о которой говорили греки, и к тому же её душа жила некогда среди нас?
Приступая к этому письму, я хотел только изложить то, что уже знал; но, попытавшись это сделать, я обнаружил, что придётся существенно переработать свои представления. Теперь они выглядят более точными, законченными и последовательными, и я благодарен тебя за это.
Если тебя заинтересует их предшествующая эволюция, прочти три небольшие работы, которые я посылаю, – это три отметки на моём пути; читай их в той последовательности, в которой они написаны. Что же касается стихов и толкований к ним, то они закончены ещё зимой, только мы никак не соберёмся их оформить для тебя. Когда это будет сделано, мы их пришлём.
Что мне делать ?
Киев, октябрь 1971 г.
Я согласен с тем, что в делах человека не может быть истины. Я думаю, что некоторый намёк на истину содержится лишь в той ускользающей красоте, которой обладают произведения его рук – будь-то художественные произведения или уравнения физики или машины. Эта красота не идёт вглубь до бесконечности, иначе произведения эти не были бы материальны. Они материальны потому, что состоят из мазков или обозначений или деталей, которые сами по себе уже не прекрасны. Но если другому человеку дано воспринять произведение, красота его в душе этого человека на одно мгновение уходит в бесконечность, и он не видит в нем материальных элементов, даже очень тонких. Тогда он видит истину.
Но именно благодаря этим элементам произведение искусства о чем-то рассказывает, уравнение физики несёт какую-то информацию, машина удовлетворяет какие-то человеческие нужды. Следовательно, во всем этом – рассказе, информации, нуждах – нет и не может быть истины. С этой стороны любое произведение ценно лишь потому, что указывает область, в которой нет истины. По мере развития физики или техники эта область расширяется, ибо новое уравнение охватывает неизмеримо больше явлений, чем старое, а новая машина удовлетворяет неизмеримо большим потребностям. Но обыкновенный человек, вникая в новое уравнение или пользуясь новой машиной, скоро понимает, что этим решаются какие-то побочные его проблемы, а главные, относящиеся к жизни и смерти, остаются по-прежнему нерешёнными. Тогда он думает, что его сделает счастливым вот эта новейшая машина, и вновь обманывается. Со временем он, может быть, начинает понимать, что истина лежит где-то за пределами всех бывших, настоящих и будущих произведений и единственная ценность содержания их состоит в том, чтобы хоть незначительно сузить область, где она есть. Впрочем, эта ценность не совсем единственная: некоторым на мгновение дано увидеть сужение до конца, и тогда перед ними встаёт истина.
И увидев в чём-либо бездонную красоту, я утрачиваю о нём все сведения, а утратив все сведения о чём-либо, я вижу в нём бездонную красоту.
О своих воззрениях я пишу и говорю. И всё время забываю, что истины нет и в моих словах. Вернее, я часто помню это, но полагаю, что сказанное мною всё же может быть другим полезно. Но если так действительно будет, то не благодаря мне, а потому, что это будет им дано; я же говорю им ложь. Но от этого мне не только не становится худо, а, напротив, я чувствую удовлетворение, как от полезного и доброго дела. Вот и сейчас я рад, что мне удалось написать всё это и тем кому-то принести пользу. Я знаю, что должен сознавать свою вину и мучиться ею – ведь по своей воле я делаю только зло, а если когда и выходит добро, то не благодаря мне. Но я отношусь к этому легко, и нет во мне раскаяния.
Для меня всё это очень подозрительно: как может человек служить орудием для добра, если он легко относится к самому страшному – так, будто лично его оно не касается? Недавно я случайно встретил одну знакомую, и разговор довольно естественно перешёл к неистинности почти всего, что нам дорого: как раз перед этим я размышлял о чём-то близком, а она стала говорить об одном учёном, который своей машине уделяет куда больше внимания, чем науке. Я объяснял, почему я думаю, что истины нет ни в машине, ни в науке самих по себе, и спросил, много ли они помогут тому, кто знает о своей близкой смерти. И спросил я об этом легко – я не испытал в этот момент ничего подобного ужасу и беспомощности человека в таком положении.
Я испытываю это тогда, когда беда грозит лично мне или моим близким, пусть даже очень отдалённо. Но тогда я ничего не пишу и ни с кем не говорю. Конечно, эту эмоциональную слабость можно отнести за счёт моей психастении: меня не хватает на то, чтобы страдать и одновременно что-то делать, и вообще чувства мои, как правило, бледны, если не вызваны тем, что касается меня прямо. Но не всё ли равно, из-за чего я не способен этим заниматься?
А, может быть, дело просто в том, что я не проникся всем этим, понимаю и принимаю лишь разумом, но не всем своим существом? Может быть, хотя я и вижу правильность того, о чём говорю, и есть в нём как будто такое, чего я ни от кого не узнал, оно всё же является внешним по отношению ко мне? Но тогда какое дело – моё?
Казалось бы, мне просто следует привести свои воззрения в согласие со своей натурой – считать, что в делах человеческих есть доля истины, – тогда, рассказывая о них /воззрениях/, я смогу думать, что творю добро. Но это у меня уже было, и долго. И ни на одних я не мог остановиться, и ни на одни не мог положиться в минуту страха. А на теперешние могу, и в них моя вера. Но делать здесь мне нечего.
О свободе
Киев июнь 1972
Якову Семёновичу Друскину
На следующий день после возвращения из Ленинграда я, как обычно, отправился в парки на склонах Днепра. Деревья ещё были в цвету, на аллеи, как снег, летел белый тополиный пух. Мне было чрезвычайно легко, и я подумал: вся тяжесть этой зимы и поездки с меня снята. Я чувствовал, что с меня снята тяжесть греха.
Но уже вечером этого дня, возвращаясь с работы, я не совсем понимал то моё состояние. И вот началось чередование ясных и смутных полос: то я был уверен – и экзистенциально, и теоретически – в том, что теперь безгрешен, то начинал сомневаться в этом и доходил до полной убеждённости в своём грехе. Были у меня и теории, стремившиеся сочетать то и другое, но и в них я не мог утвердиться. И я стал думать, что теперь я одновременно и праведник и грешник, праведный грешник, как говорит Я.С.Друскин; и что это чередование и есть действительное, экзистенциальное соединение того и другого, соединение самой моей жизнью.
Позавчера вечером я вышел из дому после дождя. На мокрой зелени лежали алые отблески солнца. Пока я доехал до парков, я убедился в том, что по крайней мере с того утра после приезда на мне нет греха. В парке мне не хотелось продолжать это размышление, но я всё же не утерпел и стал дальше обосновывать свою уверенность. И пришёл к выводу, что остаюсь безгрешен всегда, что бы я ни делал. Я снял даже все запреты, которые налагал на свои действия. Потом в моих размышлениях был перерыв, после которого эта уверенность заколебалась. Но на следующий день, по дороге и в парках, она вернулась, и я подтвердил снятие всяческих запретов.
И вот к вечеру этого дня я заметил, что возобновляются некоторые мои прежние мелкие привычки, от которых я почти было освободился, привычки, ощущавшиеся мною как грехи. От этого мне было немного не по себе, несмотря на убеждение, теперь всё более теоретическое, что грешить я не могу. На работе вопреки нежеланию терять свою свободу я взял на себя ответственность за изложение весьма большого отрезка материала и чуть не до обморока устал. Мне стало боязно за будущее, и я понял, что жить безгрешным я не могу. И всё же я не мог не видеть себя таковым. А к ночи мне стало ясно следующее.
Христос освободил меня от ответственности за мир и за себя, бесконечной ответственности, возложенной на меня Богом. Когда она была на мне и я изо всех сил тщился поднять её, на мне было проклятие Божие и грех, вина за то, что я не в силах нести эту бесконечную тяжесть. Тогда я сам пытался держать себя–медициной, изнурительными ритуалами, старательной учёбой, неустанными поисками постоянной работы, на которой, как мне было хорошо известно, закрепиться я никак не мог. Я сам пытался держать себя и мир и, несмотря на тяжесть и бесконечные навязчивости, философствовал, писал философские работы и даже написал пророческую книгу – «Исход к Знанию».
И вот Христос освободил меня и подарил лёгкость. Исчезли навязчивости, мнительность, заботы о будущем. Бог в Христе возвратил ответственность за мир Себе, Кому она и принадлежит, и слабость моих сил перестала быть моим проклятием и грехом. Мир, который был мне страшен, потому что я должен был, но не мог нести ответственность за него, стал прекрасен: теперь за всё отвечает Бог. Теперь не я держу себя, но Сам Бог меня держит.
Но вот я забыл об этом и взял на себя ответственность за что-то незначительное, например, за то, чтобы не заразиться от человека, который кашлянул в мою сторону: я думаю, куда бы мне хоть сплюнуть. И в этот миг, когда я вновь пожелал сам держать себя, Бог передаёт мне ответственность за всё, потому что нельзя отвечать за себя, не отвечая за целое мироздание. Я замечал, что начиная отвечать за одно, я неожиданно оказывался ответственным за другое, иногда на первый взгляд не имеющее к тому никакого отношения. Но я слаб и не могу нести такую тяжесть; поэтому я снова грешник. Я пал, когда пожелал взять на себя ответственность за малое.
И я падаю, когда беру ответственность за б̕ольшее, скажем, за то, чтобы справится со службой. И тогда, когда пытаюсь отвечать за большое – что бы мой ближний обрёл истину. Мне скверно тогда, я каюсь, и Господь всякий раз приходит и берёт мою тяжесть на Себя. И тогда я опять свободен.
Но бывает, что раскаяние не приходит ко мне. Так было в тот первый день на службе, когда, невзирая на желание сохранить лёгкость, я взял на себя ответственность за мою лекцию. Так было, когда я не сдержался и стал наставлять моего ближнего на пусть истинный, возложил на себя ответственность за него /верней, опять-таки за себя/. Оба эти греха привели к болезни, и я благодарю за это моего Господа.
Но если изложенная теория верна, я верю в неё и несу за неё ответственность. Тем самым я уже постоянный грешник и, следовательно, она неверна. Чтобы быть верной, она должна быть мною забыта – тогда я перестал бы за неё отвечать. Но тогда на мне, по-видимому, оказалось бы иго другой теории. Пока я хватаюсь за размышления, я отнюдь не свободен – я раб этих размышлений, а, стало быть, раб всего. Впрочем, этот вывод основан на данной теории, которая, таким образом, мною не забыта и потому неверна.
Вариация на систему Я.С.Друскина
Киев, 14-15 июля 1972
Бог абсолютно ответственен, ибо является единственным творцом сущего. Он также абсолютно безответственен, потому что нет никого, перед кем Он должен был бы отвечать. Он пожелал сотворить меня по Своему образу и подобию и возложил на меня Свою абсолютную безответственность, а абсолютную ответственность оставил у Себя. И Он отвечал за всё Своё творение, в том числе за меня, но я не видел этого – я не видел, что Он отвечает за меня, а я абсолютно безответственен. И Он пожелал, чтобы открылись глаза мои. И приступил ко мне змий и сказал: ты один и сам отвечаешь за себя. И вот в страхе я напряг все силы, чтобы поднять эту ответственность, но не смог, потому что нельзя отвечать за себя, то есть за свою неприкосновенность, не отвечая за весь мир, силы же, данные мне Богом, конечны. С тех пор я в постоянном напряжении – в старании взять на себя абсолютную ответственность – и вижу уже свою абсолютную безответственность и слабость, которыми теперь не живу. Когда я жил ими, я их не видел, потому что был слеп, теперь же, когда от крылись глаза мои, я могу видеть лишь их отсутствие, я могу видеть, что не вижу Бога, Который за всё отвечает.
Моё постоянное напряжение есть бунт против Бога, своеволие, потому что в нём я по мере сил стараюсь отвергнуть абсолютную безответственность, которую Он мне дал. Оно искажает мою душу, и в нём состоит мой грех. Напрягшись, чтобы поднять абсолютную ответственность, я пал во грехе. Мой грех не может нарушить Божью волю, потому что я могу лишь стараться взять на себя ответственность за себя, реально же мне это не по силам, ибо требует принятия ответственности за весь мир. Но он рождает иллюзию, будто я и впрямь могу держать и держу себя, а Бога, Который и меня и всё держит, вообще нет. В нём открылись мои глаза, но он и застлал их туманом, усыпил меня, и теперь во сне я вижу время и материальный мир. И бывает, что я не вижу не только своей абсолютной безответственности и Бога, отвечающего за меня и всё сущее, но и того, что я не вижу своей абсолютной безответственности и Бога. Тогда я вижу лишь мою иллюзию, мой сон.
Могу ли я освободиться от старания понести абсолютную ответственность, то есть проснуться ? Если моё старание и напряжение достигает невероятной силы, я просыпаюсь от ужаса и отчаяния, в вопле: это пришёл Христос и освободил меня от моего сна. Или, устав от усилия, я расслабляюсь и говорю: ведь на мне абсолютная безответственность, я могу этого не делать; я за это не отвечаю, за это отвечает Бог. И вот уже я не силюсь поднять какую бы то ни было ответственность, я уповаю на Бога и говорю: да будет воля Твоя. Я абсолютно свободен и безгрешен – хотя бы одно мгновенье.
Для этого недостаточно так подумать или принять решение: надо реально, экзистенциально оставить старание взять на себя ответственность, оставить напряжение, усилие. И нельзя даже сказать, что это надо – всякое «надо» предписывает не оставление ответственности, а принятие её, пусть даже это будет ответственность за оставление ответственности, то есть за свою душу – на деле опять-таки за весь мир. Мне именно не надо – не надо тщиться поднять бесконечность, не надо и думать или принимать решение, ибо и это не освобождение от ответственности, а старание принять её. Даже если я оставляю размышление, это не теоретический, не мыслительный акт, ведь размышление может лишь продолжить размышление, а не прервать его.
Всякое «надо» означает ответственность, то есть грех, только «не надо» – реальное, экзистенциальное «не надо» – есть безгрешность и абсолютная свобода. Могу ли я сам его осуществить? Что вообще я могу сам? «Я могу» значит «у меня мощь /сила/». «Я могу снять усилие» означает «у меня сила не иметь силы», то есть абсурд. Я могу именно прилагать усилие, именно стараться поднять бесконечную ответственность – бунтовать против Бога, грешить. Только Бог даёт мне утратить мою силу, отступить от абсолютной ответственности. Когда я в живой, экзистенциальной надежде на Бога отказываюсь от какой-либо ответственности – и тем самым от ответственности вообще,– когда, опустив руки, я практически отступаю от какого-то очередного дела, я вижу – не теоретически, а всем своим существом – свою абсолютную безответственность и то, что со мною Бог, Который за меня отвечает. Я вижу, что усилия мои ничего не ст̕оят, что не сам я себя держу, но Бог меня держит. Глаза мои открыты, и уже есть им, что созерцать.
Если эти акты не редки, я не утрачиваю хотя бы в̕идения того, что я не вижу – своей безответственности и Бога, – но и тогда я не застрахован от страха, боли, раздражения. Раздражают меня больше всего люди, которые от меня бесцеремонно чего-то хотят. В страхе, что пострадает моё достоинство в глазах человеческих, я забываю или отметаю мою безответственность и надежду и весь сжимаюсь в усилии себя поддержать. В в̕идении своего нев̕идения обезопасен и от боли. Бог посылает мне испытание на слабость, живое чувство безответственности и надежды, а я сознательно или бессознательно /рефлекторно/ напрягаюсь, чтобы его устранить. Когда, при несильной боли, я, наоборот, расслабляюсь, уходя таким образом от ответственности за свой организм, я уже не испытываю её. И страх может овладеть мною. Его вызывают обыкновенно события, грозящие существенно выбить мою жизнь из привычной колеи. Я не удерживаюсь от того, чтобы вникать в эти события, истолковывать их благоприятным для себя образом, даже инициативно участвовать в них. Я стараюсь взять на себя ответственность за них, вместо того чтобы внутренно отойти от них, экзистенциально зная, что Бог не попустит зла; тогда страх, поддерживаемый именно моим напряжением, исчезнет.
Да, не будь этого напряжения – старания взять на себя ответственность, не будь греха, не было бы ни боли, ни раздражения, ни страха. Под этими масками мою душу терзает напряжение, почти постоянно искажающее её, и оттого они так помогают друг другу, в особенности боль и ужас. Под разными личинами мою душу терзает грех. И для меня хорошо не поддаваться соблазну на гнев, боль, ужас б̕ольшим усилием, только усиливающим гнев, боль и ужас. Для меня хорошо снимать усилие – мягко делать то, чего хотят от меня, не добавляя от себя лишнего, расслабляться в безответственности и надежде, испытав боль или в виду пугающего события,– и тогда не терзание будет чувствовать моя душа, а чистую радость оттого, что она соединяется с Богом.



