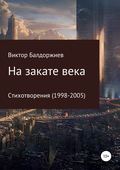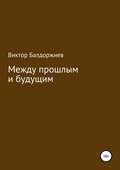Виктор Балдоржиев
Горизонты разных лет. Сборник рассказов
Вторая половина
XX
век
а
. Где эти люди сейчас?
– Сколько бухаешь, Вовка?
– Как всегда: пятница, суббота, воскресенье прихватил. А ты?
– Дай вспомню… Так это когда же я с армии-то пришёл? 1974 мы в леспромхозе пробухали, потом год – на подсобных дурака валяли, полгода на курсах учился, а дальше – армия… Да, в 1978 и пришёл.
– Сколько бухаешь, спрашиваю?
– Я и говорю, как с армии пришёл. Получается – 1978, 1979, 1980 и дальше, не просыхая.
– Ты чо, пустырник пил?
– Да нет, чумуру какую-то.
– Стёкла чистят? А запах от неё?
– Кипяток в ванную, туда пачку стирального порошка с хвойным экстрактом и ложись. Запах!
– Нее-ее «Красную Москву» даже не предлагай, хоть и запах хороший, но от неё глаза портятся.
– А «Шипр»?
– Вот эту наливай, на глаза не влияет.
– «Тройной»?
– «Тройной» – лучше всех. Водки не надо.
– Может быть, «Каберне» возьмём или «Варну»?
– Ты чо, дурак. Да «Каберне» и «Абрау-Дюрсо» только заборы красить, а с «Варны» ссать как лошадь. Лучше тормозуху тяпнуть.
– Вот это самогончик, вот это бормотуха, бражкой перекрыть и – готов!
– Хорошо пошла?
– Обещала вернуться.
– Так я ж в бражку и махорку добавляю.
– Пороху не пробовал?
– Пробовал. А ещё этого, мужик-то с палкой стоит.
– «Памир» что ли? Вот дурак, такую дорогую вещь портишь.
– Наценка, говорят, будет. Не 3 рубля 62 копейки за водку, а 4.12…
– Андроп гайки закрутил – уже некуда!
– Ну не гады, совсем задушили народ… Хлеб в прошлом году был 16 копеек, а в этом 18, теперь и водку наценят.
– Мой пьяным-пьяным пришёл, хоть выжимай.
– А чо мне начальство? Я не завяла и они не расцвяли…
– Чо это у вас пальцы, как суставчики? Коров говорите доили?
– Из этих суставчиков ишо ни одна нетель не вырвалась!
– Каво опять убили?
Где эта вольная жизнь и где эти вольные люди? Конечно, были, были и другие разговоры на бесконечно разные темы. В числе их и эти.
Иван Грозный и инженер-полковник Тренчик
Написал я этот рассказ, прочитав осенью 2017 года в новостях о том, что ВАК не лишил министра культуры России учёного звания, которого, по мнению знатоков, он не заслуживает. Надо было лишать или нет, не знаю. Что думают об этом читатели разных регионов, тоже не знаю. Но столичная информация пробудила во мне разные географические адреса, повлиявшие на мою судьбу. Каждый адрес воспоминание и, если хотите, погружение в самые светлые и чистые чувства, где ни единого пятнышка грязи…
На мне была новенькая форма и все прибамбасы дембеля-1975. До блеска начищенные ботинки, лихо заломленная фуражка, сержантские погоны, внутри которых какие-то пластины. На груди – бант значков от специалиста первого класса до «Отличника Советской армии». Блестит всё – лакированный козырёк фуражки, пуговицы, значки, ботинки, сам дембель и все его тридцать два зуба, одна из которых отливает золотом. Шик и блеск! Брюки-хаки, конечно, веером – модный клеш.
Но выделиться не получилось: в коридорах института таких, как я, на каждом шагу и за каждой колонной. С некоторой долей недоумения, смешанной с опаской, на нас смотрят гражданские, шушукающиеся у окон, видно, что они года на три-четыре младше нас. Девчата, пробегающие стайками, обдают волнами кружащих голову запахов. Хихикают в сторону и демонстративно не замечают нас. До них ли, до всех этих суетящихся, когда решается судьба! Документы сданы, даты экзаменов известны.
Времени в обрез, даже рассматривать с набережной китайский город Хайхэ некогда. К тому же Амур рябит сплошной серебряной чешуёй.
В общежитии я скидываю форму и в сотый раз открываю учебник истории. И опять на странице, где смотрит на меня бессмертный мальчик из пещеры Тешик-Таш, реконструированный М. Герасимовым. Так и говорит глазами ехидно: «Не сдашь. Заупрямишься и не сдашь!»
Захлопнув мальчика, листаю дальше. Иван Васильевич, который Грозный. Опять реконструкции Герасимова. Потом проваливаюсь в сон. Откуда-то издалека появляется инженер-полковник Тренчик похожий на Ивана Грозного и грозит мне пальцем: «Смотри у меня! О русском языке говорить не буду, немецкий ты немного знаешь, на историю налегай. На историю!»
Иван Васильевич Тренчик, когда прилетал к нам на точку в Южное Гоби на дежурство, всегда говорил мне, что поэзия никого ещё не прокормила, но если так милы гуманитарные науки, то лучше, конечно, стать историком. «Филология – дело женское!» – назидательно изрекал сухощавый инженер-полковник и перед моим носом трясся его твердый, обкуренный и с желтизной, палец, – «Но филологи – первые помощники при написании научных работ хотя и не получают ничего».
Мы стоим на ТО – техническом обслуживании. В это время за основную аппаратуру работает запасная, где-то в Казахстане. Основную чистим. Большинство офицеров части имеют учёные звания, а прапорщики – техники. Инженер-полковник занимается со мной историей. Вообще, он решил, что после дембеля мне надо обязательно поступать в институт.
Мальчик из пещеры Тешик-Таш давно пройден, но сержант Приходько всё время рассматривает его и кладёт книгу лицом мальчика на тумбочку. Некоторые буквы и нос мальчика на странице даже поистёрлись.
Сквозь сон слышу какое-то шелестение. Это, видимо, ребята с танцев пришли. Вот беспечные, завтра же экзамены… Погружаюсь, погружаюсь и снова оказываюсь на выносной, где мерцают экраны локаторов, огромная прозрачная карта-экран, испещрённая линиями и цифрами, за ней суетятся планшетисты, склонились над столами радисты, валяются чьи-то наушники. Пахнет спиртом, бензином, маслом.
Вся точка занята ТО.
Своё техническое обслуживание в аппаратной ЗАС я давно сделал, щётки спиртом протёр, лампы проверил, клеммы прочистил. Теперь слушаю полковника Тренчика.
Он открывает учебник истории и говорит, придавая самое серьёзное значение исторической науке: «Следующий у нас – Иван Васильевич Грозный. Тёзка мой. Сволочь, конечно, полстраны угробил. Ну ладно, к тебе это не относится. Итак, Иван Васильевич Грозный – стал царём в три года. Ещё жопу не умел подтирать, а правил… Надо же! Венчался на царство в 17… Как это венчался? С кем?»
Два часа с дотошным инженер-полковником изучаем царствование Ивана Грозного. И всё равно получается, что Курбский был прав, а царь уничтожил много народа. «Сволочь, а не царь. Крымские татары Москву сожгли при нём! Ладно, это к тебе не относится… Идём дальше. Запоминай главное, сержант: Земской собор, 1549 год. Нет, не так. С начала надо. Записывай – 1530 год, родился, 1542 год – переворот в Москве. Напугали, видимо, тогда парнишку… Глинские… 1547 год – отправился воевать Казань. 1558 год – начал войну с Ливонией. Приходько! Ливонию знаешь? (Нет, товарищ инженер-полковник, я Литву знаю, а Ливонию не знаю…) Ладно, продолжай чистить, клеммы не перепутай…»
Вижу Грозного младенцем, мальчиком, мужем, сволочью тоже вижу..
Приходько чистит спиртом аппаратуру, почему-то к нему наклонился зампотех капитан Тимофеев, которого вообще не должно быть здесь. Инженер-полковник увлёкся историей и продолжает: «…Курбский, царь… Так, так, снова женился. Теперь на Марии Собакиной… Четыре раза был женат. Ну не сволочь, а? Тимофеев, что там делаешь возле спирта? (ЗИП у меня здесь, товарищ инженер-полковник)… Я дам тебе ЗИП, все ЗИПЫ твои пооткручиваю… Слушай дальше… Ни фига не могли эти опричники против крымских татар сделать… А страну гробили. Новгород казнили, Москву казнили… Что тут пишут «Вся земля пустее…» В общем, сволочь, а не царь. Но это тебя не касается. Учи Земской собор… Тимофеев, где твой ЗИП, покажи! Как нанюхался? Нюхалкой пьёшь?»
Просыпался я тяжело, в голове всё еще гудел инженер-полковник Тренчик. Облачившись в дембельскую форму с блестящими побрякушками и прибамбасами, я отправился в институт.
Экзамены принимала пожилая смуглая бабушка в накинутой на тёмное платье белой кружевной шали, с толстыми очками на большом загнутом крючком носу. Большие чёрные глаза за очками всё время вопрошали. Она с демонстративным интересом взглянула на мою форму, особенно на брюки-клеш (вопросительно), загадочно хмыкнула и показала на нарезанные из тетрадного листа билеты, которые ровными белыми прямоугольничками вниз текстом и вверх номерами, лежали перед ней на столе.
– Выбирайте, товарищ… как вас… сержант…
Конечно, мне достался – «Иван Грозный и Московская Русь в эпоху его царствования». Знакомая до зубной боли тема.
Конечно, я сказал об Иване Грозном всё, что думал о нём инженер-полковник Тренчик, чему чрезвычайно радовалась бабушка-экзаменатор, по всей видимости, симпатизировавшая князю Курбскому. Но вердикт не соответствовал её оживившему при моём ответе состоянию:
– Товарищ сержант, за ваши соловьиные трели я ставлю вам два. Это даже много. Интересно бы знать – где и кто вас учил истории?
Через два дня я сдал документы на отделение филологии. Экзаменаторы остановили меня на половине «Евгения Онегина», а рассказать я мог бы весь роман… И всю жизнь зарабатывал на хлеб писанием научных трудов разным военным и не военным, желавшим иметь учёное звание, хотя и это отделение не окончил, перейдя на работу учителем русского языка и литературы в среднюю школу, а оттуда судьба моя покатилась колобком, пытаясь уйти от всех ловцов и опричников.
Мой брат Петька…
1.
– Витьки у вас не было, тёть Маш? В школе его спрашивают.
– Был. Куды ж он денется. Ускакали они с Петькой в степь на тракторе. Вождением занимаются, – отвечала тетя Маша, сгорбленная десятилетиями работы в колхозе женщина, мать Петьки.
Лучистые глаза её в мелких сетях морщин чуть-чуть посмеивались.
– Водку, наверное, пьют снова, – говорила соседка тёти Маши, только пришедшая из школы.
Она там учила младшеклассников.
– А может и пьют. Взял Петька сало, яйца, зелень с огорода насобирал, – спокойно говорила тётя Маша, щурясь на тёплый багровый закат, разгоравшийся над ближней сопкой так, что насквозь бронзовели высокие травы и кони, пасущиеся на горизонте.
В деревню спокойно вышагивали, покачиваясь, коровы. Целое стадо. Над ними облачками мельтешили комары и мошкара. Тоже бронзовые в лучах заходящего солнца.
Тётя Маша разговаривала с молодой соседкой у штакетной калитки, над которой нависали густые ветви старого тополя, морщинистый ствол дерева прятался с густых охапках листьев, повисших на ветках. За соседками виднелось уютное крыльцо со скамеечкой, коричневая дверь в сени. Оттуда появлялась баба Феня, высокая и жизнерадостная старуха, сестра тёти Маши. Она была лет на пятнадцать старше тёти Маши, но казалось, что на столько же моложе её.
Витька – это я. Петька – мой брат.
Я всегда знал сестёр, тётю и мать Петьки, такими – высокая и стройная в семьдесят лет, сгорбленная и суетящаяся в пятьдесят пять. Оба всю жизнь работали в колхозах и совхозах, пока не осели здесь вместе с Петькой. Он был единственным мужчиной, надеждой и опорой двух старух, которые сами того не зная, незаметно, год за годом, с рождения, превращали свою кровиночку в иждивенца. Умная воронежская кровь Петьки, смешанная с кровью сибиряков, не хотела становиться нахлебником, сопротивлялась и бунтовала, но любовь была упорной и настойчивой. Всё лучшее Петьке, последний вкусный кусок Петьке, рубль остался на хлеб – Петьке. Сопротивление Петьки слабело год за годом. Вот и водочку он стал попивать и меня к этому приучать…
Мы были с ним братьями. Не с рождения, с малых лет. В те далёкие годы тётя Феня трудилась где-то в другом колхозе, а тётя Маша работала у нас ветфельдшером. Днями и ночами моталась по степи на пароконной телеге. А Петьку оставляла у нас. Он был ровесником моему брату, значит, старше меня на четыре года. Мы пока росли, стали братьями… Кем ещё друг другу мы могли стать?
Вождением мы занимались потому, что обязаны были заниматься. После школы Петька работал учителем машиноведения. Попробовал поступить в какой-то техникум, не получилось. Поступил заочно в институт. Он хорошо разбирался в технике. От природы был механиком. Вот и пригласил его вторым учителем машиноведения Валерий Николаевич Федурин, старый учитель, с большим стажем. Петька стал Петром Федоровичем Соколовым. Потом он сходил в армию, вернулся красивым русым сержантом. Снова стал преподавать.
А я в это время заканчивал десятый класс. В школе было два трактора. На новеньком МТЗ-50 Петька обучал старшеклассников вождению.
Со мной занимался отдельно.
Мы уезжали с ним на нашем тракторе в степь, брали бутылку водки, закуску и допоздна сидели на берегу озера, беседуя и рассказывая друг другу стихи.
– Ну, брат, поехали! – добродушно говорил Петька, протягивая мне гранённую рюмочку водки и пододвигая кусок чёрного хлеба, на котором белело сало.
Мы называли тёти Машину скатерть, которую он возил в тракторе, самобранкой. Чего только не ней не перебывало. Сегодня были яйца вкрутую, сало, лук, чёрный хлеб. И соль. И водка.
Мне ещё и 17 не было… Я бодро опрокидывал рюмку. Водка жгла недолго, потом тёплая волна прокатывала по телу. И мы на миг воспаряли над степью. Русые Петькины вихры отливали закатным жаром солнца. Так легко и радостно было сидеть в степи и смотреть на травы у новенького трактора.
– Май весёлый… – пело в груди.
– С белыми ночами, – задумчиво продолжал Петька.
И вдруг, остановившись, поворачивался ко мне:
– На охоту поедем?
После второй рюмки:
– Человек человеку – не друг и не враг, но подобие его. В общем, брат. Как ты думаешь?
Я думал также…
Было это в сентябре 1972 года. Сейчас зима 2018 года. Он третий год в могиле. Умер от водки. И я уже не ругаю его за пьянство, как при жизни. Все вспоминаю, вспоминаю…
Обязательно вспомню и расскажу о них, двух воронежских бабушках, которые жили в сибирской деревне, со своим Петькой. Пока не грянула перестройка с последующей перестрелкой и перекличкой, на которой уже нет ни бабушек, ни Петьки. Они ушли, как жили, без укора и обиды. Их дом сегодня оседает в землю рядом с моим. И смотрит на мир пустыми глазницами окон. Там обязательно поселятся хорошие люди.
Так должно быть.
Ах, да вспомнил: за всю свою пьяную и трезвую жизнь Петька не произнёс ни одного матерного слова. Не умел…
2.
Интересно, что у сестёр были разные диалекты. Баба Феня сохранила воронежский, который тёте Маше не шёл, она уже вся была забайкальским человеком и речь у неё, конечно, тоже была забайкальская.
– У нас в Рязани грибы с глазами, они глядять, а их ядять. Наречие у нас такое! – Смеялась задорно баба Феня.
Ей тогда ещё и семидесяти лет не было, глаза молодо лучились, и вся она светилась былой красотой, как заходящее за тучами солнце в пасмурный день.
– И каво ты вспоминаш? Пошто о ём говорить? – Беззлобно спрашивала тётя Маша, хотя прекрасно понимала «каво вспоминат» её сестра.
Вспоминала она, конечно, Воронеж. Не то сам город, не то село, где она когда-то жила, не забыла, видимо, тосковала и сохранила до самого ухода в иной мир свой говор или наречие, как она выражалась.
Мне довелось изучать этот говор, который относится к рязанской группе. Изучал и сибирские диалекты, на одном из которых говорила мать моего брата Петьки. Родные сёстры, но речь совершенно разная. Так распорядилась судьба.
Почему занесло их сюда, в забайкальскую степь, из села Малоархангельское Воронежской области, какие ветры их пригнали или сами подались? В памяти у меня остался только смутный рассказ бабы Фени о том, как они ехали по железной дороге в 1940 году со множеством других людей на восток. Она – тридцатилетняя и сестра её – пятнадцатилетняя. Почему вдвоём? Как они оказались вдвоём? Где родители? Почему они оказались в этом вагоне?
– Во-во, кочет кур гоняеть! – задорно восклицала баба Феня, глядя в окно, где гомонило большое хозяйство тёти Маши.
Глядя на это хозяйство, я всегда вспоминал утро Чичикова у Коробочки. Вот он, ещё сонный после мягчайших перин, подошёл и окну и видит во дворе галдящих кур, гусей, уток, овец, а какая-то ленивая и обожравшаяся всякой всячины свинья мимоходом съедает зазевавшегося цыплёнка. О какой сытости и каком достатке говорит этот факт!
Конечно, тётя Маша ни при каких обстоятельства не могла напоминать Коробочку, но хозяйство… Куда денешь бережливость и рачительность?
Через много лет я вижу этот дом и хозяйство совсем другими глазами. Эти люди ни одним движением не превращали свою жизнь в мучительную для себя каторгу, которую я наблюдал и наблюдаю повсюду. Даже весь домашний мусор у бабушек был отсортирован.
Тётя Маша обладала каким-то особым даром выращивать свиней. Гладких, жирных и чистых. Всегда двух. По весне покупала двух поросят и до поздней осени они вырастали в огромных белых свиней. Главным забойщиком был я. В конце ноября Петька звал меня. Стрелял он сам из своего ружья. Всё остальное делал я. Работа эта мужская, требует чистоты и аккуратности. Опаливали лампами. На всякий случай держали старую и чистую рессору от тракторного прицепа. Если была необходимость, я добела накаливал рессору. Обычно, она нужна при обработке ног или ушей.
Баба Феня ласково смотрела на нас в окно, а тётя Маша возилась возле меня и Петьки со свиной требухой, кровью, осердием в тазах.
Морозы стояли крепчайшие, и вся даль до горизонта была покрыта белым, искрящимся, снегом. Ближняя сопка была усеяна весёлыми ребятишками, которые скатывались на санках и лыжах.
К вечеру свинья или по местному «чушка» была опалена дожелта и разделана. Вот уже загорелись электрические лампочки окна в деревне, а на печи тёти Маши клокотал полный чан мяса, картофеля, лука, овощей. Умопомрачительные запахи плыли по избе!
На столе дожидались нас огурцы, помидоры, грибы и прочие разносолы, фрукты, вареные яйца. А бабушки ещё не спеша лепили пельмени. И, конечно, посередине этого обильного стола блестела запотевшая бутылка водки и сверкающие рюмки. Всё это для нас с Петькой.
Бабушки, насколько мне известно, никогда даже и не пробовали водку. Они полагали, что мужик просто обязан выпить рюмочку-другую. Об алкогольной отраве в 1970-х никто даже и не думал.
Как говорится, чистая, как слеза…
После первой рюмки Петька зачем-то вышел на улицу.
Я невольно услышал как баба Феня выговаривала своей сестре:
– Хоть бы один раз приехал однорукий чёрт! Он же весь в него, = кивнув вслед вышедшему Петьке. – Весь!
– Да што ты всё время его вспоминаш? – всплеснула руками тётя Маша. – Двадцать пять лет не было и ишо столько же не надо. Оставь, Феня, этот разговор. Петька идёт…
Через много лет я узнал, что отцом Петьки был однорукий фронтовик из соседнего района Фёдор Соколов. Узнал об этом и Петька. Но сейчас он зашёл с мороза, ополоснул руки под рукомойником и весёлый сел за стол.
– Наливай, брат! Подцепляй грибочки-то.
Да… «На них глядять, а их ядять…»
О том, как Ваську съели
Добродушный увалень Володя Левченко в своё время объездил все степные просторы СССР. Он и тракторист, и сталевар, и крановщик, и грейдерист. Килограммов за сто двадцать весил в молодости. Лицо широкое, сам шутил; из-за бочки только уши видны.
Рассказчик отменный.
Друзья уговаривали его писать прозу. А он – нет, рассказы мне ни к чему, если я – поэт. Но никто его стихотворений всерьёз не воспринимал. Рассказы слушали, как говорится, открыв рты и затаив дыхание. Конечно, все они были художественными, яркими, насыщенными, но самое главное – они были реальными случаями из жизни, в правдивости их никто не сомневался.
Один из рассказов я запомнил на всю жизнь.
– Тарбаган говоришь? Это же обыкновенный сурок. Их несколько разновидностей. Видел я их, почти всех видов! Самые крупные в Казахстане. Я там на целине был. Мы такие просторы распахивали! Даже голова кружится от воспоминаний! Вот там и были эти тарбаганы. Видимо-невидимо. Байбаками их называют в Казахстане.
Правда, байбак будет покрупнее здешнего тарбагана, но более, как бы сказать, рыхлый что ли… Ерунда, что их нельзя приручить. Ещё как можно. Хватать их, конечно, надо умеючи. Если вцепится, не оторвёшь. Он сомкнёт клыки, как клещи. И не разожмёшь! Так и помрёт вместе с тобой.
Наш тарбаган покрасивше будет байбака. Наш – более насыщенный цветами, иногда и чернотой, и серым отливает. А байбак песчаного цвета, разве что брюхо у него темноватое, да ещё брови пятнистые. Ест он разную траву, любит овёс. Если в степи растёт дикий овёс, значит, поблизости может быть и колония байбаков. Мясо его вкусное, не хуже, тарбаганьего. Байбака едят все. Птицы, люди, хищники всякие. На целине мы только его и ели. Даже дома довелось держать.
– Приручал что ли? – спросил кто-то.
– Конечно, на целине. Мы распахали такие просторы, где, наверное, миллионы байбаков жили. Сейчас их мало. Либо они ушли, либо вымерли, либо перебили всех. Но навредили мы ему целиной здорово.
Однажды я поймал байбачонка. Бегают они медленно. Я был на пахоте, издалека его увидел, он, видимо, далеко от норы отошёл. Остановив трактор, я быстро догнал его, накрыл телогрейкой, а потом взял за шкирку… Положил в армейский ящик, который был у меня в тракторе. Привёз домой.
Васька быстро стал ручным. Разжирел сильно. Правда, накопал вокруг дома и под домом нор с разными ходами и выходами. Я даже бояться стал, что дом упадёт. Ребятишки мои привыкли к нему и всё время играли с ним. В общем, стал своим. Бегал, путался под ногами, еду выпрашивал. Зиму он проспал в подполье, была у него там дыра откопана.
К осени следующего года разжирел до не могу.
– А что потом? – спросил я, перебив внезапно рассказчика.
До сего дня я жалею, что остановил Володю.
– Что, что. Как-то приехал ко мне брат. По пьянке мы зарезали и съели Ваську…
С тех пор я перестал слушать рассказы Володи Левченко.