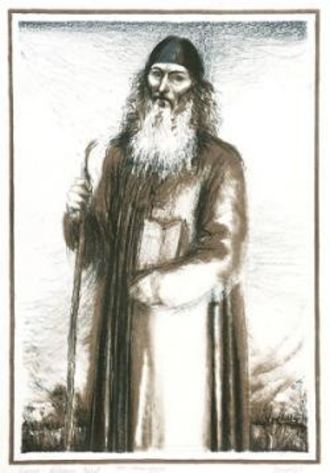
Венедикт Александрович Мякотин
Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность
Проявление невежества и суеверия в этой жизни по временам останавливали на себе внимание отдельных мыслящих и более просвещенных людей московского общества и порой вызывали даже у некоторых церковных иерархов стремление исправить зло, но такое исправление было, при данных условиях, очень трудно, и благие пожелания оставались неисполненными. В своей среде не хватало для этого необходимых сил в виде образованных людей, а на тех людей даже православного Востока, которые могли бы взяться за такое дело, в Москве готовы были смотреть как на еретиков в то самое время, как национальное самомнение в связи с уважением к обрядности заставляло видеть неприкосновенную святыню в каждой букве священной книги, в каждой подробности родного обряда. Характерна в этом смысле история Максима Грека. Ученый афонский монах, он приехал в Москву для разбора великокняжеской библиотеки, и здесь ему поручили просмотр и исправление церковных книг, испорченных невежественными переписчиками. Его исправления вызвали, однако, сильные жалобы: “велию, о человече, – говорили ему московские люди, – досаду тем делом прилагавши в земли нашей чудотворцем: они бо сицевыми книгами благоугодиша Богови”. Максим подвергся обвинению в ереси и был заточен в монастырь. Один из помогавших ему писцов рассказывал впоследствии, что великий ужас и трепет объяли его, когда Максим велел ему вычеркнуть несколько строк в исправляемой книге. Великий ужас и трепет охватывали и большую часть московского общества всякий раз, как оно видело покушение изменить что-либо в родной “святой старине”. При таком положении усилия отдельных иерархов церкви не приводили ни к какому результату и, оканчиваясь постоянно поражением, все более ослабевали. В текст богослужебных книг широкой струей вливались различные ошибки, а люди, пытавшиеся противодействовать этому, платили за свои попытки годами жестокого заключения, как это было с архимандритом Троицкой лавры Дионисием. Под знаменем исключительного русского правоверия освящались все частные заблуждения, приобретая характер национального отличия и религиозного догматизма. Восставать против них значило идти против народности и религии и немудрено, что такие восстания влекли за собою тяжкую кару как нарушение извечных порядков, освященных всем авторитетом народного предания.
Так, узконационалистический принцип мессианизма в конечном своем развитии поглотил все соединившиеся с ним элементы, по отношению к которым он первоначально играл лишь служебную роль, и, приобретя первенствующее значение, вместе с тем, неизбежно исключал всякое сознательное и живое стремление вперед. Проповедуя безусловное поклонение старине, он вел к полному застою умственной жизни народа и заграждал ему все пути дальнейшего развития. Конечным словом, последним результатом этой долго слагавшейся системы была полная остановка умственного роста народа, замерзание его на однажды выработанных точках зрения, отречение от всего остального человечества во имя своего идеального совершенства и медленная смерть за китайской стеной, воздвигнутой его собственными усилиями. Но в то самое время, когда договаривалось последнее слово этой теории, в народной жизни возникло иное стремление, которому суждено было разбить крепкую броню национальной исключительности московского общества и вывести его на более широкий путь развития. Такое стремление было вызвано теми условиями политической обстановки, в каких очутилось Московское государство с началом XVII века.
Исходным пунктом религиозно-националистических идей Москвы послужили ее политические успехи, которые помогли ей создать единое государство из разрозненных северорусских земель и удачно защищать затем самостоятельность этого государства от враждебных покушений на нее. Почти до самого конца XVI столетия продолжались эти удачи Москвы в области внешней политики, совершаясь за счет ее соседей. В том тесном круге политических отношений, в котором вращалось Московское государство до последних десятилетий XVI века, оно одержало несомненное, хотя и не полное торжество, и немудрено, если возбужденному воображению москвичей при их ограниченном политическом кругозоре это торжество представлялось победой русского правоверия над латинством и мусульманством и в нем готовы были провидеть начало соединения всех царств под руку светлого и благоверного царя московского. Но именно эти внешние успехи и послужили затем толчком к изменению отношений между Москвой и ее соседями, постепенно повлекшему за собой весьма серьезные перемены как в государственном строе Москвы, так и в складе самосознания ее населения. Дело заключалось прежде всего в том, что путем своих успехов в международных отношениях Московское государство вышло на более широкую политическую арену и вызвало против себя более грозные силы, чем те, с какими ему приходилось считаться раньше. Из-за старых врагов Москвы – Литвы и татар, от которых она обороняла русскую землю, в конце XVI века поднялись новые и гораздо более опасные в лице Польши и Турции. Нельзя сказать, что теория, ставившая Москву центром и главою православия, не предвидела таких результатов: она указывала на необходимость борьбы, которая теперь возникала, но, утверждая свои теоретические положения, плохо рассчитала их отношение к действительности. Когда московское правительство, расширяя свои завоевательные планы, попыталось пробиться к морю и приобрести Ливонию, оно натолкнулось на энергическое сопротивление Польши и Швеции и потерпело в этой борьбе решительную неудачу. Вслед за тем и вообще отношения Московского государства с Польшей на некоторое время приобрели характер как раз обратный тому, какой имели отношения Москвы с Литвой. Пользуясь тяжелым положением государства, разоренного борьбой и потрясенного внутренними смутами, Польша, в свою очередь, перешла в наступательное положение и с оружием в руках внесла даже католическую пропаганду в русские пределы. Лишь грандиозное напряжение сил народа сохранило Москве ее самостоятельность и восстановило равновесие боровшихся сторон, и лишь восстание против Польши Малороссии и присоединение ее к Москве вновь доставило последней перевес в этой борьбе. Но наличие других опасных противников в лице Турции и Швеции заставляло ее, тем не менее, все увеличивать напряжение своих сил.
Так, первым результатом перемены в положении Московского государства было расширение арены его международной борьбы и увеличение опасности последней. Такое расширение, в свою очередь, повлекло за собою сближение московской политики с аналогичной ей политикой некоторых западноевропейских государств и усиление дипломатических сношений. В XVII веке политический кругозор московских людей делается таким образом шире: Москва ведет борьбу с более значительными государствами и временами вовлекается в планы иных держав, государств западноевропейского мира, с которыми заключает союзы для совместных действий против общих врагов. То и другое обстоятельства, сами по себе еще не особенно важные, приобрели крайне серьезное значение, как скоро оказалось, что Московское государство, оставаясь при старых средствах, не в силах удовлетворить требованиям нового своего положения.
В самом деле, силы противников были настолько велики и настолько лучше организованы, что борьба с ними являлась для Московского государства чересчур тяжелой, несмотря на самое настойчивое напряжение сил народа в рамках старой системы, несмотря на доведение этой системы до ее последних крайностей. Московская армия, хотя и увеличенная в несколько раз, оказывалась неспособной устоять перед западными регулярными войсками; московская казна, невзирая на все увеличивавшиеся поборы, от года к году пустела, и государство видело себя вынужденным изыскивать новые средства борьбы. Такие средства имелись в руках иностранцев, как убедили в том враждебные и мирные сношения с ними, и в видах самосохранения государство прибегло теперь к заимствованию этих средств. Под влиянием осознанной нужды начались приглашения иностранцев на службу московского государя и поселение немалого количества их в Москве, результатом чего для московского общества явилось и некоторое знакомство с западноевропейской культурой.
По мере расширения такого знакомства в общество стали проникать и новые идеи. Это общество, так гордившееся своим превосходством, внезапно увидело себя в положении настолько затруднительном, что не могло выйти из него собственными силами и должно было обратиться к чужой помощи, к тем самым нечестивым иноземцам, которые занимали такое низкое место в его мнении. Уже одним этим наносился тяжелый удар взглядам, воспитавшимся на почве исключительного национализма, но он сделался еще чувствительнее, когда призванное на помощь иноземное влияние переступило те границы, какие были первоначально ему указаны. Пользуясь помощью иноземцев в деле развития военной техники, к которой вскоре присоединилась и промышленная, московское правительство, равно как и общество, вовсе не думало изменять своих общих взглядов на чужие земли. Но такое изменение являлось уже только вопросом времени после того, как пробита была первая брешь в стене национальной исключительности, преграждавшей раньше доступ всякому чуждому влиянию. К половине XVII столетия число поселившихся в Москве иностранцев достигло весьма значительной цифры. Около этого же времени совершилось присоединение Малороссии – страны, которая, благодаря особым условиям своего существования под польским владычеством, успела развить у себя в значительных, сравнительно с Великороссией, размерах просвещение, сосредоточив его по преимуществу на религиозной почве. Служилые иноземцы – с одной стороны, малороссы – с другой, доставили московским людям богатый материал для сравнения их жизни с чужою, и выводы, какие явились из подобного сравнения, способны были поразить своею неожиданностью. Русские люди при сопоставлении себя с чужеземцами стали сперва смутно, потом все более и более отчетливо сознавать ту истину, которую давно уже повторяли наблюдавшие их жизнь иностранцы, но которая до сих пор была решительно чужда самому русскому обществу, именно, что оно страдает отсутствием настоящего образования. Перед этим обществом раскрывалась иная, неизвестная ему раньше жизнь, иной мир, и сравнение его с московским бытом порождало мысль о коренном различии между ними: один представлялся построенным на образованности, на науке, в другом последняя совершенно отсутствовала, так как “русские люди… в государстве своем научения никакого добраго не имеют и не приемлют”. Первый был богаче, сильнее, искуснее второго и манил к себе всеми наслаждениями, какие могла обещать высшая и более утонченная культура. С того момента, как сознание этого различия проникло в среду московского общества, мир последнего был нарушен. Оно увидало теперь необходимость в общении с другими народами подвергнуть проверке систему, созданную им в то время, когда народ впервые увидал себя заключенным в одно государство, и, как раньше его самосознание выработалось под влиянием отношений к соседям, так теперь изменение этих отношений повело к критике ранее выработанных формул.
Естественно, такая критика появилась не сразу. Ей предшествовали простые заимствования от иностранцев в области материального быта. Как государство стремилось перенять у иноземцев их военную и промышленную технику, так отдельные лица, по преимуществу из среды высшего класса, стали перенимать подробности домашней обстановки, ввозить к себе продукты европейской промышленности и искусства. Следом за этой первоначальной стадией заимствования неизбежно являлась, однако, и вторая, более сознательная, в виде пробуждения критического отношения к родной обстановке, в результате которого возникали неудовлетворенность старыми формами жизни и стремление ближе ознакомиться с иноземной культурой, и с помощью ее исправить домашние непорядки. К половине XVII столетия в Москве было уже немало лиц, которые стремились к разнообразным заимствованиям от иноземцев, начиная с внешних форм и кончая не существовавшим на Руси светским образованием. Но на этот путь ступила только одна часть общества. Другая увидела в переменах, прокрадывавшихся в московский быт, начало измены извечным преданиям православия, и это побудило ее еще крепче ухватиться за эти предания, еще настойчивее пропагандировать их. Однако и эта часть общества под влиянием событий потеряла свое прежнее спокойно-горделивое настроение. Неудачи Московского государства и перемены, происходившие в русском быту, внушали ей тревожные опасения за будущее Москвы, еще недавно рисовавшееся в таком лучезарном свете. Для людей, отождествлявших Москву с третьим Римом и московский быт с православием, перемены этого быта знаменовали собою падение последнего центра правоверия и предвещали близкую кончину мира. Для того и другого назначались даже определенные сроки, и эти мрачные предсказания встречали большое внимание среди возбужденного общества. Между прочим, широкую популярность приобрело предсказание так называемой Кирилловой книги, составленной черниговским протопопом Михаилом Роговым. Согласно ее указаниям, сатана был связан на 1000 лет после Рождества Христова и это была лучшая эпоха в истории церкви; после нее совершилось отпадение римской церкви в латинство, через 600 лет Западная Русь отпала в унию, а через 60 лет той же судьбы должна была остерегаться Русь Восточная.
Таким образом, ближайшим результатом сближения с иноземцами, вызванного нуждами государства, явилось разделение общества на враждебные партии. С какого бы пункта ни начиналась эта вражда, она неизбежно приводила противников на почву церковных порядков, так как весь государственный и общественный быт Москвы, до мельчайших его подробностей, в сознании людей той эпохи проникался и освящался религиозным принципом. Развитие государственной жизни подготовило борьбу среди московского общества и определило ее поприще. Дело стало за борцами, и они не замедлили явиться.







