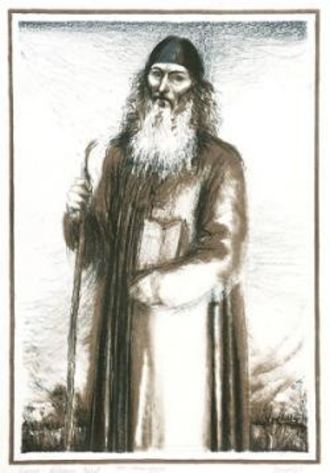
Венедикт Александрович Мякотин
Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность
Малоубедительными оказывались для Аввакума ввиду его руководящих принципов и возражения, производившие особенности русской церковной жизни от невежества прежних иерархов и призывавшие склониться перед ученостью греков и малороссов. В его глазах православие и невежество скорее могли быть синонимами, чем православие и наука, и он с особенной, понятной только с точки зрения всего его миросозерцания, иронией противопоставлял невежд-русских ученым грекам. “Русские бедные, пускай глупы, рады мучителя дождались, полками в огонь дерзают за Христа Сына Божия-Света. Мудры б… дети греки, да с варваром турским с одного блюда патриархи кушают рафленые курки. Русачки же миленкие не так, – в огонь лезет, а благоверия не предаст?” Исправления, сопровождаемые ссылками на практику иных церквей и на авторитет чужестранных ученых, уже в силу одного этого основания своего, подрывавшего учение об исключительном русском правоверии, приобретали в сознании Аввакума вид ереси, готовой поглотить и последний народ, оставшийся еще чистым от нее, одержать победу над православием в последнем его убежище. “Иного же отступления нигде не будет: везде бо бысть; последняя Русь зде”, – писал он. Мотив религиозный в его протесте, таким образом, не только сливался с национальным, но в значительной мере и вытекал из последнего. Не грекам, которые “потеряли своего царя”, так как отреклись от “благочестия”, предстояло учить чему-либо русских людей; лишь из Москвы мог изливаться на народы свет православия, и всякое действие, знаменовавшее собою отступление от этого общего взгляда, как бы оно ни было мелко по внешности, открывало собою и начало ереси.
Связь “царства” и “благочестия” имела, впрочем, в понимании ревнителя русской старины еще и другое значение. Правоверие не определялось, по его взгляду, личным разумом отдельного человека, но вместе с тем, судьба этого правоверия не зависела и от свободной воли отдельных членов церкви. Охрана его возлагалась на иерархию, которая и должна была наблюдать за действиями и мнениями своей паствы, ведя последнюю по правому пути и требуя от нее беспрекословного повиновения; так поступал сам Аввакум, будучи священником, того же требовал он и от других. Но обязанности такой охраны лежали, на его взгляд, не только на духовной иерархии, а и на светской, по крайней мере, в лице главного ее представителя, царя: последний должен был заботиться о чистоте своих подданных и отвечал за них перед Богом. К царю как к верховному охранителю православия и обращался Аввакум в одном из своих посланий: кто бы решился порицать русскую церковь, “аще бы не твоя держава попустила тому быти?” Таким образом, главную роль в деле религии для него играло не внутреннее самоопределение человека, а внешняя принудительная сила власти, церковной и светской, которая получала при этом в свои руки и соответствующие средства. Всякое отступление от определяемых религией правил, совершалось ли оно в области практической жизни или в сфере теоретической мысли, неизбежно должно было, по воззрению протопопа, повлечь за собой наказание, причем это последнее не ограничивалось собственно духовными мерами, но распространялось на телесную природу преступника. В руках священника как пастыря душ находилось не только духовное оружие, но и палки, цепи и т. п., и те же самые средства должны были служить и светской власти при защите ею веры. Грубая сила являлась средством для поддержания церковной дисциплины, она же служила охраной и для самой веры. По отношению ко всякого рода еретикам проповедовалась полная нетерпимость, и преследование их вменялось в обязанность и духовной иерархии, и светской власти. Так в послании к Алексею Копытовскому, одному из учеников своих, Аввакум советовал ему побить палкой другого раскольника за неправильные его мнения и грозил проклясть последнего, если он не исправится. Проклятие – крайняя мера со стороны лица духовного, но упорных еретиков должно передавать затем в руки светской власти, которая обязана казнить их. Это общее положение Аввакум применял и к никонианам. “Воли мне нет да силы, – жаловался он в одном из своих посланий, – перерезал бы, что Илья пророк, студных и мерзких жеребцов всех, что собак”… При такой фанатической нетерпимости, не останавливавшейся перед требованием смертной казни за убеждения, идеальным носителем государственной власти в глазах проповедника являлся не кто иной, как сам царь Грозный. Говоря о Никоне, Аввакум замечал: “Как бы доброй царь, повесил бы ево на высокое древо… Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке”… Эту идеальную в его глазах фигуру прошлого Аввакум мечтал увидеть и в настоящем.
“Ведаю разум твой, – обращался он к Алексею Михайловичу в своих “Толкованиях на псалмы”, – умеешь многими языки говорить: да што в том прибыли? С сим веком останется здесь, а о грядущем ничим-же пользуется. Воздохни-тко по старому, как при Стефане бывало, добренько и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя грешнаго? А кириелейсон-от оставь: так ельняне говорят; плюнь на них! Ты, ведь, Михайлович, русак, а не грек! Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его. Чего же нам еще? Разве языка ангельскова? Да нет, ныне не дадут, до общаго воскресения. Да аще бы и ангельски говорил, Павел рече, любве же не имам, бых яко медь звеняща или кимвал бряцая,– барабаны ваши!.. А ты, миленькой, посмотри-тко в пазуху-ту, царь християнский! Всех-ли християн-тех любишь? Нет больше, отбеже любовь и вселися злоба. Еретиков-никониян токмо любишь, а нас, православных християн, мучишь, правду о церкви Божией глаголющих ти. Перестань-ко ты нас мучить-тово. Возми еретиков-тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо”…
Итак, религиозная и национальная исключительность, распространение религии, понятой узко и односторонне, на все сферы жизни, проповедь аскетизма и отречения от свободы личного разума и от светской науки, наконец, нетерпимость, доходившая до апофеоза грубейшего насилия, – таковы были основные черты миросозерцания Аввакума, тесно связывавшие его с предшествовавшим историческим моментом. Но применять и проповедовать это миросозерцание Аввакуму пришлось в обстановке, незнакомой его предшественникам. Благодаря этому и проповедь его не могла остановиться на первой своей стадии – обличения еретической новизны и защиты старины. Те реальные условия, в каких очутился раскол с момента своего возникновения, очень скоро заставили проповедника переступить грань, лежавшую между защитой старого порядка и организацией нового. В самом деле, после того, как ревнители старины потерпели неудачу в своих претензиях на официальное господство, они оказались в положении, вызывавшем целый ряд новых вопросов теоретического и практического характера. С того момента, как русская церковь отказалась от мысли о своем исключительном правоверии, она потеряла в их глазах значение православной. Но это поражение православия в последнем его убежище могло быть объяснено лишь наступлением царства антихриста, за которым должна была последовать кончина мира. Весьма многие из защитников старины и усмотрели в Никоне антихриста, пришедшего в мир ради исполнения пророчеств и уничтожения правой веры. Однако на долю предполагаемого антихриста не досталось господства. Русская церковная старина была проклята в роковом 1666 году, ровно через 666 лет после первого тысячелетия по Рождестве Христа; согласно указаниям Кирилловой книги, через 1000 лет после Рождества Христа совершилось отступление римской церкви от православия, а через 660 лет после того следовало ждать отступления русской церкви и еще через 6 лет – полного ее падения. В этом пункте пророчества сбывались. Но тот же собор, который наложил это проклятие, низверг Никона с патриаршего престола. Ввиду последнего обстоятельства, не соглашавшегося с приписываемой Никону ролью, многие из ревнителей старины видели в Никоне не более как предтечу антихриста, царство которого должно было еще наступить в близком будущем. Этого последнего мнения держался и Аввакум. Ожидая скорой кончины мира, объясняя действия Никона и последовавшей за ним светской власти “духом антихриста” и порою не воздерживаясь даже от искушения применить к ним пророчества о последнем, он, тем не менее, решительно утверждал, что “не пришел еще он, последний черт”, хотя и “скоро уже будет”. Так как таким путем кончина мира отодвигалась еще на некоторое время, то в ожидании ее верным предстояло определить возможные отношения с церковью, устроить свой внутренний быт применительно к новым условиям, отторгшим его от общего церковного тела, наконец, установить руководящие принципы жизни на будущее время. В эту сторону, под влиянием постоянно поступавших к нему запросов, должен был направить свою проповедническую деятельность и Аввакум.
Первое место в ряду подобных вопросов, созданных обстоятельствами, которые сопровождали образование раскола как отдельной религиозной общины, лишенной связи с церковью, занял вопрос об отношении раскольников к православным или, употребляя терминологию партии, к “никонианам”. На этот вопрос Аввакум давал вполне точное и определенное решение, вытекавшее из самого понимания им “никонианства”. “Паче прежних еретик никонияня”, – говорил он и в строгом согласии с этим общим взглядом устанавливал формы отношений к ним. “Христианину сущу, – по его словам, – подобает удалятися их; не токмо жертвы, но и селения их поганы суть и древних еретиков поганее”. “Не водись с никонияны, – писал он в другой раз, – не водись с еретиками; враги они Богу и мучители христианом, кровососы, душегубцы”. По его советам, следовало избегать не только мирных и дружеских сношений с никонианами, но и всяких прений о вере, хотя бы даже такие прения не носили прямо враждебного характера. “Беги от еретика и не говори ему ничего о правоверии, – предписывал на этот случай Аввакум, – токмо плюй на него. Аще он когда и мягко с тобою говорит, отклоняйся его, понеже ловит тебя; даже наведет беду душевную и телесную”. Идеалом являлось, таким образом, полное отчуждение от никониан, причем оно должно было бы распространяться как на церковную, так и на частную жизнь. Этот общий принцип в житейской практике встречался, однако, с таким случаем, к которому он не мог быть применен без предварительных оговорок и дополнений. Раскольники даже тогда, если бы они захотели всецело осуществить такое отчуждение, не могли совершенно избежать столкновений с никонианами, не могли отгородиться от них так же прочно, как отгораживалась русская церковь в ее целом от иноземного влияния, так как это зависело не только от их воли. Православная иерархия, поддерживаемая силой светской власти, вмешивалась в их жизнь, требовала подчинения себе, и, таким образом, возникал вопрос, как быть с этим вмешательством, какого рода меры практиковать по отношению к воинствующему православию. Наилучший выход из этого положения указывал Аввакум в мученичестве, на которое деятельно и возбуждал своих учеников, радуясь, что “русская земля освятилась кровию мученическою”. “Само царствие небесное валится в рот, – писал он, – а ты откладываешь, говоря: дети малы, жена молода, разориться не хочется!.. Ну, дети-те переженишь и жену-ту утешишь; а затем что? не гроб-ли? И та же смерть, да не такова: понеже не Христа ради, но общей всемирной конец”. Смерть за веру была концом, наиболее достойным христианина, по мнению протопопа, даже и в том случае, когда эта смерть не наносилась непосредственно гонителем, а являлась результатом самоубийства, если только к последнему человек прибегал из боязни не устоять перед мучениями, “да цело и непорочно соблюдет правоверие”. Получив первые известия о самосожжении раскольников, Аввакум отнесся к нему с большим одобрением, величая умерших “самовольными мучениками”. “Вечная им память во веки веков! – прибавлял он.– Добро дело содеяли – надобно так. Разсуждали мы между собою и блажим кончину их”.
Но при всем своем ригоризме Аввакум был все же слишком практическим человеком, чтобы не видеть, что такой исход – мученичество за открытое исповедание веры – доступен лишь для отдельных личностей, представляющих более или менее редкие исключения из общей массы, и это вынуждало его смягчить тон своей проповеди. Для тех, кто не мог понести подвига отстаивания старой веры во всей его полноте, проповедник рекомендовал поэтому дорогу компромисса – “належащаго ради страха аще плотски и соединяться с никонияны, но внутрь горением гореть о истине Христове, ея же ради отцы и братия наша стражют и умирают”. Раз став на эту точку зрения, протопоп с обычною прямотою доводил свою мысль до конца, досказывая все детали и не оставляя никакого места для сомнения. Подавая верным советы на тот случай, если придется исповедоваться у православного священника, он говорил: “И ты с ним в церкви сказки сказывай, как лисица у крестьянина куры крала: прости-де, батюшко, я-де не отгнал; и как собаки на волков лают: прости-де, батюшко, я-де в конуру со-баки-той не запер. Да он, сидя, исповедает, а ты ляг перед ним, да и ноги вверх подыми, да слюни пусти, так он и сам от тебя побежит: черная-де немочь ударила”. Не менее характерные советы давал протопоп на тот случай, если православный поп придет в дом раскольника со святой водой. “А с водою-тою как он придет, так ты во вратех-тех яму выкопай, да в ней роженья натычь, так он набрушится тут, да и попадет. А ты охай, около ево бегая, бытто ненароком. А буде который яму-ту перелезет и, в дому-том быв, водою-тою намочит, а ты после ево вымети метлою, а робятам тем вели по запечью от него спрятаться. Он кропит, а ты рожу-то в угол вороти, или в мошню в те поры полезь, да деньги ему давай. А жена бы, и она собаку из-под лавки в поры гоняй, да кричи на нее. Он ко кресту зовет, а она говори: бачко, недосуг, еще собаку выгоняю, тебя же заест. Да осердись на него, раба Христова, – бачко, какой ты человек”… “А в чем погрешится, – прибавлял Аввакум, – и ты кайся перед Господом Богом! Где же деться? Живыя могилы нет”.
Другой вопрос, выдвинувшийся вперед при образовании раскола, касался церковной иерархии и таинств. Разорвавши с иерархией православной церкви, раскольники и сами оказались в крайне затруднительном положении, так как их церковные общины остались без верховного пастыря и не могли получить его никаким правильным путем. Отсюда для раскола уже сразу приобрели крайне серьезное значение вопросы о священстве и таинствах, настойчиво требуя того или иного решения. Некоторые из раскольников пытались решить их, доказывая, что за отступлением иерархии исчезла и действующая через нее благодать, почему не могло быть более ни правильно поставленных попов, ни правильно совершаемых таинств, и на этом основании совершенно отрицали, например, причащение. Аввакум, однако же, энергично восстал против такого крайнего решения. “А кои не причащаются люди, – писал он, – и оне делают не гораздо, своим умыслом говорят: взята-де благодать. И после антихриста, последнева чорта, благодать-та не покинет верных своих… Как-то так дерзко глаголют, что не обрящеши святых тайн. Толко то и людей святых, что бытто одни мы, а то все погибли; миленькие батюшки, добро ревность по Бозе, да знать ей мера”. По его мнению, благодать сохранилась в церкви, и таинства остаются действительными, если только они совершаются людьми правоверующими и с соблюдением всех праведных обрядов; поэтому в никонианской церкви нет таинств в настоящем их виде; ни причащение, ни крещение, ни другие таинства, совершаемые никонианами, не имеют силы: причащая, никониане “бесом жрут, а не Богови”, “крещение еретическое несть крещение, но осквернение”, но дело здесь все-таки не в исчезновении благодати, а в еретических обрядах, мешающих ей проявиться.
Не так определенны были взгляды Аввакума в вопросе о священстве. Он с недоумением спрашивал, правда: “как же миру быть без попов?”, доказывал, что благодать сохранилась и в священстве, и лишь печалился, что большинство “старопоставленных” до Никона попов, услугами которых могли пользоваться раскольники, временно уклонялись в никонианство, “а лучше тех ныне и не возможно обрести праваго священства”. Тем не менее факт отступничества таких священников претил его прямой натуре, и он разрешал прибегать к ним только в крайней нужде: “кроме же нужи никакоже от них не принимай, понеже слабодействоваша в догматах”; в других же случаях он прямо советовал обходиться без попов, говоря, что “можно иноку, простцу и простолюдину искренным таинством причащаться”, равно как совершать и другие таинства. Такое решение было тем естественнее, что попов, получивших постановление после Никона, Аввакум не считал уже правыми священниками, и, таким образом, количество последних оказывалось весьма ограниченным. Тем не менее, учение его в этом пункте оставалось не вполне выясненным и определенным, нося несколько двусмысленный характер и заключая в себе как бы зародыши обоих главных толков позднейшего времени, поповщины и беспоповщины.
Третьим общим вопросом в судьбе раскола, по которому приходилось Аввакуму, ввиду обращенных к нему настояний, высказывать свой приговор, были споры в среде самих раскольников. Раз возникшее движение не застыло в одной определенной форме, но по мере своего распространения, принимая в себя все новые элементы, сообразно их свойствам видоизменяло несколько и свой характер. Под общим знаменем оппозиции православной церкви объединялись различные стремления, раскол дробился на отдельные толки, и члены этих последних во взаимных отношениях проявляли ту же резкую нетерпимость, какой управлялись их действия относительно никониан. Аввакум обыкновенно порицал такую вражду и старался сдерживать ее проявления. “Тело наше, – писал он по этому поводу, – без души как кал, и пепел, и прах, а вы уже друг друга гнушаетесь и хлеба не ядите вместе, глупцы, гордитеся друг другом, а все одна земля и пепел”. Но сами споры являлись в его глазах неизбежными и даже полезными, так как они способствуют выяснению истины. “А что противятся друг другу, – писал он в другой раз, – пускай так! Тако истина и правда больше сыскивается… Грызитеся гораздо! Я о сем не зазираю. Токмо праведне и чистою совестию разыскивайте истину”. Такой взгляд не простирался, однако, у Аввакума на всю область богословских споров, а имел свои определенные и довольно узкие границы. Каждый раз, когда спорящие стороны касались вопроса, находившего, по мнению протопопа, свое решение в старине, он требовал безусловного признания последней. Сообразно с этим он с решительным осуждением относился ко всем учениям, которые возникали, по его мнению, из иноземной веры; так, он резко порицал не признававших иконы, как подражателей лютеран и кальвинистов; в этих случаях он от убеждения ослушников быстро переходил к угрозам наложить на них проклятие за еретические мнения.
Это рвение к старине не оберегло, однако, самого Аввакума от уклонения в ересь. При глубоко реалистическом направлении его ума, мало подготовленного к усвоению догматических тонкостей, для него оказалось достаточно опечатки одной из старых книг, в которой Троица была названа “трисущной”, чтобы отступить от некоторых догматов и учений православия. Он начал именно отрицать единосущность Троицы и, утверждая, что в ней три существа, как три лица, вместе с тем отделял Иисуса Христа от третьего члена Троицы. Из-за этого учения между пустозерскими узниками поднялась большая распря, так как Епифаний и Лазарь приняли сторону Аввакума, дьякон же Федор восстал против него. В пустозерской тюрьме благодаря этому разыгрывались тяжелые сцены: Аввакум, совместно с Лазарем, проклял Федора и настраивал против него тюремную стражу, с помощью которой завладел даже оправдательными сочинениями Федора и уничтожил их. “Что се, Господи, будет? – спрашивал доведенный до отчаяния Федор. – Тамо на Москве клятвы вси власти налагают на мя за старую веру и на прочих верных, и зде у нас между собою клятвы и свои друзи мене проклинают за несогласие с ними в вере же, во многих догматех, болши и никониянских!”… И после смерти Аввакума эта часть его учения продолжала вызывать сильные споры между раскольниками, закончившиеся тем, что она была отвергнута как несогласная с учением церкви.







