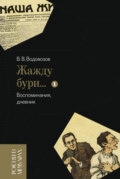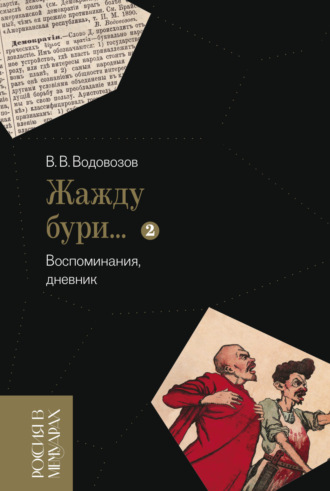
Василий Водовозов
«Жажду бури…». Воспоминания, дневник. Том 2
Затем решено принять деятельное участие в избирательной агитации и потом в выборах во 2‐ю Думу под собственным флагом. Следовательно, Трудовая группа должна была явиться в следующую Думу уже не аморфным собранием беспартийных и не конгломератом разных партий, а уже готовой партией со своей программой, со своими традициями, опирающейся на партийную организацию в стране и ответственной перед нею.
Летом 1906 г., вскоре после разгона Думы, организовалась партия народных социалистов, во главе которой стояли Мякотин, Пешехонов, Анненский. Меня звали в эту партию, и на двух или трех предварительных собраниях для обсуждения ее программы я был215. Программа-минимум этой партии почти совершенно совпадала с нашей, но она объявляла себя социалистической. Главный пункт разногласия между мною и ею – бойкот выборов – исчез: партия решила в них принять активное участие. Тем не менее после некоторого колебания я решил в партию не вступать. Мне казалось самое возникновение ее в это время рядом с Трудовой группой не нужным. Трудовая группа уже существовала, была очень популярна в крестьянстве, и создание новой политической организации рядом с нею вносило, как мне казалось, только путаницу в голове народа.
Зима 1906–1907 года была опять наполнена избирательной борьбой. Но характер ее был уже не прежний. Избирательный закон в законодательном порядке изменен еще не был, но он был изменен в порядке сенатских разъяснений. Комната, сданная жильцу прямо от домохозяина, прежде считалась квартирой и давала квартирный ценз; теперь было разъяснено, что за квартиру признается только такое помещение, в котором имеется особый очаг для приготовления пищи. Для крестьянского ценза прежде было достаточно принадлежать к крестьянству какой-либо волости; теперь потребовалось еще ведение крестьянского хозяйства, так что многочисленные учителя из крестьян, в 1‐ю Думу проходившие по крестьянскому цензу, теперь потеряли право голоса.
Может быть, еще хуже было сильное стеснение агитации. На избирательные собрания по закону могли являться только лица, пользующиеся правом голоса в данном избирательном округе, но прежде их права проверке не подвергались; теперь же по большей части у входа помещения собрания полиция требовала и проверяла документы. Благодаря этому ораторы, жительствующие на Васильевском острове, потеряли возможность говорить на Петербургской стороне, и обратно (хотя и те и другие должны были проводить общий список депутатов и делились только для первой стадии выборов, избрания выборщиков)216. Но этого мало: проверка документов всех входящих затягивала открытие собрания, назначенного на восемь часов, до половины десятого или десяти. Неудобство обходилось тем, что организаторы объявляли не избирательное собрание, а общий митинг – не по выборному закону, а по закону о собраниях, и его de facto обращали в избирательное собрание. Такие митинги часто под различными предлогами запрещали, но все-таки общее число их, состоявшихся в эту зиму в Петербурге, было довольно значительно, хотя и гораздо меньше, чем в предшествующем году.
Лично я по-прежнему прав не имел. С осени 1906 г. я нанял квартиру на Васильевском острове и жил в ней с женой, но для ценза нужно было прожить не менее года; между тем до выборов оставалось не более нескольких месяцев. А к тому же с весны 1906 г. я состоял под судом по обвинению в тяжком преступлении, влекущем за собой лишение прав состояния, а с осени надо мной уже тяготел приговор217, лишающий избирательных прав навсегда, не восстанавливаемых даже помилованием218.
Очень скоро попали под суд и тоже потеряли избирательные права названные выше лидеры партии народных социалистов. Не имел ценза и Милюков.
Благодаря недостаточной бдительности полиции раза два, однако, я проникал на избирательные собрания219, а на общих митингах участвовал и по праву.
Ход выборов, агитация, настроения на митингах и избирательных собраниях были гораздо спокойнее, чем в предыдущем году. Но полиция была гораздо придирчивее, чем раньше, и потому процент закрытых собраний был, вероятно, не меньше. Один не лишенный своеобразного остроумия прием их закрытия полиция выдумала теперь впервые. Состоял он в следующем.
Однажды я почувствовал во время митинга, что пристав пропустил один или два удобных предлога для закрытия митинга, что вообще он настроен как-то благодушно и все время ухмыляется. Меня это немного удивило. И вот ровно в 12 часов ночи он поднялся и заявил:
– 12 часов ночи. Объявляю собрание закрытым. Собрание разрешено только на такое-то число, – то есть на этот день, когда оно открылось, а с наступлением полночи начался новый день.
По-видимому, изобретение приема принадлежало именно этому приставу, и он был снисходителен, чтобы иметь возможность пустить его в ход. Но вслед за тем прием – не знаю, по особому ли предписанию свыше или по молчаливому соглашению всех, – стал общепринятым, и все собрания обязательно закрывались в 12 часов, что особенно было удобно для правительственных целей, когда оно вследствие придирок полиции открывалось в 10.
Резкое отличие этой второй кампании от первой состояло в том, что она была гораздо содержательнее. Тогда ее предметом был один вопрос: выбирать или бойкотировать. Теперь на очереди стояли программы различных партий во всем разнообразии их содержания. Теперь серьезно и разносторонне оценивался столыпинский закон о землеустройстве и другие законодательные вопросы. Прежде боролись только два течения, каждое из которых объединилось на одном случайном тактическом решении. Теперь боролись различные партии друг против друга, и предметом обсуждения была вся государственная жизнь. Таким образом, проходимый народом курс политического обучения был шире и серьезнее, но, к несчастью, число школьных часов и слушателей оказывалось гораздо меньше, и притом по двум совпадавшим причинам: большей придирчивости полиции220 и меньшего интереса народа.
Кроме вопросов теоретических по временам всплывали и вопросы партийно-практические.
В Петербурге на предыдущих выборах полную победу одержали кадеты. Все 160 выборщиков от городской курии были избраны по списку кадетской партии, и только выборщиками от рабочей курии (их было что-то около 12) оказались, вследствие бойкота социал-демократов, представители рабочей – монархической – партии (ушаковцы). Кадетские выборщики имели и полное моральное право, и полную практическую возможность игнорировать их, и потому все 6 депутатов от Петербурга были кадеты.
Теперь дело обстояло несколько иначе. В прошлом году блестящая победа кадетов по городской курии объяснялась бойкотом со стороны социалистических партий; у них просто не было соперников, так как октябристы и правые таковыми считаться не могли. Положение этих последних и теперь не стало лучшим; по-прежнему они не решались ни устраивать своих собраний, ни выступать на чужих. Но слева явились серьезные противники: все три партии – социал-демократы, социалисты-революционеры и Трудовая группа – в коалиции с народными социалистами выставили свои списки, и было совершенно неизвестно, за кого выскажется избиратель. Явился и один неожиданный, внепартийный, но все же серьезный кандидат – священник Григорий Петров. Кадеты на победу надеялись, но полной уверенности в успехе у них быть не могло; к тому же им хотелось чувствовать под собой опору всего петербургского населения. Поэтому у них была некоторая склонность к коалициям и соглашениям.
Они начали с того, что совершенно без переговоров с кем бы то ни было, вполне по собственной инициативе заявили, что одно депутатское место из 6 по городу Петербургу они уступают рабочей курии221. Имея в коллегии выборщиков (или рассчитывая на) 160 мест из общего числа 170 с чем-то, они, конечно, не были обязаны делиться депутатскими местами ни с кем; поэтому такое заявление производило сильное впечатление как добровольный акт, свидетельствовавший о верности принципу всеобщего голосования. Конечно, с социал-демократической стороны раздалось утверждение, что если бы кадеты были действительно верны принципу всеобщего голосования, то они должны были бы уступить социал-демократам не одно, а чуть ли не все 6 мест. Само собой разумеется также, что в этом смысле верными принципу всеобщности сами социал-демократы нигде и никогда не были, никогда не отказываясь от какого-либо преимущества, создававшегося случаем в их пользу; в частности, они не оказались верными ему во время выборов в Петербурге во 2‐ю Думу, когда в рабочей курии голоса разделились почти поровну между социал-демократами и социалистами-революционерами и социал-демократы, пользуясь некоторыми преимуществами своего положения, не пропустили в коллегию выборщиков ни одного социалиста-революционера.
Далее кадеты предложили баллотироваться по их списку Григорию Петрову. Это был акт совершенно другого политического значения. Григорий Петров был превосходный народный оратор, очень популярный в мелкой петербургской буржуазии. Но как политический мыслитель он был путаная голова без определенной программы, в которой клочки христианского социализма, политического радикализма и национализма переплетались и образовали значительный сумбур. Ни к кадетской, ни к какой другой партии он не принадлежал.
Я был довольно хорошо знаком с ним и нередко вел с ним беседы на политические темы. Однажды на мой вопрос: «Како веруеши?» он ответил таким образом (разговор происходил около времени принятия им кадетской кандидатуры):
– Я, собственно, анархист. Но к анархизму нужно идти через социализм. Так как, однако, в настоящее время все практические требования социалистов неосуществимы, то я поддерживаю кадетов.
Очевидно, что эту линию уступок можно было бы продолжить примерно так: «А так как требования кадетов при нынешнем, все еще очень сильном правительстве являются утопическими, то я готов быть сторонником октябристов. Но и октябристы…»
И можно было бы понемногу дойти до Союза русского народа. Очевидно, что такой человек может иметь значение в качестве митингового оратора, поскольку он критикует действия правительства (в некоторых случаях он действительно бывал незаменим), но в законодательном учреждении ему не место, и, во всяком случае, не серьезной партии проводить его кандидатуру. А если кадеты это сделали, то вряд ли можно сомневаться, что мотивом послужила погоня за голосами политически малоразвитой массы посредством коалиции с совершенно чуждым им и опасным деятелем. В Думе Петров оказался молчаливым депутатом; кажется, он не сказал в пленарных заседаниях ни одного слова.
И вот ввиду этих фактов я предложил в Трудовой группе: предложить всем партиям, от кадетов до социалистов, общее соглашение. Лично я, оценивая шансы партий, готов был удовлетвориться для всех левых двумя кандидатурами, т. е. чтобы одна была дана социал-демократам как имеющим в своих руках рабочую курию, а другая – какому-либо лицу, на котором могли бы согласиться все народнические партии; четыре же места предоставлены кадетам. В Трудовой группе мое предложение было встречено сочувственно, но разговаривать на эту тему с партийными организациями социалистов-революционеров и социал-демократов было невозможно. Если иногда они и готовы были согласиться на мое предложение в принципе, то с тем, чтобы левым дали 5 или по крайней мере 4 места, причем они основывали это на своем – конечно, очень наивном – учете борющихся сил. От партийных комитетов я перенес вопрос на один митинг, действуя по принципу: flectere si nequeo superos, Acheronta movebo222 (разумея под superos партийных вождей, а под Ахероном – избирательские массы), но потерпел полное поражение. На митинге, где, конечно, тоже выступали партийные ораторы и в числе социал-демократов – упомянутый мною выше Товарищ Николай, было решено подавляющим большинством голосов предложить коалицию кадетам, потребовав от них 5 мест223.
Само собой разумеется, что идти с подобным предложением к кадетам было немыслимо. Само собой разумеется также, что на выборах кадетский список прошел целиком абсолютным большинством, а все левые партии вместе получили хотя и довольно заметное, но все-таки только меньшинство голосов.
Из митингов этого времени, кроме описанного сейчас, у меня остался в памяти митинг в громадном зале Калашниковской биржи (где-то за Николаевским вокзалом), вмещавшем несколько тысяч человек, и остался в памяти благодаря той роли, которую сыграл на нем Родичев.
Один социал-демократ (если не ошибаюсь, это был молодой тогда Войтинский, ныне находящийся в эмиграции), человек безусловно талантливый, очень ехидно напомнил прошлогоднее пророчество Родичева о том, что в пропасть свалится тот безумец, который разгонит Думу.
– Между тем, – говорил Войтинский, – разогнал Думу не безумец, а человек несомненно умный, и в пропасть он не свалился.
– Зато он свалился… в грязь! – была реплика со стороны Родичева.
Слово «грязь» было произнесено с особенной экспрессией, искусно усиленной предшествовавшей паузой. Гром аплодисментов приветствовал эту «грязь». А между тем ведь она не была ни возражением по существу, ни добросовестным признанием ошибки (ошибки в очень важном прогнозе, на котором строилась вся тактика), а была чисто словесным спасением от серьезного спора в подворотню. К сожалению, такими фразами всегда можно вызвать аплодисменты.
– Я думаю, что история не подпишет того патента на ум, который один из предыдущих ораторов выдал Столыпину, – сказал П. Б. Струве, тоже участвовавший в этом митинге224. Эта фраза тоже осталась не без шумных аплодисментов. Она любопытна для сравнения с теми восторженными отзывами, которые потом давал Струве тому же Столыпину225.
Если судить по настроению, господствовавшему на митингах, то полная победа левых над кадетами была неизбежна. На всех митингах, за немногими исключениями, торжествовали левые226. А выборы дали (по городской курии) безусловное торжество кадетам. Чем это объясняется?
В применении к выборам во 2‐ю Думу это объясняется прежде всего тем, что, несмотря на все полицейские меры, главный контингент посетителей митингов составили не избиратели, а люди, либо вовсе лишенные избирательных прав, либо имевшие их по рабочей курии (которая и выбрала социал-демократов).
Далее, и на этот раз не только в применении к нашим выборам, а и в применении к большей части выборов в больших городах Западной Европы, – на митинги ходят по преимуществу левые. Еще в мою поездку в Германию в 1893 г. во время выборов в рейхстаг один свободомыслящий говорил мне:
– Вы не смотрите на шумный успех социал-демократов на митингах. Он еще не говорит об их предстоящем успехе на выборах; его может и не быть. Зачем буржуазии идти на митинги? Только чтобы агитировать, но не для того, чтобы учиться; для учения она имеет университеты, книги, газеты. Она и не идет на митинги. А для рабочего они школа, и он очень дорожит ею.
Как я уже сказал, на выборах в Петербурге по городской курии победили кадеты. Они провели всех 160 выборщиков. В рабочей курии были большие нелады, и в уполномоченные прошло почти поровну социалистов-революционеров и эсдеков, что очень обескуражило и изумило этих последних. Но при избрании выборщиков социал-демократы не дали ни одного места с[оциалистам-революционе]рам.
На общегородском собрании выборщиков обеих курий И. В. Гессен от имени 160 кадетских выборщиков обратился к выборщикам рабочих:
– Наша партия обещала дать одно место представителю рабочей курии. Кого желает она?
– Мы не хотим разговаривать с буржуазией, – ответил Алексинский от имени рабочих.
Ответ был груб… и глуп. Мне кажется, что если бы кадеты, воспользовавшись этой грубостью, отказались от своего обещания, мотивировав тем, что они не знают, за кого голосовать, то трудно было бы их обвинять. Тем не менее они не пожелали сделать этого и выбрали этого самого Алексинского.
Другие их избранники были: И. В. Гессен, Родичев, Кутлер, П. В. Струве, Гр. Петров.
Кстати, об этом Алексинском. Я его немного знал. Года за три до Думы он был у меня в Киеве с теплым рекомендательным письмом от Дмитрия Ивановича Шаховского227. А теперь он не хотел разговаривать с буржуазией! Мне он не понравился, и мы с ним не сошлись сколько-нибудь близко. Впоследствии, в эмиграции, Алексинский сделал новый вольт, на этот раз направо, и в настоящее время числится чуть ли не в монархистах.
Глава VI. 2-я Дума. – Партии в ней, в частности Трудовая группа. – Караваев, Березин. – Аграрный вопрос. – Законопроекты о смертной казни и амнистии. – Священник Тихвинский. Его расстрижение. – Роспуск 2‐й Думы
20 февраля 1907 г. собралась 2-я Дума. Меры, принятые властью для искажения избирательного закона и для стеснения избирательной агитации, дали лишь ничтожные результаты: Дума осталась, с правительственной точки зрения, левой (то есть при причислении к левым и кадетов). Правда, в ней появился правый сектор (октябристы и правые), которого в 1‐й Думе не было, но он был ничтожен численно, лишен сколько-нибудь крупных талантов и имел очень мало значения (разве для скандалов). Один Пуришкевич обращал на себя внимание если не талантом, то крикливостью, грубостью и непристойностью.
В противоположность 1‐й Думе 2-я была строго партийной. В ней были кадеты, всего 91 человек, по-прежнему составлявшие главное руководящее ядро Думы; свыше 100 человек трудовиков, около 60 социал-демократов (Алексинский, Церетели) и по нескольку десятков н[ародных] с[оциалист]ов и эсеров228. Среди н[ародных] с[оциалист]ов не было их действительных вождей – Мякотина, Анненского, Пешехонова, так как они находились в состоянии подсудности, и были лишь деятели второстепенные, как Волк-Карачевский, Демьянов, священник Колокольников229. Еще вернее это было относительно эсеров, из которых ни Чернову, ни Савинкову не могло быть места в легальном учреждении все еще самодержавной России, и таковое нашлось только для совершенно бесцветных людей, вроде Ширского, В. Успенского и других. Таким образом, левый сектор был выражен ярче, чем в 1‐й Думе. Некоторое поправение страны, однако, сказалось, но сказалось не в изменении партийного состава Думы, оно скорее могло бы свидетельствовать о полевении, – а в изменении в сторону большей умеренности и осторожности настроения кадетской партии, по-прежнему задававшей тон в Думе.
Существенной чертой новой Думы было отсутствие в ней всех наиболее видных деятелей первой, лишившихся избирательных прав вследствие их привлечения к суду из‐за Выборгского воззвания. У кадетов недоставало Муромцева, князя Шаховского, князя Петра Долгорукова, Набокова, Кокошкина, и только один Родичев был как бы носителем традиций первой Думы. Не было и Герценштейна, который пал кровавой жертвой черносотенной деятельности правительства. Заменившие их Головин, Гессен И. В. и Гессен Вл. М., князь Павел Долгоруков, С. Н. Булгаков, Н. Кутлер, Пергамент, Кизеветтер, Струве, тем более священник Гр. Петров были в качестве политиков как бы кадетами второго сорта, хотя некоторые из них занимали очень высокое место в науке или адвокатуре; только один Маклаков, вместе с Родичевым, мог стоять на высоте перводумцев, да и он развернулся только в 3‐й и 4‐й Думах. К тому же именно он был как бы живым воплощением той перемены в настроении партии, о которой я только что сказал. Милюкова по-прежнему не было в кадетских рядах, и он все еще мог действовать только из‐за кулис, принимая участие в партийных заседаниях кадетов.
Для трудовиков тоже был потерян весь состав первой Думы: одни – потому что поехали в Выборг, другие – потому что не поехали. Первым «разъяснила» прокуратура, вторых не пожелали избиратели. Не было Аладьина, Аникина, Жилкина, Брамсона. Первый мог бы быть избран: Выборгского воззвания он не подписал, но не подписал по случайным причинам, и для его «разъяснения» не было оснований ни с той, ни с другой стороны. Но он разъяснил себя сам, как об этом я уже говорил в предыдущей главе. Аникин тоже не подписал Выборгского воззвания и был даже выбран в выборщики, но «разъяснен» на том основании, что хотя он крестьянин по происхождению, но крестьянского хозяйства не ведет. На место их явились доктор Ал. Л. Караваев, М. Е. Березин, священник Тихвинский, А. А. Булат и некоторые другие.
Из них доктора Караваева я знавал в студенческие годы, когда он был врачом среди рабочего населения в пригороде Петербурга по Шлиссельбургскому тракту. Он пользовался самой горячей любовью населения как врач и человек. Потом он был арестован и выслан из места своей деятельности. Работал в частной больнице для крестьян, устроенной помещицей Барановской в своем поместье в Минской губернии недалеко от местечка Лоев. Перед самой Думой он был не то сельским, не то городским врачом в Екатеринославской губернии. В 1908 г. мне случилось проездом через Лоев несколько часов ожидать посланных мне навстречу лошадей. Сидя на завалинке перед избой, я разговорился с местными мужиками. От Думы и земли разговор перешел на Караваева, незадолго перед тем убитого. Когда мужики услышали, что я хорошо его знал, они просили меня рассказать о нем, в частности и в особенности о том, что он делал в Думе. Память о нем в этой местности была самая восторженная.
– Вот кто был доктор так доктор! Все поймет, все объяснит, так что лучше не надо; и какой он был добрый! Целые ночи просиживал у больного ребенка. И никогда не отказывался ехать к больному, ни днем, ни ночью! И лекарства давал, и деньги давал!
Чувствовалась действительная горячая любовь, приобретенная трудом и самоотвержением.
В своем общественном и политическом миросозерцании Караваев был восьмидесятником, представителем того течения, которое развивалось под влиянием «Отечественных записок» и «Русского богатства», но в момент революции и первых дум он стоял скорее на правом фланге этого течения. Он не был сторонником бойкота в первую Думу и, следовательно, должен был оказаться горячим сторонником Трудовой группы. После разгона 1‐й Думы он написал брошюру «Партии и крестьянство в (первой) Государственной думе»230, в которой выступил ее апологетом; в Екатеринославской губернии он был одним из ее организаторов; как ее член был избран во 2‐ю Думу. Был хорошим знатоком земельного вопроса. Не лишен был самолюбия, которое иногда доводило его до мелких ссор с группой и с отдельными ее членами.
М. Е. Березин был служащим Саратовского земства и также попал в Думу как член группы. Так же и священник Тихвинский, скромный сельский батюшка Вятской губернии, и большинство других. Сравнительно немногие будущие трудовики попали в Думу в качестве беспартийных.
Трудовая группа, так же как и в первой Думе, наняла помещение с большой залой, помнится – на Сергиевской улице, и работала там. Из внедумских трудовиков я был постоянным посетителем и участником ее заседаний. Менее частыми были Аникин (не все время находившийся в Петербурге) и Брамсон. Платным секретарем по-прежнему был Иван Бонч-Осмоловский.
Сочувствие народных масс по-прежнему оставалось на стороне Трудовой группы. Но упадок народного настроения чувствовался ясно. И ходоки, и адреса, и приговоры волостных сходов – все это имелось, но в значительно меньшем числе, чем прежде. А кроме того, и в самой группе не чувствовалось прежнего единодушного подъема; было больше разногласий, споров и даже ссор в самой группе.
Несмотря на то что Трудовая группа была первой по численности партией Думы231, как-то само собою вышло, что председателем Думы был избран опять кадет232. Трудовики должны были выдвинуть кандидата на пост товарища председателя.
Выбор представлял большие трудности, которых не знали кадеты. Последние имели в своем составе, даже и во второй Думе, большое число людей, известных по деятельности в земстве или городах; почти все они знали друг друга лично по земским съездам, собиравшимся в последние годы. Трудовики же были люди, за пределами своей губернии обыкновенно неизвестные. Если я знал, например, Караваева (и то по очень давним воспоминаниям), то это знакомство было совершенно случайное. Березин и Булат были на том съезде Трудовой группы в Финляндии, о котором я говорил выше, и, следовательно, уже несколько известны, но, во всяком случае, крайне недостаточно. Кого же выбирать? Я посоветовал было Караваева, и это встретило некоторую поддержку, но сам Караваев решительно запротестовал:
– Не могу, не хочу, никогда не был нигде председателем, не умею председательствовать.
Другие предложили Березина. Он согласился, был выдвинут группой и избран Думой. Оказался вполне удовлетворительным товарищем председателя и приобрел значительный вес и в президиуме, и в Думе. Другим товарищем председателя был избран беспартийный левый Познанский, иногда тоже появлявшийся в Трудовой группе, но официально к ней не примкнувший. Личность довольно бесцветная и председатель неумелый.
Благодаря наличности крайнего правого и крайнего левого сектора Дума не была столь однородной и единодушной, как первая. Внутренние противоречия в ней были гораздо ярче, и внутренняя борьба, очень слабая в первой Думе, была ожесточеннее. Прежде были: Дума и правительство. Теперь были в Думе: левая, правая и центр. Тем не менее несомненное руководство по-прежнему принадлежало кадетам. Отличие трудовиков от них сказывалось тоже сильнее, чем раньше.
Сказывалось по-прежнему в аграрном вопросе, которому трудовики давали более радикальное решение, чем кадеты, и который по-прежнему занимал очень важное место в прениях Думы. Он же был на очереди в одной частной форме. Столыпинский аграрный закон 9 ноября 1906 г. был внесен в Думу самим правительством, как все законы, проведенные по статье 87 Основных законов во время междудумья233, и мог быть отменен постановлением одной Думы (помимо Государственного совета). Он был сдан в комиссию и в ней служил предметом постоянной распри между кадетами и трудовиками: последние хотели его просто отвергнуть, первые же настаивали на принятии, хотя и в радикально переработанном виде, а пока что тормозили. К сожалению, трудовики и левые не проявили достаточной энергии в отстаивании своей точки зрения и позволили похоронить его в комиссии на все время деятельности Думы вплоть до ее роспуска. Потом уже он был принят 3‐й Думой и в 1910 г. окончательно стал законом.
Одним из виновников этой оплошности был Караваев, который в нескольких случаях голосовал (в комиссии) за кадетские предложения. В группе появилось недовольство этими голосованиями, и против Караваева обнаружилось какое-то движение. В нем сыграл нехорошую роль Иван Бонч-Осмоловский, который подливал горячего масла в это недовольство. На заседании группы во время прений по этому вопросу Караваев обиделся и заявил о выходе из нее234. Я и другие внедумские трудовики употребляли все усилия, чтобы утихомирить страсти, но нам это не удалось, и Караваев подал формальное заявление о выходе из группы. По парламентским обычаям стран с прочным и давним парламентаризмом это должно было повести за собой также сложение депутатских полномочий, но Караваев этого не сделал, и никто не счел нужным напомнить ему об этом парламентском правиле. Недели через две было принято по моему предложению постановление просить Караваева вернуться в группу, и ссора была ликвидирована.
У нас было постановление внести в Думу законопроекты об отмене смертной казни и об амнистии. Кадеты по каким-то соображениям считали первый из них в тот момент не вполне своевременным, а второй совершенно нежелательным. Тем не менее мы составили первый. Работать над ним не пришлось, так как такой проект был уже принят первой Думой, и мы целиком взяли его себе.
Совершенно неожиданно мы натолкнулись на возражения со стороны партии социалистов-революционеров. Конечно, возражения были не принципиального, а чисто тактического характера. Наш (или, лучше сказать, перводумский) проект был составлен так, как и должен быть составлен проект, целиком и исключительно направленный против смертной казни. Смертная казнь отменяется; для всех преступлений, для которых она назначена действующим законом, заменяется каторжными работами без срока.
К нам на заседание группы пришли два думских социалиста-революционера (к сожалению, забыл их фамилии) и сказали от имени их фракции следующее:
– Если бы Трудовая группа рассчитывала на проведение и вступление в силу закона об отмене смертной казни, то, конечно, с ним нужно было бы очень торопиться. Но ведь для вас, трудовиков, законопроект имеет значение только декларативное или демонстративное; вы так же, как и мы, знаете, что если даже он будет принят Думой, то все-таки либо застрянет в Государственном совете, или не будет утвержден монархом. Поэтому особенно с ним торопиться нечего и лучше позаботиться о том, чтобы он производил как можно больше впечатления. [Э]с[е]ровская фракция тоже собирается внести законопроект против смертной казни, но хочет построить его иначе. Вместо простой общей замены казни каторжными работами эсеры хотят разработать его детальнее, т. е. пересмотреть все стадии существующих (общих и военных) законов, говорящих о смертной казни, и вместо каждой из них предложить новую. Поэтому они просят трудовиков отложить внесение нашего проекта для согласования с ними.
Я выступил с решительным возражением против этого предложения. Я указывал, что их предложение есть не проект отмены смертной казни, а проект частичного пересмотра уголовных законов, притом в совершенно недопустимой форме. После него могут оказаться и, наверное, окажутся совершенные несогласованности:
– Вы, например, можете понизить наказание за цареубийство до того, что оно окажется ниже наказания за словесное оскорбление царя. Это будет явная нелепость, которая будет вызывать только насмешки. Мы в настоящее время настаиваем на отмене смертной казни, а не на пересмотре уголовных законов. Практичен или демонстративен наш проект – это не важно. Даже для того, чтобы быть демонстративным, он должен бить ясно в одну точку, а не гоняться сразу за несколькими зайцами.
Пришедшие к нам посланцы [э]с[е]р[о]вской фракции стояли не на высоте задачи; к этой аргументации, несмотря на всю ее элементарность, они были не подготовлены и не сумели ничего возразить по существу. Они говорили что-то бессвязное о солидарности двух наших партий и ушли очень недовольные нами и мною в особенности.
Законопроект был нами внесен, и затем Дума похоронила его в комиссии.
С амнистией дело было сложнее. В ответном адресе на тронную речь, выработанном в 1‐й Думе, было ходатайство перед царем о даровании амнистии политическим преступникам. На ходатайство был грубый отказ.