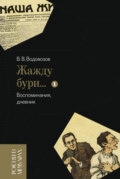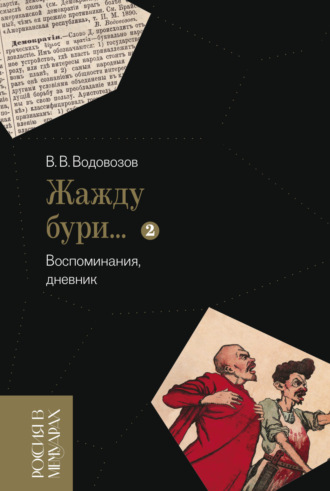
Василий Водовозов
«Жажду бури…». Воспоминания, дневник. Том 2
Глава V. Первое междудумье. – Общий характер эпохи. – Газетная и литературная работа. – «Наша жизнь». – Газетная гекатомба 2 декабря 1905 г. – Дальнейшая судьба «Нашей жизни» и ее гибель в 1908 г. – Л. В. Ходский. – Моя литературная работа помимо «Нашей жизни». – Трудовая группа в первое междудумье; обращение ее в партию. – Избирательная кампания во 2‐ю Думу. – Отголосок родичевского прошлогоднего пророчества о безумце, который разгонит Думу
Начался 8-месячный период первого междудумья. Вместе с ним ясно определилась грубая реакция. Убийство Герценштейна с попустительства, если не подстрекательства властей, столыпинский180 закон о землеустройстве (9 ноября 1906 г.)181, аресты, преследования печати – все вызывало лишь бессильное негодование и никакого организованного народного протеста. Что революция кончилась, кончилась без надежды на ее возобновление в ближайший исторический момент, стало очевидным для всех сколько-нибудь критически оценивающих события, и только совсем зеленые юнцы могли еще ожидать его. Отдельные матросские и крестьянские восстания были, очевидно, последними всплесками явно утихавшей бури. Роспуском Думы Столыпин искусно нанес последний, ловкий удар по революции.
Ходячая оценка результатов первой революции была самая пессимистическая. «Мы остались у разбитого корыта» – этот образ из пушкинской сказки182 был в устах всех. Говорившие так выдавали себя, testimonium paupertatis183: зачем было требовать себе положение морской царицы, когда достаточно было получить порядочную избу? Но виноваты ли были и мы, что, получив избу, захотели пользоваться ею, а не только любоваться, в нее не входя? В связи с этой оценкой результатов революции началось то похмелье, тот Katzenjammer184, который сказался в появлении романа Арцыбашева «Санин»185, а в жизни – многочисленных Саниных, в процессах огарков186, в широком развитии провокации и т. д.
С тех пор прошло четверть века, и теперь мы хорошо знаем, что чрезмерная пессимистическая оценка результатов революции не была правильной. Разбитое корыто мы получили позже, в 1917 г. Как ни неудовлетворителен был избирательный закон 1905 г., а тем более 1907 г.187, как ни бессильна была Дума, тем не менее она была если не парламентом, то его зародышем, и положительная роль ее была не меньше, чем роль парламента в Англии при Тюдорах и Стюартах188, в одном важном отношении даже больше, чем роль парламента в первой половине XVIII в.: ее заседания были публичны, ее отчеты печатались и потому служили хорошей школой для народа. И мы знаем, что если Думы не разрешили земельного вопроса и не смогли предупредить страшной революции 1917 г. и губительного торжества большевичьей власти, то все же они сделали немало положительного. В особенности велика положительная роль Думы в развитии народного образования.
Как ни малоудовлетворительно было положение печати, как ни курьезны те судебные процессы, которым она подвергалась (я испытал эти стеснения на собственной спине и расскажу о них в одной из следующих глав), тем не менее между положением печати в период между двумя революциями, даже не исключая военной эпохи, а тем более до нее, и ее же положением в первые годы царствования Николая II до первой революции не может быть даже и сравнения, как между состоянием свободы и крепостным правом, как бы ни была недостаточна эта свобода. А главное, теперь мы знаем, что весь исторический период 1906–1914 гг. был периодом довольно быстрого роста национального дохода и народного благосостояния.
Но в ту эпоху этого мы все (себя не исключаю) не понимали.
Как ни ясно звучали упадочные настроения эпохи, сводить ее к ним одним было бы неправильно. Совершалась большая культурная работа, и люди, не охваченные упадочными настроениями, принимали в ней деятельное участие.
В первое междудумье и во время 2‐й Думы были два главных дела: работа литературная, в газете и других изданиях, и работа политическая при Трудовой группе и связанная с нею работа митинговая и лекционная в Петербурге и провинции. Скоро, с осени 1906 г., к ним можно причислить еще работу в суде в качестве многолетнего подсудимого по литературным процессам, – но о ней ниже, в особой главе.
«Наша жизнь» продолжалась. Правда, она несколько раз меняла свои названия. В первый раз она сделала это189 после запрещения 2 декабря 1905 г. и в течение месяца, 15 декабря 1905 г. – 21 января 1906 г., выходила под именем «Народного хозяйства». В январе 1906 г. запрещение было снято, и мы возобновились под старой кличкой. Новое запрещение в июле 1906 г. побудило нас переименоваться в «Товарища»190, а в конце 1907 или начале 1908 г. – в «Столичную почту»191. Под этим именем мы и погибли192.
Но у меня вся моя газетная жизнь этого периода осталась в памяти как нечто цельное; хронологические границы между разными названиями, напротив, держатся в памяти только очень смутно (вышеприведенные цифры восстановлены не по памяти, а по справке с историческими материалами), и потому я говорю в этих воспоминаниях все время о «Нашей жизни», разумея под нею и «Народное хозяйство», и «Товарища», и «Столичную почту».
Запрещена «Наша жизнь» была в тот памятный день 2 декабря 1905 г., когда был арестован первый Совет рабочих депутатов и когда подверглась первому разгрому вся столичная печать, как новая, возникшая явочным порядком после 17 октября, так и более старая. В числе других газет был запрещен и «Сын Отечества», но с тем отличием, что ему воскрешение не удалось, а мы воскресли в виде «Народного хозяйства» уже через две недели. Из журналов были запрещены «Русское богатство» и «Мир Божий». Первое выходило после этого под двумя сменявшими друг друга вследствие запрещения названиями: одно было «Современные записки» (название, составленное из «Современника» и «Отечественных записок», двух журналов, бывших славными предшественниками «Русского богатства» в 1847–1866 и 1868–1884 гг.), другое – «Русские записки»193. Месяца через три или четыре «Русское богатство» воскресло под прежним именем. Социал-демократический «Мир Божий» воскрес под именем «Современного мира» и с этим именем остался навсегда, до своей окончательной гибели при большевиках.
Поводом для запрещения всех этих изданий послужило напечатание в них манифеста Совета рабочих депутатов194. Этот манифест был революционным актом социал-демократии, параллельным с московским восстанием – революционным актом эсеровской партии. Манифест призывал народ к революционным действиям и был составлен довольно невежественно. В числе других форм борьбы он выдвигал массовое истребование вкладов из сберегательных касс, причем по своему невежеству называл их не настоящим названием, а неведомо откуда взявшимся: «ссудо-сберегательных». Это действие должна была произвести по преимуществу мелкая буржуазия, так как рабочие, по утверждению социал-демократов, не могут откладывать сбережений, и любопытно, что в этом пункте манифест произвел действительно сильное влияние: истребовано было несколько сот миллионов рублей, и кассы были совсем на той границе, за которой следует объявление моратория, – меры, которая при тогдашних условиях могла бы оказаться гибельной для государственного кредита и государственных финансов вообще. Конечно, в данном случае сыграло свою роль не столько желание произвести определенное политическое воздействие на правительство, сколько страх перед государственным банкротством, и именно этот страх, а не действительное положение финансов чуть-чуть не вызвал банкротства.
Союз деятелей печати постановил, что напечатание этого манифеста было обязательно для всех органов печати à titre du document195. В Союзе принимали участие все или почти все петербургские органы печати, не исключая и таких, как «Новое время». Я не могу, к сожалению, припомнить, было ли это постановление сделано еще до выработки манифеста в какой-нибудь общей форме, под которую этот манифест подходил как частное явление, или применительно именно к нему самому196. Но, во всяком случае, для каждого уважающего свои обязательства деятеля петербургской печати напечатание документа было морально обязательно (с правом, конечно, его критиковать). И тут-то явственно сказалось, что в революционном настроении уже наступил перелом. «Новое время», «С.-Петербургские ведомости» и другие консервативные органы, морально столько же связанные постановлением, сколько и мы, громко говорившие о своей приверженности к принципу свободы печати и признававшие Союз как орудие борьбы за нее, документа не напечатали, причем из их редакции до поздней ночи говорили нам по телефону, что документ напечатан будет.
У нас Ходский, пораженный в самое свое сердце финансиста безграмотностью финансовой терминологии манифеста, потребовал высказаться против его напечатания именно с этой точки зрения, но, встреченный твердым отпором со стороны всей редакции, замолчал. Мы все соглашались с его специальной критикой, тем более что в нашей среде были и другие весьма сведущие финансисты, как С. Н. Прокопович, да и безграмотность бросалась в глаза; мы все чувствовали, что ставим на карту судьбу газеты, но о неисполнении постановления для нас не могло быть и речи. Документ был напечатан; за ним последовало запрещение газеты и предание суду ответственного редактора Л. В. Ходского197, а затем трех- или четырехмесячное тюремное заключение (не скоро, года через четыре).
Если газеты для обсуждения и решения вопроса о напечатании манифеста имели в распоряжении всего несколько часов, то ежемесячные журналы имели их гораздо больше и к тому же уже определенно знали, какая кара их постигнет за его напечатание. «Русское богатство» и «Мир Божий» выходили в середине каждого месяца, следовательно, ближайшие их книжки – недели через две после того, как «Нашу жизнь» и «Сына Отечества» постигла кара. Тем не менее они пошли на нее и были запрещены (первое, однако, как я уже сказал, потом возродилось под прежним именем). «Вестник Европы» выходил первого числа каждого месяца, а так как манифест был доставлен в редакцию 2 декабря, то у него в распоряжении был целый месяц. Он документа не напечатал, мотивируя, помнится, тем, что Союз печати к этому времени распался.
В качестве ответственного редактора на место Ходского вступил сперва В. Голубев198, а через несколько недель, когда он тоже попал под суд199, предложил свои услуги я200, и они были приняты Ходским и редакцией. Моего положения в редакции это не изменило, как оно не меняло и положения других ответственных редакторов. Действительным редактором я не был; таковой у нас выбирался закрытой баллотировкой; первым редактором был В. Я. Богучарский, потом недолго – Р. М. Бланк, затем до конца – В. В. Португалов201. Я по-прежнему оставался членом редакции с голосом в ней, заведующим иностранным отделом и постоянным сотрудником по вопросам государственного, в частности избирательного, права и некоторым другим. Даже вознаграждение мое осталось прежним (200 рублей в месяц жалованья и построчный гонорар в размере 10 копеек). По нашей неписаной конституции я в качестве ответственного имел право безусловного veto на все статьи по соображениям их опасности, но я не только ни разу не воспользовался этим правом, но [и] не считал нужным читать до их появления в печати что бы то ни было, кроме моего отдела и тех статей, которые доводились до общего редакционного обсуждения. Ходский, бывший ответственным редактором до меня, этим своим правом иногда пользовался, но не спас им газету от двукратного запрещения.
Итак, мы возродились, и работа продолжалась. По-прежнему мы оставались беспартийной радикальной и социалистической газетой. Нередко подвергались нападкам как справа, так и слева, причем в то время беспартийность сама по себе в левых кругах считалась чем-то чуть ли не позорным. В редакции, как и везде, были разногласия. Я тянул газету в сторону трудовичества, Прокопович, Кускова и некоторые другие – в сторону правого (ревизионистского) социал-демократизма. Последняя (социал-демократическая) нота звучала у нас громче, но социал-демократизм Прокоповича не был узколобым, упрямым; нет, он прекрасно умел учитывать значение крестьянства в жизни государства вообще и России в частности, и потому «Наша жизнь» в общем все-таки представляла нечто цельное, хорошо спаянное; газета несомненно имела общее направление.
Несмотря на исчезновение с газетного рынка такого серьезного конкурента, как «Сын Отечества», тираж газеты несколько упал сравнительно с концом 1904 г., что объяснялось общим упадком в России интереса к газетам, но все-таки превышал 50 000 и был вполне достаточным, чтобы газета могла стоять прочно на своих ногах. Но период трехмесячного закрытия ее в начале 1905 г., о котором я говорил выше, наложил на нее долг, который лежал на ней тяжелым бременем. Долг бумажнику, долг типографии портил отношения с тем и другим, заставлял изворачиваться. Период лета и осени 1905 г. с периодическими конфискациями отдельных номеров все увеличивал этот долг. То же самое сделала октябрьская забастовка и запрещение в декабре 1905 г. Существовать стало трудно. Тем не менее мы существовали.
Весной 1906 г. я получил первый обвинительный акт по делу газеты202, за ним последовали другие. Скоро я потерял право быть ответственным редактором. Мое место занял Гордин203, потом его сменил Диксон. Тем не менее весь 1906 и 1907 гг. мы бились. Подвергались привлечению к суду и запрещениям, меняли названия. Наконец, в начале 1908 г. жить стало невмоготу. Были дни, когда мы не знали, выйдем ли мы на следующий день, причем причиной невыхода грозил послужить отказ бумажника доставить нужное количество бумаги. Наконец Ходский заявил, что он больше издавать газету не может.
У нас был возбужден вопрос: не сделать ли закрытие с треском, напечатав какую-нибудь очень резкую статью и вызвав новое запрещение. Но мы решили, что это был бы недостойный прием, и мирно закрылись, признав причиной закрытия недостаток средств.
За это мы были наказаны. «Новое время» обрадовалось нашей гибели и поспешило сообщить, что «Наша жизнь» погибла в борьбе с равнодушием публики. Как видно из предыдущего, это было неправдой. Но, конечно, было бы лучше, если бы мы прекратились после последнего запрещения, когда материальная непосильность борьбы стала для нас очевидной.
Запрещение газеты на ее сотрудниках отражалось, конечно, тяжело. Большинство их не имело других заработков и должно было их искать, переживая всю оскорбительную тяжесть подобных поисков. Но этого мало. Последние месяцы контора газеты выдавала нам наше вознаграждение с большими перебоями, и по отношению к большинству из нас на ней лежал более или менее значительный долг. Конечно, разнообразие личных характеров и личных талантов сказывается и в этой области: были лица, которые и в это тяжелое время не только получали все свое сполна, но [и] ухитрялись брать более или менее значительные авансы. Таких было человек 7–8. Назову из них двух, а именно А. А. Яблоновского и П. Е. Щеголева. Имя последнего я называю потому, что года два тому назад в эмигрантской печати и именно в «Возрождении» по поводу большевизанства Щеголева была дана ему общая, литературная и личная, весьма непривлекательная характеристика, причем в числе других его свойств было сообщено, что он специалист по литературным авансам, умеющий хватать редакторов и издателей мертвой хваткой204.
Хотя эта характеристика и не чужда преувеличения, но в общем она близка к истине, и тем не менее она меня возмутила. Возмутила потому, что автором ее был А. А. Яблоновский, который в этом отношении может дать Щеголеву сто очков вперед. По крайней мере, Щеголев из «Нашей жизни» ушел с несколькими десятками рублей аванса, а Яблоновский – с многими сотнями, категорически отказавшись вернуть хоть часть его и даже не придя на то собрание сотрудников, на котором обсуждался вопрос о распределении между ними последних сумм.
В момент закрытия газеты касса была пуста, или, по крайней мере, Ходский заявил нам, что из нее он не может уделить сотрудникам ни копейки. Совершенно неожиданно Е. Д. Кускова заявила, что она «достала» 3000 рублей для ликвидации литературных долгов газеты. Откуда она их «достала», почему она, не бывшая ни основательницей, ни собственницей, ни редактором, ни издателем газеты, а только членом редакции (правда, при основании газеты она очень поддерживала Ходского в его решении), почему она считала себя обязанной платить чужие долги, никто не знал и не спрашивал. Все приняли это молча, с радостью и благодарностью.
На последнем заседании сотрудников я был председателем, и его я хорошо помню. Было выяснено, что если бы были возвращены авансы, то 3000 рублей покрыли бы значительную часть долга, без них – приблизительно половину. Авансы сразу решено простить; конечно, мотивом послужила невозможность их взыскивать, тем более что у всех, кроме Яблоновского, авансы были незначительны по размерам. Затем долго обсуждали вопрос, как расплачиваться, и, наконец, пришли к общему соглашению относительно ликвидации некоторых категорий долга и погашения других. Разумеется, непривлекательные стороны человеческой личности сказывались, но в слабой степени, и в общем мы пришли к дружескому улажению вопроса. Конечно, голос Кусковой почти по всем пунктам был решающим, так как ее бескорыстие было очевидно. Разошлись дружески, с взаимным уважением друг к другу, без всякой затаенной злобы.
Года через два Ходский каким-то непостижимым образом оправился и затеял новую газету. Он вошел в соглашение с некоторыми не пользовавшимися уважением в литературных кругах личностями, как проф. Мигулин, нововременец Гофштеттер, и с ними начал издавать газету под названием «Русская земля»205. Он звал в нее и нас, своих бывших сотрудников, но никто из нас не пошел. Газета была сумбурная, представлявшая странную смесь народничества, либерализма, неославянофильства и чего-то еще, и была совершенно бездарна. Внимание к себе она не привлекла; ее никто никогда не цитировал, никто даже не полемизировал с ней, и месяца через три она погибла. На этот раз, кажется, можно сказать, что она погибла в борьбе с равнодушием публики.
После этого я имел дело с Ходским еще два раза.
Кажется, в 1909 г. (а может быть, и позже) Ходский отбывал свое тюремное заключение206. В это время я судился по одному из своих многочисленных дел, связанных с моим редакторством «Нашей жизни». В свидетельстве его у меня не было ни малейшей нужды, но внешне благовидный предлог для вызова его найти было не трудно, и я думал, что доставлю ему удовольствие, если прерву скуку его тюремного заключения возможностью развлечься поездкой, хотя бы и в тюремной карете, в суд и повидать там, хотя бы издали, знакомых людей. Но из предосторожности раньше, чем потребовать формально его вызова, я передал это пожелание ему через ходившую к нему на свидания его племянницу и, к удивлению, получил и устно, и потом дополнительно письменно решительную, даже несколько раздраженную просьбу этого не делать. Я, конечно, охотно отказался от вызова, но решительно недоумевал о мотивах. Мне самому и, как мне кажется, почти всякому другому такой вызов был бы только приятен.
В начале революции 1917 г. он приехал ко мне и просил меня принять участие, прочтением доклада по избирательному праву, в организуемом им собрании студентов Лесного института, где он состоял профессором. Я с удовольствием принял предложение, и доклад был прочитан. Это было последнее наше свидание. Вскоре после этого он умер207.
Воспоминание о нем осталось у меня очень сложное, и разобраться в его личности я не могу, хотя в течение четырех лет видался с ним почти ежедневно. Что его толкнуло на газетную дорогу? Был он человек профессорского типа (притом был профессором добросовестным, знающим, но довольно заурядным); общественные инстинкты и интересы людей этого типа находят удовлетворение в научной работе и к непосредственной общественной работе влечения не чувствуют. Близким газетным сотрудником какой бы то ни было газеты он никогда не был. Вдруг он почувствовал газетный зуд, причем пожелал не вступить в какую-нибудь существующую газету, но непременно основать собственную. И произошло это не тогда, когда общий предреволюционный угар опьянил многих ранее политически неактивных людей, а раньше, еще в 1903 г. Находилось это, вероятно, в связи с получением им 20 000 рублей от продажи своего небольшого имения (продал ли он имение для газеты, или газета явилась неожиданным последствием продажи, – этого я не знаю). Но ведь 20 000 рублей можно истратить и на что-нибудь другое, а не только на газету; к тому же у Ходского была жена, которая, вероятно, могла бы помочь ему в этом (жена эта скоро умерла, когда издавалась «Наша жизнь»). К тому же для газеты 20 000 – сумма совершенно ничтожная; с нею начинать газету – это верное выбрасывание денег на ветер, и только совершенно исключительные условия революционного момента сделали ее достаточной для начала.
В 1903 г., когда Ходский начал хлопоты о газете, для ее возникновения требовалось разрешение Главного управления по делам печати, каковое давалось с очень большим трудом. Требовались долгие утомительные хлопоты, требовалась большая предварительная энергия. Ходский проявил ее. Обнаружить такую энергию могли люди двух категорий: или люди с большим газетным зудом, газетчики по призванию, или же дельцы, рассчитывающие на большой доход либо от ее ведения, либо от перепродажи разрешения в другие руки. Ни того, ни другого мотива я не могу приписать Ходскому.
В Главном управлении его спрашивали:
– Вы хотите создать новые «Русские ведомости» в Петербурге? Нам довольно неприятностей с одними в Москве.
– Нет, «Русские ведомости» сами по себе, а я сам по себе208.
Наконец, газету разрешили.
Как составить редакцию? И вот тут передо мной – вторая загадка.
Сам Ходский – человек очень умеренных воззрений и притом не без сумбура в голове. Он никогда не входил ни в какую политическую партию, не входил в силу недисциплинированности своей натуры, которую сам принимал за своеобразие своих убеждений. Ни в каком случае нельзя поместить его «левее кадетов»; он был либо кадетоидом, либо – и это ближе к истине – правее кадетов, и, может быть, издававшаяся им «Русская земля»209 была ближе к его действительным убеждениям, чем «Наша жизнь». И тем не менее он обратился к людям, которые почти все принадлежали к радикальному течению и после образования партий оказались «левее» кадетов. В большом числе он пригласил людей, лично ему знакомых по Саратову, откуда сам был родом; частью это были люди, в то время почти совсем неизвестные в литературе: Жилкин, Неманов (ныне близкий сотрудник милюковских «Последних новостей»), Португалов; из людей, уже тогда известных, имелись Прокопович, Кускова, В. С. Голубев. Затем, частью по самостоятельному выбору, частью по рекомендации вышеназванных, он пригласил некоторых лиц, с которыми у него близкого знакомства не было: Богучарского, меня и некоторых других.
Что заставило его выбрать такой контингент сотрудников? Конечно, очень легко сказать: он почувствовал веяние эпохи и понял, что эти люди могут создать ему успех. Но такая мотивировка слишком шаблонна, слишком элементарно-грубая, чтобы быть верной; к тому же за Ходским я не могу признать такого тонкого политического нюха. Это совсем не Суворин210 и не член суворинской семьи211. Тут несомненно было что-то более глубокое. Редакцию он подобрал, следовательно, индивидуально, но вполне удачно в том отношении, что она сразу спелась и оказалась однородной и дружной. Но затем он сразу предоставил все дело в ее руки на коллегиальных основах, сохранив за собой хозяйственное верховенство и положение ответственного редактора с правом цензурного вето, которым пользовался не всегда благоразумно. Избирать редактора он предоставил редакции и признал даже право браковать его собственные статьи, которым мы иногда и пользовались.
Значит ли это, что он обладал товарищескими чувствами, был человеком коллегиальным? Напротив. Товарищем он был дурным, иметь дело с ним было тяжело и неприятно. Он отстаивал каждую мелочь очень упрямо, раздраженно, неприятным тоном и только в случае очень решительного требования с нашей стороны уступал. Но неприятный осадок оставался после каждого с ним спора.
В денежных вопросах он был очень экономен, можно сказать – скуп. Жалованье и гонорары у нас были значительно, раза в полтора ниже, чем в «Сыне Отечества», не говоря уже о старых богатых газетах, как «Новое время». На всякое требование, вроде посылки корреспондента на войну с необходимо высокими путевыми расходами, он шел крайне неохотно, хотя это для газеты было совершенной необходимостью. Но вместе с тем в делах денежных он производил впечатление безукоризненно честного человека. Я уже рассказал выше, как он поступил во время запрещения газеты в начале 1905 г. Когда газета приближалась к гибели и у нас начались задержки в выдаче жалованья, он каждого сотрудника предупреждал:
– Газета находится в тяжелом положении. В настоящее время я не могу уплатить вам всего, что я вам должен, и несомненно это будет продолжаться еще некоторое время. Если газета оправится, вы получите свое сполна. Если не оправится, я вам уплатить своего долга не смогу. Решайте сами, оставаться ли вам в газете.
Я добрый десяток раз работал в гибнущих предприятиях и никогда такого отношения не встречал. Всегда издатели ввиду предстоящей гибели начинали давать неисполняемые обещания, лгать, увиливать, уклоняться от разговоров. Одних никак нельзя было поймать: они назначали время и место свидания для денежного разговора – и в назначенные время и место не являлись; другие говорили: «Простите, это случайная временная заминка, на будущей неделе я вам все пришлю по почте»; «Ах, действительно, я обещал уплатить на этой неделе; простите, понадобилось произвести экстренный платеж; на будущей неделе непременно». Третьи предоставляли объясняться с конторщиками, которые ничего сказать не могли, и т. д. Честные, откровенные заявления Ходского составляют совершенно исключительный уникум, и потеря мною за «Нашей жизнью» довольно значительной суммы, весьма для меня тяжелая, вместе с тем не оставила во мне ни малейшего чувства горечи лично против Ходского; напротив, [оставила] чувство уважения к нему как к очень корректному человеку.
Помимо «Нашей жизни» в описываемый период я работал и в других изданиях. Продолжалась моя давнишняя работа в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза – Ефрона, выпускавших в это время (1906–1907 гг.) последние свои дополнительные тома. Пописывал отдельные статьи в «Русском богатстве» и в других различных изданиях. Издал шестью отдельными выпусками «Сборник программ политических партий в России»212, который сначала имел громадный успех: первые выпуски, в которые вошли программы партий социалистов-революционеров и социал-демократов, разошлись в два-три месяца в 10 000 экземпляров; но следующие выпуски с программами партий правых расходились все медленнее, так что на шестом выпуске мне пришлось прекратить издание.
Но гораздо более душевно связан я был со своею политической деятельностью.
Осенью 1906 г. был созван первый партийный съезд Трудовой группы в Финляндии на берегу Сайменского канала213.
Как я уже говорил, Трудовая группа образовалась в самой 1‐й Думе из ряда беспартийных, а частью принадлежавших к другим партиям депутатов. Таким образом, она не являлась политической партией в точном смысле этого слова; никакой организации вне Думы у нее не было; слово «группа» вполне точно соответствовало ее характеру. Она была сначала только думской фракцией. Во время Думы, однако, начала обрастать организацией. Прежде всего в Петербурге появились люди, к Думе не принадлежавшие, но вошедшие в состав группы, как я, что уже само по себе изменяло и нарушало ее характер как только думской фракции. Затем появилось значительное число лиц, заявлявших о своей готовности поддерживать группу. Я говорил о приговорах волостных собраний о присоединении к Трудовой группе. Такие приговоры были, конечно, наивны и говорили только о сочувствии, но не о реальной организации и практического значения не имели. Но уже во время Думы и особенно тотчас после ее разгона в разных местах начали возникать организации, ставившие своей задачей содействие Трудовой группе.
После разгона сразу выдвинулась задача содействия проведению членов Трудовой группы во вторую Думу. Такая организация образовалась и в Петербурге, и в нее сразу вошло свыше 100 членов, довольно регулярно плативших членские взносы. В нее вошли два небезызвестных педагога – С. Ф. Знаменский и Душечкин, писательницы Любовь Гуревич и О. Волькенштейн, проф. А. А. Жижиленко (года через два из нее вышедший и присоединившийся к кадетам) и, конечно, все бывшие депутаты, оставшиеся в Петербурге. Большинство депутатов, пришедших в группу из партии социалистов-революционеров, остались в группе; к ним принадлежали Аникин, Седельников, Григорий Карпович Ульянов и другие. Таким образом, месяца через два после разгона Думы Трудовая группа обратилась в настоящую политическую партию (хотя и сохранившую, ввиду его популярности, название группы), имевшую свои многочисленные отделения по всей России.
Явилась надобность оформить, конституировать эту партию. Для этого решено созвать общий съезд, который и собрался ранней осенью где-то на берегу Сайменского канала. Там был выбран Центральный Комитет, в который вошли Брамсон, Аникин, я и многие другие; комитету дано право кооптации, которым он и пользовался ввиду обнаружившейся невозможности созвать новый съезд. Выработана была программа группы. Некоторые участники съезда желали объявления группы социалистической, но большинство, заявляя себя лично социалистами, не видели в этом надобности. В программе была подробно развита практическая сторона, т. е. то, что в программах социалистических партий называется программой-минимум, а именно: наши политические требования (всеобщее голосование, свобода слова и т. д.) и требования социальные, в частности и в особенности в области аграрного вопроса214.
Тяжелый вопрос стоял перед нами: что делать для проведения в жизнь Выборгского воззвания? Несколько восстаний было подавлено. Налоги платились всеми. Можно ли было призывать к прекращению их платежа и к военной забастовке? Было ясно, что, кроме нескольких отдельных вспышек, которые будут залиты кровью, из таких призывов ничего не выйдет. Пришлось от Выборгского воззвания отказаться. И стало ясно, что как в Выборге мы (вместе с социал-демократами) оказались в хвосте у кадетов, так и теперь в отказе от него мы идем за ними же.