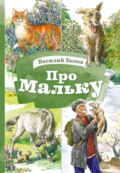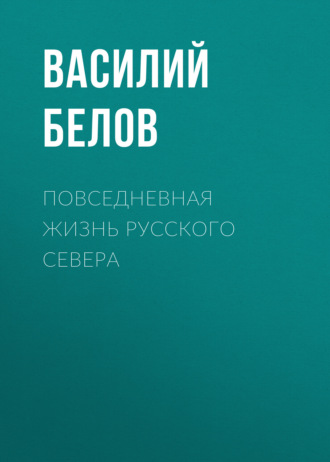
Василий Белов
Повседневная жизнь русского Севера
Отрочество
Чем же отличается детство от отрочества? Очень многим, хотя опять же между ними, как и между другими возрастами, нет четкого разделения: все изменения происходят плавно, особенности той и другой поры переплетаются и врастают друг в друга. Условно границей детства и отрочества можно назвать время, когда человек начинает проявлять осмысленный интерес к противоположному полу. Однажды, истопив очередную баню, мать, бабушка или сестра собирают мальчишку мыться, а он вдруг начинает капризничать, упираться и выкидывать "фокусы". – Ну ты теперь с отцом мыться пойдешь! – спокойно говорит бабка. И… все сразу становится на свои места. Сестре, а иногда и матери невдомек, в чем тут дело, почему брат или сын начал бурчать что-то под нос и толкаться локтями. Общая нравственная атмосфера вовсе не требовала какого-то специального полового воспитания. Она щадила неокрепшее самолюбие подростка, поощряла стыдливость и целомудрие. Наблюдая жизнь домашних животных, человек уже в детстве понемногу познавал основы физиологии. Деревенским детям не надо было объяснять, как и почему появляется ребенок, что делают ночью жених и невеста и т. д. Об этом не говорилось вообще, потому что все это само собой разумелось, и говорить об этом не нужно, неприлично, не принято. Такая стыдливость из отрочества переходила в юность, нередко сохранялась и на всю жизнь. Она придавала романтическую устойчивость чувствам, а с помощью этого упорядочивала не только половые, но и общественные отношения. В отрочестве приходит к человеку первое и чаще всего не последнее увлечение, первое чувство со всем его психологическим многоцветием. До этого мальчик или девочка как бы "репетируют" свою первую настоящую влюбленность предыдущим увлечением взрослым "объектом" противоположного пола. И если над таким несерьезным увлечением подсмеиваются, вышучивают обоих, то первую подлинную любовь родственники как бы щадят и стараются не замечать, к тому же иной подросток не хуже взрослого умел хранить свою жгучую тайну. Тайна эта нередко раскрывалась лишь в юности, когда чувство узаконивалось общественным мнением. Обстоятельства, связанные с первой любовью, объясняют все особенности поведения в этом возрасте. Если раньше, в детскую пору, человек был открытым, то теперь он стал замкнутым, откровенность с родными и близкими сменилась молчанием, а иногда и грубостью. Улица так же незаметно преображается. В детские годы мальчики и девочки играли в общие игры, все вместе, в отрочестве они частенько играют отдельно и задирают друг друга. Становление мальчишеского характера во многом зависело от подростковых игр. Отношения в этих играх были до предела определенны, взрослым они казались иногда просто жестокими. Если в семье еще и для подростка допускались снисхождение, нежность, то в отношениях между сверстниками-мальчишками (особенно в играх) царил спартанский дух. Никаких скидок на возраст, на физические особенности не существовало. Нередко, испытывая свою физическую выносливость или будучи спровоцирован, подросток вступал в игру неподготовленным. Его "гоняли" без всякой жалости весь вечер и, если он не отыгрывался, переносили игру на следующий день. Трудно даже представить состояние неотыгравшегося мальчишки, но еще больше страдал бы он, если бы сверстники пожалели его, простили, оставили неотыгравшимся. (Речь идет только о спортивных, физических, а не об умственных играх.) Взрослые скрепя сердце старались не вмешиваться. Дело было совершенно принципиальное: необходимо выкрутиться, победить, и победить именно самому, без посторонней помощи. Одна такая победа еще в отрочестве превращала мальчика в мужчину. Игры девочек не имели подобной направленности, они отличались спокойными, лирическими взаимоотношениями играющих. Жизнь подростка еще допускала свободные занятия играми. Но они уже вытеснялись более серьезными занятиями, не исключающими, впрочем, и элементов игры. Во-первых, подросток все больше и больше втягивался в трудовые процессы*, во-вторых, игры все больше заменялись развлечениями, свойственными уже юности. – –* " – Довольно, Ванюша! гулял ты немало, пора за работу, родной! – но даже и труд обернется сначала к Ванюше нарядной своей стороной…" Н. А. Некрасов здесь во всем прав, кроме одного: резкого перехода от "гуляния" к труду не существовало, он был постепенным. Можно добавить еще, что труд считался благом, а не обузой. Подростки обоего пола могли уже косить травы, боронить, теребить, возить и околачивать лен, рубить хвою, драть корье и т. д. Конечно же, все это под незримым руководством и тщательным наблюдением взрослых. Соревнование, иначе трудовое, игровое и прочее соперничество, особенно характерно для отроческой поры. Подростка приходилось осаживать, ведь ему хочется научиться пахать раньше ровесника, чтобы все девки, большие и маленькие, увидели это. Хочется нарубить дров больше, чем у соседа, чтобы никто не назвал его маленьким или ленивым, хочется наловить рыбы для материнских пирогов, насобирать ягод, чтобы угостить младших, и т. д. Удивительное сочетание детских привилегий и взрослых обязанностей замечается в этот период жизни! Но как бы ни хороши были привилегии детства, их уже стыдились, а если и пользовались, то с оглядкой. Так, дома, в семье, среди своих младших братьев еще можно похныкать и поклянчить у матери кусочек полакомей. Но если в избе оказался сверстник из другого дома, вообще кто-то чужой, быть "маленьким" становилось стыдно. Следовательно, для отрочества уже существовал неписаный кодекс поведения. Мальчик в этом возрасте должен был уметь (стремился, во всяком случае) сделать топорище, вязать верши, запрягать лошадь, рубить хвою, драть корье, пасти скот, удить рыбу. Он уже стеснялся плакать, прекрасно знал, что лежачего не бьют и двое на одного не нападают, что если побился об заклад, то слово надо держать, и т. д. Девочки годам к двенадцати много и хорошо пряли, учились плести, ткать, шить, помогали на покосе, умели замесить хлебы и пироги, хотя им этого и не доверяли, как мальчишкам не доверяли, например, точить топор, резать петуха или барана, ездить без взрослых на мельницу. Подростки имели право приглашать в гости своих родственных или дружеских ровесников, сами, бывая в гостях, сидели за столом наравне со взрослыми, но пить им разрешалось только сусло. На молодежных гуляньях они во всем подражали более старшим, "гуляющим" уже взаправду. Для выхода лишней энергии и как бы для удовлетворения потребности в баловстве и удали существовала нарочитая пора года – Святки. В эту пору общественное мнение не то чтобы поощряло, но было снисходительным к подростковым шалостям. Набаловавшись за святочную неделю, изволь целый год жить степенно, по-человечески. А год – великое дело. Поэтому привыкать к святочным шалостям просто не успевали, приближалась иная пора жизни[38].
Юность
Непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегает по причинным местам и улицам, разиня пазухи, садится к другим молодцам и мужчинам, толкает локтями, а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится и напивается пьяна. Скачет по столам и скамьям, дает себя по всем углам таскать и волочить, яко стерва. Ибо где нет стыда, там и смирение не является. О сем вопрошая, говорит избранная Люкреция по правде: ежели которая девица потеряет стыд и честь, то что у ней остатца может? Юности честное зерцало
"Старших-то слушались, – рассказывает Анфиса Ивановна, "Зерцало" никогда не читавшая, – бывало, не спросясь, в чужую деревню гулять не уйдешь. Скажешь: "Ведь охота сходить". Мать, а то бабушка и ответят: "Охотку-то с хлебом съешь!" Либо: "Всяк бы девушку знал, да не всяк видал!" А пойдешь куда на люди, так наказывают: "Рот-то на опашке поменьше держи". Не хохочи, значит". Стыд – одна из главных нравственных категорий, если говорить о народном понимании нравственности. Понятие это стоит в одном ряду с честью и совестью, о которых у Александра Яшина сказано таю
В несметном нашем богатстве Слова драгоценные есть: Отечество, Верность, Братство. А есть еще: Совесть, Честь…
Существовала как природная стыдливость (не будем путать ее с застенчивостью), так и благоприобретенная. В любом возрасте, начиная с самого раннего, стыдливость украшала человеческую личность, помогала выстоять под напором соблазнов[39]. Особенно нужна она была в пору физического созревания. Похоть спокойно обуздывалась обычным стыдом, оставляя в нравственной чистоте даже духовно неокрепшего юношу. И для этого народу не нужны были особые, напечатанные в типографии правила, подобные "Зерцалу". Солидные внушения перемежаются в этой книге такими советами: "И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит…" "Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах[40] быть и тако танцевать, для того, что тем одежду дерут у женского полу и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов". Ясно, что книга не крестьянского происхождения, поскольку крестьяне "острогов" не носили и на свадьбах плясали, а не танцевали. Еще больше изобличает происхождение "Зерцала" такой совет: "Младые отроки должны всегда между собою говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо, когда им что тайное говорить случается, чтобы слуги и служанки дознаться не могли и чтобы можно их от других незнающих болванов распознать…" Вот, оказывается, для чего нужны были иностранные языки высокородным пижонам, плодившимся под покровом петровских реформ[41]. Владение "политесом" и иностранными языками окончательно отделило высшие классы от народа. (Это не значит, конечно, что судить о дворянской культуре надо лишь по фонвизинским Митрофанушкам.) Отрочество перерастало в юность в течение нескольких лет. За это время крестьянский юноша окончательно развивался физически, постигал все виды традиционного полевого, лесного и домашнего труда. Лишь профессиональное мастерство (плотничанье, кузнечное дело, а у женщин "льняное" искусство) требовало последующего освоения. Иные осваивали это мастерство всю жизнь, да так и не могли до конца научиться. Но вредило ли им и всем окружающим такое стремление? Если парень не научится строить шатровые храмы, то избу-то рубить обязательно выучится. Если девица не научится ткать "в девятерник", то простой-то холст будет ткать обязательно, и т. д. Юность полна свежих сил и созидательной жажды, и, если в доме, в деревне, в стране все идет своим чередом, она прекрасна сама по себе, все в ней счастливо и гармонично. В таких условиях девушка или парень успевает и ходить на беседы, и трудиться. Но даже и в худших условиях хозяйственные обязанности и возрастные потребности редко противоречили друг другу. Наоборот, они взаимно дополнялись. К примеру, совместная работа парней и девиц никогда не была для молодежи в тягость. Даже невзгоды лесозаготовок, начавшихся с конца двадцатых годов и продолжавшихся около тридцати лет, переживались сравнительно легко благодаря этому обстоятельству. Сенокос, хождение к осеку, весенний сев, извоз, многочисленные помочи давали молодежи прекрасную возможность знакомства и общения, что, в свою очередь, заметно влияло на качество и количество сделанного. Кому хочется прослыть ленивым, или неряхой, или неучем? Ведь каждый в молодости мечтает о том, что его кто-то полюбит, думает о женитьбе, замужестве, стремится не опозориться перед родными и всеми другими людьми. Труд и гулянье словно бы взаимно укрощались, одно не позволяло другому переходить в уродливые формы. Нельзя гулять всю ночь до утра, если надо встать еще до восхода и идти в поскотину за лошадью, но нельзя и пахать дотемна, поскольку вечером снова гулянье у церкви. Правда, бывало и так, что невыспавшиеся холостяки шли в лес и, нарочно не найдя лошадей, заваливались спать в пастуший шалаш. Но у таких паренина в этот день оставалась непаханой, а это грозило и более серьезными последствиями, чем та, о которой говорилось в девичьей частушке: Задушевная, невесело Гулять осмеянной. У любого ягодиночки Загон несеяной. Небалованным невестам тоже приходилось рано вставать, особенно летом. "Утром меня маменька будит, а я сплю-ю тороплюсь"[42]. Родители редко дудели в одну дуду. Если отец был строг, то мать обязательно оберегала дочь от слишком тяжелой работы. И наоборот. Если же оба родителя оказывались не в меру трудолюбивыми, то защита находилась в лице деда, к тому же и старшие братья всегда как-то незаметно оберегали сестер. Строгость в семье уравновешивалась добротой и юмором. Большинство знакомств происходило еще в детстве и отрочестве, главным образом в гостях, ведь в гости ходили и к самым дальним родственникам. Как говорится, седьмая вода на девятом киселе, а все равно знают друг друга и ходят верст за пятнадцать – двадцать. Практически большая или маленькая родня имелась если не в каждой деревне, то в каждой волости. Если же в дальней деревне не было родни, многие заводили подруг или побратимов. Коллективные хождения гулять на праздники еще более расширяли возможности знакомств. Сходить на гулянье за 10 – 15 километров летом ничего не стоило, если позволяла погода. Возвращались в ту же ночь, гости же – через день-два, смотря по хозяйственным обстоятельствам. В отношениях парней и девушек вовсе не существовало какого-то патриархального педантизма, мол, если гуляешь с кем-то, так и гуляй до женитьбы. Совсем нет. С самого отрочества знакомства и увлечения менялись, молодые люди как бы "притирались" друг к другу, искали себе пару по душе и по характеру. Это не исключало, конечно, и случаев первой и последней любви. Свидетельством духовной свободы, душевной раскованности в отношениях молодежи являются тысячи (если не миллионы) любовных песен и частушек, в которых женская сторона отнюдь не выглядит пассивной и зависимой. Измены, любови, отбои и перебои так и сыплются в этих часто импровизированных и всегда искренних частушках. Родители и старшие не были строги к поведению молодых людей, но лишь до свадьбы. Молодожены лишались этой свободы, этой легкости новых знакомств навсегда и бесповоротно. Начиналась совершенно другая жизнь. Поэтому свадьбу можно назвать резкой и вполне определенной границей между юностью и возмужанием. Но и до свадьбы свобода и легкость новых знакомств, увлечений, "любовей" отнюдь не означали сексуальной свободы и легкомысленности поведения. Можно ходить гулять, знакомиться, но… Девичья честь прежде всего. Существовали вполне четкие границы дозволенного, и переступались они весьма редко. Обе стороны, и мужская и женская, старались соблюдать целомудрие. Как легко впасть в грубейшую ошибку, если судить об общенародной нравственности и эстетике по отдельным примерам! Приведем всего лишь два: пьяный, вошедший в раж гуляка, отпустив тормоза, начинает петь в пляске скабрезные частушки, и зрители одобрительно и, что всего удивительнее, искренне ахают. Зато потом никто не будет относиться к нему всерьез… Новейшие чудеса вроде цирка и ярмарочных аттракционов с женщинами-невидимками каждый в отдельности воспринимает с наивным, почти детским одобряющим восторгом. Но общее, так сказать, глобальное народное отношение к этому все-таки оказывалось почему-то определенно насмешливым. А к некоторым вопросам нравственности общественное мнение было жестоким, неуступчивым, беспощадным. Худая девичья слава катилась очень далеко, ее не держали ни леса, ни болота. Грех, свершенный до свадьбы, был ничем не смываем. Зато после рождения внебрачного ребенка девице как бы прощали ее ошибку, человечность брала, верх над моральным принципом. Мать или бабушка согрешившей на любые нападки отвечали примерно такой пословицей: "Чей бы бычок ни скакал, а телятко наше". Ошибочно мнение, что необходимость целомудрия распространялась лишь на женскую половину. Парень, до свадьбы имевший физическую близость с женщиной, тоже считался испорченным, ему вредила подмоченная репутация, и его называли уже не парнем, а мужиком*. – –* В начале века понемногу распространяется иное, противоположное представление о мужском достоинстве. Конечно, каждый из двоих, посягнувших на целомудрие, рассчитывал на сохранение тайны, особенно девушка. Тайны, однако ж, не получалось. Инициатива в грехе исходила обычно от парня, и сама по себе она зависела от его нравственного уровня, который, в свою очередь, зависел от нравственного уровня в его семье (деревне, волости, обществе). Но в безнравственной семье не учат жалеть других и держать данное кому-то слово. В душе такого ухаря обычно вскипала жажда похвастать, и тайны как не бывало. Дурная девичья слава действовала и на самого виновника, его обвиняли не меньше. Ко всему прочему чувства его к девице, если они и были, быстро исчезали, он перекидывался на другой "объект" и в конце концов женился кое-как, не по-хорошему. Девушка, будучи опозоренной, тоже с трудом находила себе жениха. Уж тут не до любви, попался бы какой-нибудь. Даже парень из хорошей семьи, но с клеймом греха, терял звание славутника[43], и гордые девицы брезговали такими. Подлинный драматизм любовных отношений испытывало большинство физически и нравственно здоровых людей, ведь и счастливая любовь не исключает этого драматизма. Красота отношений между молодыми людьми питалась иной раз, казалось бы, такими взаимно исключающимися свойствами, уживающимися в одном человеке, как бойкость и целомудрие, озорство и стыдливость. Любить означало то же самое, что жалеть, любовь бывала "горячая" и "холодная". О брачных отношениях, их высокой поэтизации ярко свидетельствует такая народная песня:
Ты воспой, воспой, Жавороночек. Ты воспой весной На проталинке. Ты подай голос Через темный лес, Через темный лес, Через бор сырой В Москву каменку, В крепость крепкую! Тут сидел, сидел Добрый молодец, Он не год сидел И не два года. Он сидел, сидел Ровно девять лет, На десятый год Стал письмо писать, Стал письмо писать К отцу с матерью. Отец и матерью Отказалися: "Что у нас в роду Воров не было". Он еще писал Молодой жене, Молода жена Порасплакалась…
Но женитьба и замужество – это не только духовно-нравственная, но и хозяйственно-экономическая необходимость. Юные годы проходили под знаком ожидания и подготовки к этому главному событию жизни. Оно стояло в одном ряду с рождением и смертью. Слишком поздняя или слишком ранняя свадьба представлялась людям несчастьем. Большая разница в годах жениха и невесты также исключала полнокровность и красоту отношений. Неравные и повторные браки в крестьянской среде считались не только несчастливыми, но и невыгодными с хозяйственно-экономической точки зрения. Такие браки безжалостно высмеивались народной молвой. Красота и противоестественность исключали друг друга. Встречалось часто не возрастное, а имущественное неравенство. Но и оно не могло всерьез повлиять на нравственно-бытовой комплекс, который складывался веками. Жалость (а по-нынешнему любовь) пересиливала все остальное.
Пора возмужания
Жизнь в старческих воспоминаниях неизменно делилась на две половины: до свадьбы и после свадьбы. И впрямь, еще не стихли песни и не зачерствели свадебные пироги, как весь уклад, весь быт человека резко менялся. В какую же сторону? Такой вопрос прозвучал бы наивно и неуместно. Если хорошенько разобраться, то он даже оскорбителен для зрелого нравственного чувства. Категории "плохо" и "хорошо" отступают в таких случаях на задний план. Замужество и женитьба не развлечение (хотя и оно тоже) и не личная прихоть, а естественная жизненная необходимость, связанная с новой ответственностью перед миром, с новыми, еще не испытанными радостями. Это так же неотвратимо, как, например, восход солнца, как наступление осени и т. д. Здесь для человека не существовало свободы выбора. Лишь физическое уродство и душевная болезнь освобождали от нравственной обязанности вступать в брак. Но ведь и нравственная обязанность не воспринималась как обязанность, если человек нравственно нормален. Она может быть обязанностью лишь для безнравственного человека. Только хотя бы поэтому для фиксирования истинно народной нравственности не требовалось никаких письменных кодексов вроде упомянутого "Зерцала" или же "Цветника", где собраны правила иноческого поведения. Закончен наконец драматизированный, длившийся несколько недель свадебный обряд. Настает пора возмужания, пора зрелости – самый большой по времени период человеческой жизни. Послесвадебное время не только самое интересное, но и самое опасное для новой семьи. Выражения "сглазить" или "испортить" считаются в образованном мире принадлежностью суеверия. Но дело тут не в "черной магии". Первые нити еще не окрепших супружеских связей легче всего оборвать одним недобрым словом или злым, пренебрежительным взглядом. Психологическое вживание невесты в мир теперь уже не чужой семьи проходило не всегда быстро и гладко. Привычки, особенности, порядки хоть и основаны на общей традиции, но разны во всех семьях, во всех домах. У одних, например, пекут рогульки тоненькие, у других любят толстые, в этом доме дрова пилят одной длины, а в том – другой, потому что печи разные сбиты, а печи разные, потому что мастера неодинаковы, и т. д. Молодой женщине, привыкшей к девичьей свободе, к родительской заботе и ласке, нелегко вступать в новую жизнь в новой семье. Об этом в народе слагали несчетные песни:
Ты зайдешь черту невозвратную, Из черты назад не возвратишься, В девичий наряд не нарядишься. Не цветут цветы после осени, Не растет трава зимой по снегу, Не бывать молоде в красных девицах.
Трагическая необходимость смены жизненных периодов, звучащая в песнях, нередко принимается за доказательство ужасного семейного положения русской женщины, ее неравноправия и забитости. Легенда об этом неравноправии развеивается от легкого прикосновения к фольклорным и литературным памятникам.
Ты не думай, дорогой, Одна-то не останутся, Не тебе, так твоему Товарищу достанутся, публично и во всеуслышание поет девушка на гулянье, если суженый начинал заноситься. О неудавшемся браке пелось такими словами:
Какова ни была, да замуж вышла За таково за детину да за невежу. Не умеет вор-невежа со мной жити, Он в пир пойдет, невежа, не простится, А к воротам идет, невежа, кричит-вопит: "Отпирай, жена, широки ворота!" Уж как я, млада-младешенька, догадалась, Потихошеньку с постелюшки вставала, На босу ногу башмачки надевала, Я покрепче воротички запирала: "Уж ты спи-ночуй, невежа, да за воротами, Тебе мягка постель да снежки белы, Тебе крутое изголовье да подворотня, Тебе тепло одеяло да ветры буйны, Тебе цветная занавеска часты звезды, Тебе крепкие караулы да волки серы".
В том и соль, что в народе никому и в голову не приходило противопоставлять женщину мужчине, семью главе семейства, детей родителям и т. д. Ни былинная Авдотья-рязаночка, ни историческая Марфа-посадница, ни обе Алены (некрасовская и лермонтовская) не похожи на забитых, неравноправных или приниженных. Историк Костомаров, говоря о "Русской правде" (первый известный науке свод русских законов), пишет: "Замужняя женщина пользовалась одинаковыми юридическими правами с мужчиной. За убийство или оскорбление, нанесенное ей, платилась одинаковая вира". Грамотность или неграмотность человека в Древней Руси также не зависела от половой принадлежности. "Княжна Черниговская Евфросиния, дочь Михаила Всеволодовича, завела в Суздале училище для девиц, где учили грамоте, письму и церковному пению", – говорит тот же Костомаров, основываясь на летописных свидетельствах. Равноправие, а иногда и превосходство женщины в семье были обусловлены экономическими и нравственными потребностями русского народного быта. Какой смысл для главы семейства бить жену или держать в страхе всех домочадцев? Только испорченный, глупый, без царя в голове мужичонка допускал такие действия. И если природная глупость хоть и с усмешкой, но все же прощалась, то благоприобретенная глупость (самодурство) беспощадно высмеивалась. Худая слава семейного самодура, подобно славе девичьего бесчестия, тоже бежала далеко "впереди саней". Авторитет главы семейства держался не на страхе, а на совести членов семьи. Для поддержания такого авторитета нужно было уважение, а не страх. Такое уважение заслуживалось только личным примером: трудолюбием, справедливостью, добротой, последовательностью. Если вспомним еще о кровном родстве, родительской и детской любви, то станет ясно, почему "боялись" младшие старших. "Боязнь" эта даже у детей исходила не от страха физической расправы или вообще наказания, а от стыда, от муки совести. В хорошей семье один осуждающий отцовский взгляд заставлял домочадцев трепетать, тогда как в другой розги, ремень или просто кулаки воспринимались вполне равнодушно. Больше того, там, где господствовали грубая физическая сила и страх физической боли, процветали обман, тайная насмешка над старшими и другие пороки. Главенство от отца к старшему сыну переходило не сразу, а по мере старения отца и накопления у сына хозяйственного опыта. Оно как бы понемногу соскальзывает, переливается от поколения к поколению, ведь номинально главой семейства считается дед, отец отца, но всем, в том числе и деду, ясно, что он уже не глава. По традиции на семейных советах деду принадлежит еще первое слово, но оно уже скорей совещательное, чем решающее, и он не видит в этом обиды. Отец хозяина и сын наглядно как бы разделяют суть старшинства: одному предоставлена форма главенства, другому – содержание. И все это понемногу сдвигается. То же самое происходит на женской "половине" дома. Молодая хозяйка с годами становилась главной "у печи", а значит, и большухой. Это происходило естественно, поскольку свекровь старела и таскать ведра скотине, месить хлебы сама уже не всегда и могла. А раз ты хлеб месишь, то и ключ от мучного ларя у тебя, если ты корову доишь, то и молоко разливать, и масло пахтать, и взаймы давать приходится не свекрови, а тебе. У кого лучше пироги получаются, у того и старшинство. Золовкам оставаться надолго в девках противоестественно. Выходит, что женитьба младших сыновей тоже становилась необходимой хотя бы из-за одной тесноты в доме. Но разве одна теснота формировала эту необходимость? Еще до женитьбы второго сына отец, дед и старший сын начинали думать о постройке для него дома, но очень редко окончание строительства совпадало с этой женитьбой. Какое-то время два женатых брата жили со своими семьями под отцовской, вернее, дедовской крышей. Женские неурядицы, обычные в таких случаях, подторапливали строительство. Собрав помочи (иногда двои-трои), отец с сыновьями быстро достраивали дом для младшего. Так же происходило и при женитьбе третьего и четвертого сыновей, если, конечно, война или какая-нибудь иная передряга со всем своим нахальством не врывалась в народную жизнь. Супружеская верность служила основанием и супружеской любви, и всему семейному благополучию. Жены в крестьянских семействах плакали, когда мужья ревновали, ревность означала недоверие. Считалось, что если не верит, то и не жалеет, не любит. Оттого и плакали, что не любит, а не потому, что ревнует.