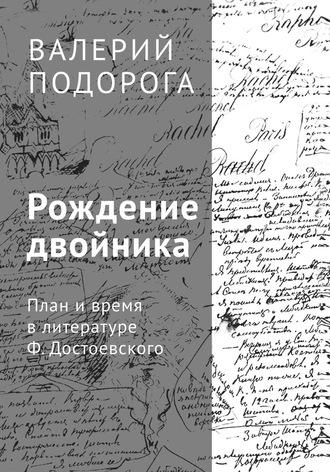
Валерий Подорога
Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского
В. А. Подорога – известный российский философ, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, зав. сектором Аналитической антропологии Института философии РАН. Стипендиат премии «Выдающиеся ученые России» (1996–1998), лауреат премии Андрея Белого (2002) и премии Василия Кандинского (2015). Автор свыше 300 научных работ, среди них монографии:
Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М.: Ad Marginem, 1995.
Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. В 2 т. М.: «Культурная революция», 2006, 2011.
Метафизика ландшафта (новое, дополненное издание). М.: Канон-плюс, 2012–2013.
Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии. М.: Grundrisse, 2016.
Второй экран, С. Эйзенштейн и кинематограф насилия. Т. 1. Зеркальная подпорка. М.: Фонд-Бреус, 2017.
Отдельные работы переведены в США, Англии, Австрии, Франции, Сербии, Болгарии, Нидерландах, Германии, Японии.
© Подорога В. А., текст, иллюстрации, 2019
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
Рождение двойника
План и время в литературе Ф. Достоевского

введение
МТХ
«МЕРТВОЕ ТЕЛО ХРИСТА».
Комментарий к картине Тольбейна-мл.
«Toter Christus»(1521)
Текст 1:
«На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне кажется, живописцы обыкновенно повадились изображать Христа, и на кресте, и снятого со креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице; эту красоту они ищут сохранить ему даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет; это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом, и, наконец, крестную муку в продолжение шести часов (так, по крайней мере, по моему расчету). Правда, это лицо человека, только что снятого со креста, то есть сохранившее в себе очень много живого, теплого; ничего еще не успело закостенеть, так что на лице умершего даже проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое (это очень хорошо схвачено артистом); но зато лицо не пощажено нисколько; тут одна природа, и воистину таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был, после таких мук. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно и что и тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул: «Талифа куми» – и девица встала; «Лазарь, гряди вон» – и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо – такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно вечной силе, которой все подчинено, и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. И если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда смотришь на картину»[1].
«– Да это… это копия с Ганса Гольбейна, – сказал князь, успев разглядеть картину, – и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу. Но… что же ты…
Рогожин вдруг бросил картину и пошел прежнею дорогой вперед. Конечно, рассеянность и особое, странно раздражительное настроение, так внезапно обнаружившееся в Рогожине, могло бы, пожалуй, объяснить эту порывчатость; но все-таки как-то чудно стало князю, что так вдруг прервался разговор, который не им же и начат, и что Рогожин даже и не ответил ему.
– А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в бога иль нет? – вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов.
– Как ты странно спрашиваешь и… глядишь! – заметил князь невольно.
– А на эту картину я люблю смотреть, – пробормотал, помолчав, Рогожин, точно опять забыв свой вопрос.
– На эту картину! – вскричал вдруг князь, под впечатлением от внезапной мысли, – на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!»[2].
«…„Смерть Иисуса Христа“, удивительное произведение, которое на меня просто произвело ужас, а Федю до того поразило, что он провозгласил Гольбейна замечательным художником и поэтом. Обыкновенно Иисуса Христа рисуют после его смерти с лицом, искривленным страданиями, но с телом, вовсе не измученным и истерзанным, как в действительности было. Здесь же представлен он с телом похудевшим, кости и ребра видны, руки и ноги с пронзенными ранами, распухшие и сильно посинелые, как у мертвеца, который уже начал предаваться гниению. Лицо тоже страшно измученное, с глазами полуоткрытыми, но уже ничего не видящими и ничего не выражающими. Нос, рот и подбородок посинели; вообще это до такой степени похоже на настоящего мертвеца, что, право, мне казалось, что я не решилась бы остаться с ним в одной комнате. Положим, что это поразительно верно, но, право, это вовсе не эстетично, и во мне возбудило одно только отвращение и какой-то ужас. Федя же восхищался этой картиной. Желая рассмотреть ее ближе, он стал на стул…»[3]
Текст 2:
«Комната больше и выше моей, лучше мебелирована, светлая; шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Но было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад, длиной в вершка четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит; мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна? Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел, поджав ноги, то и надеялся, что оно всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моею головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайной быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтобы оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять; он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось от комнаты, к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку, огромный тернеф, черный и лохматый; умерла пять лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной как вкопанная. Остановился и гад, но все еще извиваясь и пощелкивая на полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь; но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, и что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее; он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожала всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всею свою огромную красную пасть, приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его, уже на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах; хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с ужасною быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полу раздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана… Тут я проснулся, и вошел князь»[4].
«Но мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием. /…/
Окончательному решению способствовала, стало быть, не логика, не логическое убеждение, а отвращение. Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это приведение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула»[5].
Зеркало и гробница
«Гроб Господень» – невообразимое место. И, тем не менее, о нем все известно: «Погребальные гроты, если они предназначались лишь для одного трупа, состояли из небольшого покоя, в глубине которого место для тела устраивалось в виде выступа, или ниши, высеченной в стене и увенчанной аркою. Так как такого рода гроты устраивались с нависшей стороны утеса, то вход в них находился на уровне земли; вместо двери вход обыкновенно заваливали большим тяжелым камнем. В такой пещере и положили тело Иисуса; к входу в нее прикатили камень и условились вернуться для более полного погребения»[6]. Картина может предстать в качестве исторически объективного документа, якобы она отражает то, что действительно было. В картине есть и одно скрытое отношение к реальности, в конечном счете нарушающее правдоподобие того, что изображается. Действительно, художник воображает себе то, чего никогда никто не видел и в тот момент времени, когда доступ к нему был закрыт. «Мертвое тело Христа», образец живописи Гольбейна-мл., является неким символом события (Воскресения), и зеркалом (Реального), т. е. изображением определенного эпизода из христианской истории – События, которое было… Картина – зеркало, так как в ней узнают отображение Христа, как если бы его смерть смогла проявиться на отражающей поверхности стальной пластины, подобно фотографическому снимку или зеркальному отражению. Именно благодаря механистичности отображения стало возможным физическое присутствие, прямо перед зрителем, мертвого тела Христа. Другой Иисус Христос, Христос воскресающий, исчезает, оставляя после себя вот это, отпавшее от Него мертвое тело, словно никакого Воскресения не было и не могло быть, а была лишь человеческая смерть на кресте. Вот очаг неверия. И если есть зеркало, то нет Христа, ведь не может быть зеркала для События, сменяющего в один миг все в целом состояние мира. Христос воскресший, но его воскресение не могло быть отражено в зеркальном отблике. Порядок следующий: картина/зеркало (реального) – мертвое тело Христа – непредставимое (Событие/Воскресение). Мертвое делает отображение реалистическим, тем самым придает образу ценность исторического факта, но не События. Священное распадается на фрагменты обыденного. Зеркало в литературе Достоевского играет роль негативную: подтверждает резкое несоответствие внутреннего образа души внешнему облику и выражению. Зеркало как разрыв личной идентичности. Другими словами, зеркало (или то, что может быть им) не метафора души, ни условие самопознания или развития сознания, а некое безусловное свидетельство реальности происшедшего. Для Достоевского всякое точное изображения человеческого тела и форм телесности не может не привести в конечном счете к утрате веры и уважения к нравственному Закону. Нет ли в литературе Достоевского неявного, неосознаваемого европейского реформационного импульса (чуждого православному), неявного включения древнего запрета изображать Бога? Не иконоборец ли он?[7] Не отрицает ли он в силу влияния, которое оказывает на его мысль образ «Мертвое Тело Христа», практику перевода визуальных знаков и символов в вербальные (достаточно вспомнить о «тайне», «чуде» и «авторитете» из Легенды о великом инквизиторе)? Именно инквизитор пытается отговорить таинственно Посетителя (Христа) от Второго Пришествия, от опасности быть поглощенным Его же собственным земным образом, давно растиражированным, обедненным, ставшим «мертвым», чье истинное назначение так и не понято людьми, утратившими веру, полагая, что именно он, Великий инквизитор, защищает образ Христа от его профанации в требованиях и надеждах толпы. Не предстает ли Великий Инквизитор последним хранителем Образа, ведь он управляет неизобразимым, без чего вера в Спасение не имела бы смысла?
Бог-эпилептик
Но Достоевский ставит все новые вопросы, усиливающие сомнения в вере. Не был ли Христос-Спаситель просто эпилептиком? Ведь его предсмертный крик удивительно схож с криком эпилептика, достигающего пароксизма в припадке, и как будто об этом же говорят свидетели «казни»:
«– Что ж, это чудо? – спрашивает Умецкая. – Конечно, чудо, а впрочем…
– Что?
– Был, впрочем, ужасный крик.
– Какой?
– Элой! Элой!
– Так это затмнение.
– Не знаю – но это ужасный крик»[8].
И как может быть наделено святостью это бьющееся в припадке тело князя-эпилептика, ведь его невозможно видеть без ужаса и содрогания? «Известно, что припадки эпилепсии, собственно самая падучая, приходят мгновенно. В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает все человеческое, и никак невозможно, по крайней мере, очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли так свое впечатление, на многих же вид человека в падучей производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое»[9]. Чем, собственно, «мертвое тело» Христа отличается от тела эпилептика, искалеченного божественной силой? Если же эпилепсия – это болезнь священная и для избранных Богом, то ее следует рассматривать как прямое подражание Богу, именно прямое, а не опосредованное. Всякая дерзкая попытка уподобиться Богу достойна жуткой кары. Переживание полного и совершенного счастья в мгновении припадка – свидетельство чудесного соприкосновения с бытием Бога – наказывается глубокой амнезией. Не здесь ли узкие врата в эпилептический рай? Вот почему, возвращаясь из своего очередного путешествия, «святой идиот» князь Мышкин ничего не помнит.
Todtentanz, или ценность трупа
Итак, самоотрицание, заключенное в образе «мертвого Христа», разрушает принципы христианской иконографии. Паскаль говорит нам об иносказании, отвергая всякое изображение События. Ведь если Он мертв и действительно перед нами т р у п, то разве мог бы Он воскреснуть? Другими словами, если мы будем говорить о Воскресения как Чуде и Событии (разом все изменившем в этом мире), то в таком случае любое изображение в чем-то кощунственно. Событие столь удивительное и великое, что никакой художник не в силах его «изобразить», как оно есть в себе. А Событие это, как мы знаем, не повседневное и не вызвано к жизни понятными причинно-следственными обстоятельствами. Между телом, ужасающим своей косностью, признаками распада, и духовным нет никого соответствия, тело всегда направлено против духовного, оно – темница, склеп и тяжесть, а духовное отрицает телесное господство, особенно в православной в аскетике – там оно обретает легкость, возносится …. Мало того, что Христос помещается в нишу, в узкую и тесную гробницу, он еще и мертв. Образ Христа в изображении Гольбейна-мл. лишается сакральной ауры и более не может быть символом чего-то Высшего (того же Воскресения), как, впрочем, и визуальным знаком некой достоверной реальности, толкуемой на основе исторических свидетельств. В противном случае надо признать, что в этой гробнице, где лежит тело Христа и где как будто не должно быть никого, мы находим модель, художника и нас, зрителей. Уж мы-то сможем восстановить историческую память и узнать, как действительно было дело, – оказаться в том же пространстве, в котором находится Иисус Христос, и даже разделить с ним все Его земные муки, включая Его собственную смерть. Могли бы коснуться сводов пещеры, ощутить запах мертвого, разлагающегося тела, увидеть раны и смертный холод, затем возвратиться к самой казни, испытать все муки и гибель, всю боль в таком вот ретроспективном пробеге нашего воображения.
Известно, что Гольбейн писал «своего» Христа с утопленника. Невыносимый для человеческого взгляда предел священного – «труп Бога». Не просто измученное тело, а мертвое, каким может быть только человеческое тело, вступившее в состояние распада. Трудно объяснить, что же произошло на рубеже последних веков Средневековья и эпохи Возрождения, почему наиболее частым изображением отношения человека к Богу стало отношение человека к собственной смерти. Появление феномена «собственной смерти» и есть центральный момент в духовной эволюции европейской цивилизации (время приблизительно с середины XIV по XVII век включительно). «Смерть себя» как новейшее событие, давшее начало процессу обезбожения мира и становления европейской субъективности[10]. Все время перед Реформацией характеризуется резким упадком веры в Бога и ослаблением в целом влияния католической Церкви на общество. Действительно, и это отмечается, практически, всеми историками, появляется совершенно иная христианская иконография – иконография «мертвого Христа»(не «Христа страдающего, претерпевающего муки»). И она вписывается в тогдашнюю традицию плясок смерти. Гольбейн-мл. создает серию рисунков, посвященных Todtentanz c прекрасным названием “Призрачные и причудливые образы Смерти, столь изысканно нарисованные, сколь и искусно придуманные»(1538), более позднее произведение, чем Toter Christus (1521). Наступление эпохи Нового времени не могло не сопровождаться решающими изменениями в развитии западноевропейской индивидуальности. Разве были бы возможны Декарт и Паскаль, Леонардо и Дюрер, если бы эти изменения не состоялись? Тематика трупа, или тела отторгнутого (отделенного) от души, тела индивидуального, твоего/моего тела возникает именно в эту эпоху. Значение смерти растет, начинает заслонять веру в Бога и искупление (Страшный суд и Воскресение всех); смерть обращает свою «речь» к тому единственному, кто теперь, пораженный ее силой, преследуемый страхом, может слышать ее хорошо. Ведь ему предстоит сначала лично умереть (и как?), прежде чем воскреснуть, – не со всеми вместе, а снова отдельно. Тема символики общего христианского Страшного суда и Воскресения уходит в сторону, замещаясь совершенно иной: темой телесного распада. Но почему? Превосходство смерти, доминирование в культуре и изобразительном искусстве этих веков образа полуразложившегося трупа объясняют множеством одновременно действующих причин (ни одна из которых не была определяющей). Наиболее вероятно, что это результат общего действия трех основных производящих причин: войн, голода и чумы[11]. Иконография мертвого указывает на повседневную близость смерти: «В любое мгновение, как можно ближе к тебе, вот здесь, вот и ты!» Полная сакрализация смерти. Труп как основной объект созерцания мира во время чумы. Именно Черная Смерть смяла веру, Божий Страх перестал играть ту воспитательную роль в смягчении нравов и установлении норм морали, раз смерть уже действует с непредставимой силой и мощью. Сверхобильное производство трупов. Литература и поэзия всегда чувствовала на себе жуткую тяжесть приходящих бедствий, подобных Черной смерти. В русской литературе можно найти образы таких бедствий у Пушкина прежде всего: «Пир во время чумы» и «Медный всадник». Чума не просто убивает, она к тому же и уродует зараженные тела, ускоряя процесс разложения, вызывая сильнейшее эмоциональное возбуждение у свидетелей, вероятных жертв заражения. Однако чума – всего лишь метафора, позволяющая нам понять, как действует эта страшная болезнь, производя недифференцированные состояния органической материи (прежде всего человеческих тел). Другими словами, чума и есть то жуткое насилие, безличное и никому не подвластное, которое буквально разрывает тела. Чума распространяется как всполох, она уничтожает все различия, все разнообразие человеческой жизни, – наиболее жестокая форма насильственного действия. Но самое главное – это скорость, с какой чума распространяется, пожирая все живое, утверждая везде эстетику трупа – культ самой Смерти.
Отношение к смерти
Рогожин и кн. Мышкин проводят ночь у трупа Настасьи Филипповны. Труп повесившегося Ставрогина. Этот герой и прежде был «отвратительно красивой» куклой, показавшейся А. Жиду воплощением «чистой энергии» насилия. Рассказ «Бобок», где тема «обнажимся!» резонирует с трупным разложением, хотя физиологический акцент несколько смазан и не столь развит. Но самое интересное то, что свидетель подслушивает разговоры «мертвых», которые, не принимая во внимание свое «состояние», продолжают все те же мирские дрязги. Труп старца Зосимы играет важную роль в укреплении сил веры без опоры на чудо (главка в «Братьях Карамазовых» под названием «Старец пропах»). А эти нескончаемые упоминания о жутких травмах маленьких детей, об этих унижаемых, развращаемых и насилуемых мальчиках и девочках (с краткой пометкой: «повесившийся мальчик»). Описаний мертвого нет, но его знак как знак высшей интенсивности постоянно используется в качестве мощного эмоционального ресурса. Смерть у Достоевского неизобразима, потому что она ничья, не является предметом глубокой индивидуальной рефлексии.
М.Бахтин вводит различие между манерой письма Достоевского и Толстого на основании их отношения к смерти[12]. Так, он полагает, что для Толстого авторская монологическая позиция имеет абсолютное преимущество. Автор, скрытый за повествовательной канвой, управляет всем этим миром и имеет в своем распоряжении то, что Бахтин называет смысловым избытком, т. е. возможностью как расширять повествование, так и сокращать, вводя новые причины, логические средства и пр. И это все верно и справедливо. В чем же Бахтин недостаточно точен, так это в убеждении, что Достоевский имеет критически осмысленное отношение к смерти, что он «знает о ней». В отличие от «материальных» пластически и биографически достоверных персонажей Толстого, герои Достоевского представляют собой лишь фикс-идеи, они – не живые и индивидуально характеризуемые лица; естественно, обсуждать их историю жизни (рождение/смерть) нет нужды. Казалось бы Достоевский пишет историю семьи Карамазовых, но это вовсе не история, а сейчас-и-здесь происходящее событие, встреча «братьев», случайная и «роковая», наконец, это развернутый судебный очерк об «убийстве отца детьми», пространный и запутанный.
При сравнении литератур Толстого и Достоевского следует интерпретировать смерть в двух режимах: как знак-индекс, указывающий на явление моего/твоего тела в своих позах, со своими жестами и физиогномикой, «историей» и т. п., это смерть субъективная, отнесенная к становлению экзистенциально целостной личности. Эту проблематику смерти прекрасно чувствовали М.Пруст и Л.Толстой. Тот же режим, который свойствен литературе Достоевского, скорее ставит под сомнение значение смерти, «у него никто не умирает». А не умирает потому, что ни один персонаж не получил отдельной живой формы, не сложился в границах диалектики отношений моего/твоего тела, внетелесная функция обезличивает, деперсонализует персонажа, утверждает его безразличие к жизни вне выговариваемой идеи (мысли). Персонаж Достоевского пребывает в кратком периоде существования, он живет, пока говорит (подает голос), он не умирает, пока принадлежит тому, что говорится. За звучащими потоками речи, разливающимся по этим обширным белым пространствам, нет ничего, даже самого слабого «я», как нет и «сознания». Бахтин вынужден допустить в качестве равного противника смерти «сознание» (и «самосознание»); оно не может быть завершено, ибо всегда соотнесено с другим, оно не одно. Но Достоевским такого рода терминология не используется, более того, он крайне негативно относился к самому понятию сознания (позже мы вновь вернемся к обсуждению этой проблемы).
Нет смерти и нет отношения к ней, но есть всеми замечаемая у Достоевского эротика изнасилованного, оскорбляемого, изуродованного и унижаемого тела. Не смерть в центре, а насилие. Смерть не является событием, она отделяется от насилия и не имеет никакой индивидуальной характеристики. Интересно, что плоть человеческая также вне индивидуальных отличий. Присмотритесь, и вы увидите, что в литературе Достоевского устойчиво чувство подавляемой телесности. В качестве ответной реакции – выброс возвышенных, идеальных чувств. «Мертвое тело Христа» не может быть представлено с точки зрения естественного процесса разложения, т. е. теперь это Плоть иная, сакральная, не природная преграда, а свидетельство Воскресения.
Таким образом, телесность у Достоевского скрыта, спрятана, в то время как у Толстого выходит на первый план и все определяет. Для него самым травматичным в картине Гольбейна-мл., конечно, является то, что Христос представлен как «труп», т. е. Он – не просто мертв, как бывает мертв человек, ушедший из жизни; тело унижено чудовищным насилием, оставившим после себя ужасающие следы смерти, – увидев это, разве можно думать о воскресении тела как Святой плоти[13]? Это насилие отыгрывается авторской жестокостью. Именно поэтому часто видят в Достоевском «русского маркиза де Сада». И это справедливо.
Ужас прикосновения
Слышим, буквально, по трепету собственной кожи ощущаем близость этого ужасного существа. Отвратительный образ ядовитого насекомого, «гадины», похожей на скорпиона: «блеск коричневой скорлупы», «трескучий шелест», «движение ядовитых игл», «вибрация хвоста», «необычная быстрота», – все это психомиметические punctum’ы, они порождают чувство отвращения, подлинного ужаса перед прикосновением (не столько даже боязнь прямой атаки). Умение исчезать/появляться: жертва ужаса не видит, куда скрывается животное, ведь оно способно занять любое место в сновидном пространстве[14]. Комнатное чудовище – актуализация страха. Дневной образ проясняется ночным (явь – сном). Сновидный тарантул – открытая форма страха, днем она может получить выход в виде беспокойства и тревоги, а может быть, и в более сильных переживаниях, но сам образ сокрыт, затушеван в других оболочках повседневного (риторических, образных, символических). Причудливый состав единого чувства: отвращение/гадливость, страх перед укусом, анонимность и тайна, насилие и эротика.
Вот как мог бы выглядеть этот тарантул:

Достоевский забирается на стул, чтобы рассмотреть картину предельно близко, почти коснуться… и, вероятно, коснулся того, что его так влекло к себе. Как будто что-то он хотел разглядеть, в чем сомневался и чему еще не верил… затем предлагается подробнейшее описание трупа «мертвого Христа», насколько оно вообще выполнимо. Так наглядно утверждается могущественная сила, сила Природы, которую превозмочь не может даже Иисус Христос, самое совершенное человеческое существо. И эта сила природного распада – демоническая. Смотреть на Христа и видеть рядом с ним огромного тарантула, «темное и немое существо», вызывающее устойчивую реакцию: ужаса и отвращения. Это не значит, что идеальный высший образ Бога исчезает, но диалектическое взаимодействие образов разрушается, между ними пропасть. В литературе Достоевского мы находим странных персонажей, словно по одной линии переходящих из романа в роман, «недоработанных», не исполнивших своей миссии, людей-тарантулов, персонажей «вселенского Зла». Достоевский их относит к типу «красных жучков»: Рогожин («Идиот»), Ставрогин («Бесы»), Версилов («Подросток»), Свидригайлов («Преступление и наказание»), Карамазов-отец («Братья Карамазовы»). Соблазнять способностью к преступлению, не прятать, наоборот, выпячивать, объявлять, демонстрировать свою стихийную силу, вместе с тем совершать и другие поступки как будто под влиянием высшего нравственного идеала: «Думать о хищном типе. Как можно более сознания во зле. Знаю, что зло, и раскаиваюсь, но делаю рядом с великими порывами. Можно так: две деятельности в одно и то же время; в одной (с одними людьми) деятельности он великий праведник, от всего сердца, возвышается духом и радуется своей деятельности в бесконечном умилении. В другой деятельности страшный преступник, лгун и развратник (с другими людьми). Один же на то и другое смотрит с высокомерием и унынием, отдаляет решение, махая рукой. Увлечен страстью. Здесь – страсть, с которой не хочет и не может бороться. Там – идеал его, очищающий и подвиг умиления и умилительной деятельности»[15]. Казалось бы картина Гольбейна-мл. «Мертвое Тело Христа» должна быть опосредствующим «переходным» термином между двумя членами уравнения; на самом же деле, это невозможно. Ее центральный образ действует совершенно иначе: совмещает несовместимое и вне синтеза. Первоначальный природный ужас подвергает драматичной проверке веру в божественное начало. Подражательная активность вытесняется из созерцания «мертвого Христа», вместо нее появляется сновидная, даже ближе к звуковой галлюцинации, форма реальности. Непримиренная в «третьем», Реальность требует компенсаторного сдвига, и Достоевский находит его в сновидных феноменах.






