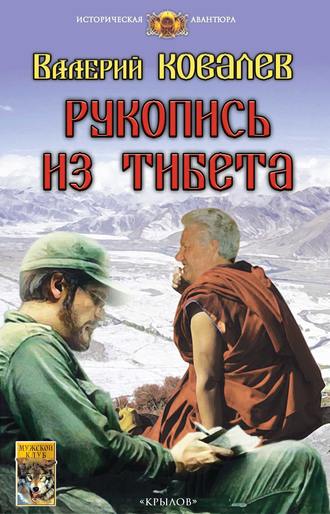
Валерий Ковалев
Рукопись из Тибета
– И чем они тебе глянулись?
– Живут в своих голубых степях скромно и открыто. Учат заветам Будды, пьют водку, любят женщин и поют горловые песни.
– И если бы у тебя была другая жизнь, ты, наверное, хотел бы стать ламой? – хитро прищурились Глаза.
– Другой жизни не бывает, как учит марксизм-ленинизм, – убежденно произнес я. – Ну а если бы была, отправился бы в Тибет и стал пророком.
– Интере-есно, – озадаченно протянул Творец. – И зачем тебе это надо?
– А чтобы окучивать людей, – брякнул я. – Во имя Господа, так сказать, и на его славу.
– Замолчи! – посуровели Глаза.
– Чи-чи-чи… – затихая, раскатилось в Космосе.
– Не поминай Меня всуе, – дыша ледяным холодом, Глаза придвинулись вплотную.
– Виноват, – съежилась душа. – Прости меня грешного. Я больше не буду.
– То-то же, – прогудело в ответ. – Думай, с кем говоришь, тля. А теперь прощай. Не поминай лихом. В тот же момент Глаза заклубились, всасывая меня, и я понесся по Черной дыре в адской какофонии чьих-то криков, смеха, плача и стенаний.
– Кирдык, – пронеслось в мозгу. Сознание угасло.
Глава 3
В новом теле
– Уа-уа-уа! – назойливо пищало где-то рядом. Я чихнул и размежил веки, возвращаясь в реальность.
«Не иначе, ад, – бледно всплыло в мозгу общение с Творцом, а потом его напутствие и дьявольский полет в Черной дыре Космоса. – Но почему так тесно, и кто там пищит в размытом пятне света?»
Щелк – лопнуло в ушах, пелена спала с глаз, и вверху возник белый квадрат потолка с тихо жужжащей в нем люминесцентной лампой. А чуть ниже – квадрат блестящих кафелем стен, с филенчатой дверью напротив. «Непонятно», – забеспокоился я, скосив глаза влево, откуда исходил неприятный звук и увидел рядом в ячейках двух запеленатых младенцев. Один спал, другой извивался и пищал, время от времени взбрыкивая в своей пеленке. «Что за черт?» – усилилось чувство тревоги. Я перевел взгляд вправо – там посапывали еще трое. Опустил глаза до упора вниз, пытаясь рассмотреть себя – увидел оконечность кокона.
«Я тоже младенец! – прожгла ужасная догадка. – Зачем? Не хочу!»
– Уа-уа! – заорал благим матом.
Через пару минут дверь открылась, на пороге возникла толстая усатая тетка в белом халате, и я поперхнулся плачем.
– Ну что, опудырились, засранцы? – хмуро взглянула на ячейки, прошаркав к ним тапками.
Через секунду у нее в руках оказался пищавший слева младенец, с которого была сдернута мокрая пеленка, толстуха ловко обернула его второй, взятой из-под ячейки, вернула на место и направилась ко мне явно с такими же намерениями.
– Ты смотри, сухой, – сказала сама себе, пощупав меня снизу. – Тогда чего орал? Жрать хочешь?
Я молчал и пялился на нее выпученными глазами. Еще не веря в объективную реальность.
– Лупатый какой, не иначе, еврей, – сделала умозаключение тетка. – Терпи, кушать будете в двенадцать. И взглянула на мужские наручные часы. Я разглядел надпись под стеклом – «Кама».
После этого она удалилась, ворочая объемной кормой. Хлопнула дверь и все стихло.
– Пу-у, – издал во сне звук мой сосед справа, в воздухе запахло сероводородом.
– Гребаный Творец! – понял я, куда попал. Это явно был роддом. Куда меня вернули назад, к новой жизни.
И кто его просил? Жить на Земле я не хотел. Разве что в другом измерении. А теперь все начинать по новой. Ползать, затем ходить, чему-то учиться и работать. У меня выслуги тридцать пять лет. На хрена мне это надо?!
От злости и бессилия я стал кряхтеть, пытаясь вылезти из пеленок, чтоб сбежать. Не получилось. Затем в мозгу проявился бывший чекист, дав посыл: «Не суетись под клиентом», его поддержала прокурорская часть: «Куда ты сбежишь, дурень», а морская с шахтерской рассмеялись: «Картина Репина ”Приплыли!”».
«Молчите, курвы, – подавил я их в себе. – Вам хорошо внутри. А какового мне здесь, снаружи?»
Далее, посчитав до десяти, успокоился. И подумал: «Кто же теперь мои родители? Если те, что раньше, то еще ничего. Они были достойными людьми, любили меня, и я их тоже. А ну как какие алкаши, расхитители соцсобственности или, что еще хуже, наркоманы? Ладно, подождем, – удобнее устроился в своей пеленке. – В двенадцать будут кормить, и я увижу, кто мамуля».
Когда приглушенное казенными шторами на окне, солнце повисло в зените, где-то за дверью послышался стеклянный звон и она распахнулась. Сначала в помещение въехала блестящая никелем тележка с увенчанными сосками бутылочками с молоком в ячейках. Толкала сооружение вперед молодая девица с волнующими формами, в сопровождении уже известной мне усатой тетки.
– Обе-ед, сиротки, просыпайтесь! – пропела девица, и мои соседи зашевелились.
«Какие еще сиротки?» – не понял я. Женщины между тем стали извлекать из ячеек корм, а по сторонам начали пыхтеть и чмокать.
Я тут же почувствовал ужасный голод (не ел с момента кончины) и громко заорал, требуя свою долю.
– На, на, горластый, – пихнула мне в рот соску заботливая рука.
– Ум-ум-ум, – стал я жадно сосать жидкую манную кашу. Она была ничего, только сахарку маловато.
– А новенький как с голодного края, – сказала пожилой напарнице молодая, наклонившись над секцией и кормя с обеих рук меня и соседнего младенца. В вырезе халата над моим лицом колыхалась пышная грудь, и, не переставая сосать, я радостно агукнул.
– А глазки-то, глазки у него шельмовские, – снова пропела молодая, обращаясь к старшей.
– Не иначе, мать была гулящая, – брякнула та в тележку очередную пустую бутылку. Вслед за чем извлекла полную.
Как только кормление кончилось, два младенца тут же отсырели (им сменили пеленки), и я тоже почувствовал, что хочу «пи-пи», начав кряхтеть и извиваться.
– Никак, сам просится? – рассмеялась молодая нянька, после чего обнажила меня и, взяв на руки, отнесла к стоящему под умывальником в углу детскому горшку в цветочек. Куда я с облегчением пустил струйку.
– А причандалы у него ничего, – продемонстрировала меня старшей.
– Кобель будет, – скользнула усатая по ним взглядом. – Да не плюйся ты, охламон! – прикрикнула на довольно жужжащего младенца.
Потом я был возвращен на место и крепко спеленат, вслед за чем няньки ушли, бренча своей тележкой. Мои соседи тут же засопели носами, вая, но мне не спалось. В мозгу роился целый сонм мыслей. Что значит «сиротки»? Это шутка или нет? И где наши мамы? Как мне вести себя впредь? И что делать дальше?
– Хрен проссышь, – подумал я и услышал свой голос. Неужели умею говорить? Удивился. А потом раздельно произнес «Ре-ин-кар-нация». Вышло вполне, хотя и пискляво.
«Не хило, – мелькнуло в голове. – Помню все что было, плюс умею говорить. Я, наверное, самый продвинутый младенец в мире».
Судя по разговору нянь, нахожусь в России. Вот только смущали часы «Кама» на руке старшей. Такие я видел у отца, когда был пацаном. В той, прошлой, жизни.
А выпячиваться, что умею говорить и все прочее, нельзя. Чревато. Понаедут ученые, как всегда бывает в таких случаях, начнут изучать и не давать покоя. А то еще хуже – коллеги из бывшей «конторы», там всегда интересуются всем необычным. Увезут в один из своих секретных НИИ и пиши пропало. Точно сделают дебилом. Затем мысли стали путаться (после еды от мозга отлила кровь, начался процесс пищеварения), я протяжно зевнул и уснул. Ужин обеда мудренее.
На следующее утро, перед завтраком те же няньки водрузили нас на застеленную клеенкой каталку и вывезли из палаты. Проехав по длинному коридору, мы очутились в грузовом лифте, вознесшем нас на этаж выше. Там, в большом светлом кабинете с холодно блестевшей медтехникой, нас уже ждали. Длинный мужик с бородкой, в колпаке и накрахмаленном халате (вылитый Айболит), а при нем накрашенная очкастая дама с толстым журналом в руках, наверное, медсестра или ассистентка.
– Нутес, нутес! – прокаркал Айболит. – Как тут будущие строители коммунизма?
После чего приказал нянькам распеленать доставленных (все мы радостно заболтали освобожденными конечностями) и приступил к осмотру.
Пока он делал это, начав с крайнего, я внимательно осматривался, пытаясь разобраться, в какое время попал (возникли некоторые подозрения). Так было легче определиться с будущим, которое меня ждало.
Над столом Айболита висел портрет Дарвина – основателя теории происхождения человека, а в простенке меж двух больших окон – портрет товарища Сталина с ребенком на руках и надписью «Спасибо за счастливое детство!».
«Неужели сталинизм?» – вспотел я и стал лихорадочно искать глазами еще что-нибудь. В подтверждение. Оно оказалось почти рядом.
Это был настенный отрывной календарь на шкафу со скелетом, в паре метрах от каталки. 1952 год – приблизило зрение черные цифры на белом листке. И ниже – 20 мая.
«Мистика!» – запульсировала кровь в ушах. В прошлой жизни я родился именно в этот год! Правда, 20-го апреля.
От возбуждения я хаотично замахал конечностями, а затем, поймав ручкой ножку, сунул ее пальцы в рот и принялся, урча, жевать их беззубыми деснами. – Так, а это что за каннибал? – подошел ко мне Айболит, закончив с очередным младенцем.
– Это новенький, Лев Ильич, – заглянула медсестра в свой талмуд. – Милиция нашла вчера в пять утра. Подброшенным на порог Свято-Троицкого собора. – Тэкс, – вздел меня руками врач и стал внимательно рассматривать. – По виду будет месяц. – Вслед за чем проскрипел ботинками к окну и положил объект исследования в лоток медицинских весов и принялся двигать пальцем гирьку на штативе.
– Вес четыре шестьсот, – констатировал он, а потом измерил тельце. Рост составил пятьдесят четыре сантиметра.
– Точно, как в аптеке, – довольно изрек эскулап и обратился сестре: – Так все и запишите Роза Марковна. А днем рождения этого бойца, – пощекотал мне пятку, – будем считать двадцатое апреля.
«Да, знает свое дело», – распялил я на Айболита глаза. И стал довольно пускать ртом пузыри. Приятно точно знать, когда ты родился.
После окончания осмотра нас вывезли в коридор (очкастая Роза Марковна вышла вместе с нами), и у обитой черным дерматином двери кабинета с табличкой «Заведующий» каталка остановилась. Роза Марковна взяла меня на руки, кивнув нянькам «Едьте дальше», после чего потянула дверь на себя, и мы оказались в темном тамбуре. Удобнее устроив меня на левой руке, она постучала костяшками пальцев правой во вторую, деревянную. За ней глухо раздалось «Войдите».
Мы шагнули в интерьер начальственного кабинета, обставленного казенной мебелью. В одном углу стоял черной кожи продавленный диван с подлокотниками в виде валиков, а рядом шкаф, в другом – перистая, с волосатым стволом пальма в кадке. Между ними, у торцевой стены с портретом «отца народов» находился стол с крышкой зеленого сукна, на которой чернел прошлого века телефон и остывал чай в стакане с подстаканником. За столом, просматривая лежавшую на нем газету «Правда», сидел борцовского вида мужик, чем-то похожий на Котовского.
– Поздравляю, Роза Марковна! Заканчиваем канал Волга-Дон! – громко изрек он, подняв на нас оловянные глаза и блестя лысиной. – С очередной, так сказать, победой социализма!
После чего хлебнул чаю, кивнув на один из стульев.
– С чем пришли? – он откинулся в мягком кресле.
– С новым его строителем, Василий Кузьмич, – в унисон ответила сестра, присев. – Которого накануне доставила милиция. Вы в курсе.
– И как он в медицинском плане? – критически обозрел меня «Котовский». – Не дебил? Все в порядке?
Я обиделся, капризно надул губы и попытался в него плюнуть. Не получилось.
– Прекрати, – строго взглянула на меня Роза Марковна. И к заведующему: – Надо дать ему имя с фамилией.
– Надо, – пробасил тот, после чего уставился в потолок. Я тоже. Искомого там не наблюдалось.
Обследовав пустоту, в которой одиноко жужжала муха, Василий Кузьмич опустил взгляд вниз, и в его поле зрения попала газета.
– Назовем младенца Лазарь, как Кагановича, – ткнул пальцем в передовицу. – А фамилия пусть будет Донской. В честь канала. Ну, как вам? – взглянул на Розу Марковну.
– Гениально! – изобразила та восторг на лице, а я надулся. Имя с фамилией мне не нравились. Но что делать, выбирать не приходилось.
Между тем заведующий извлек из ящика стола бланк, аккуратно вписал туда вечной ручкой «Лазарь Донской», а еще дату рождения, сообщенную медсестрой, пришлепнул все гербовой печатью.
– Держите, – передал ей бланк. – В ЗАГСе получите свидетельство.
В это время затрезвонил телефон, заведующий снял трубку.
– Ошиблись, гражданин, – послушав, сказал в нее. – Это Симферопольский Дом ребенка.
После чего брякнул трубку на рычаг и махнул нам рукой – свободны. И снова углубился в газету.
Так я был легализован в новой жизни. Сиротой. В учреждении социального типа.
Потекли безрадостные дни. Дни взрослого ума в юном теле.
Шесть раз в сутки нас кормили манной кашей за казенный счет, меняли пеленки и мыли; раз в неделю возили на взвешивание с осмотром, а еще делали какие-то прививки, и все это время (кроме сна) я думал. О своем будущем и месте в новой жизни. С учетом прошлых знаний в этом вопросе, радужными они не представлялись. Здесь меня продержат до трех лет, а затем передадут в сиротский приют, где дадут какое-никакое образование. А потом в большую жизнь. На стройки народного хозяйства. Что категорически не устраивало. «Светлое будущее» мы проходили. Больше не хотелось.
– А где ж твой патриотизм? – спрашивал во мне в такие минуты чекист. – Нужно крепить мощь и безопасность государства.
– И блюсти Закон, – поддакивал прокурор. – Опять же, Кодекс строителя коммунизма.
– Какая мощь?! Какой закон?! – возмущался внутри моряк. – Это все теперь принадлежит олигархам! – Точно! – поддерживал его шахтер, ругаясь матом.
Я прислушивался ко всем четверым, но знал, что правы последние двое. Снова верить, напрягаться и пахать, чтобы потом оказаться в капиталистической России? Где, как говорят в известных кругах, «один смеется, сто плачут».
«Вот вам хрен! – лежа в распашонке, сжимал я кулачек левой руки и хлопал по локотку правой. – Мы пойдем другим путем, как завещал товарищ Ленин!»
Постепенно в мозгу складывался и этот самый путь, а точнее, план. По опыту оперативных разработок. В свое время учили меня будь здоров, да и практика была изрядная.
Итак. Для начала ничем особенным себя не проявлять. Младенец и младенец. Как глубоко законспирированный агент. Легший «на дно». Или подводная лодка. Когда же пойду в первый класс и начну учебу, показать высокие знания и попасть в школу-интернат для одаренных сирот. Такие были в СССР в Москве, Ленинграде и, кажется, Киеве. Оттуда поступить на языковый факультет Высшей школы КГБ в Москве, где я когда-то учился, закончить его и определиться в Особый отдел советской группы войск, дислоцирующихся в соцстранах или, если повезет, в дентуру ПГУ, смотрящим[1]. А потом по-умному исчезнуть и свалить за бугор. Где самореализоваться. Тот, кто владеет информацией – владеет миром. А у меня была информация о будущем. Стратегическая. До момента кончины.
От столь захватывающих перспектив шли пупырышки по коже, «Лазарь Донской» начинал довольно пускать слюни, болтать в воздухе ручками и ножками и агукать (я вам всем покажу, курвы!).
Как известно каждому оперативнику, следователю или прокурору, успешная реализация любого плана кроется в точно выверенных деталях. На первом этапе для меня таковыми были: глубокая конспирация, активное биологическое развитие и воссоздание в памяти всех случившихся в мире важных событий конца двадцатого – начала двадцать первого веков; на втором: превращение в ребенка-индиго, со всеми необходимыми мне последствиями.
Как говорится в современной русской пословице «куй железо, не отходя от кассы», что я и принял к исполнению.
Для начала стал требовать больше каши, начиная орать, когда пайковая заканчивалась. Усатая нянька, ее звали Петровна, как правило, бурчала «перебьешься» и требование не выполняла. А вот молодая, Люся – наоборот.
– Кушай, кушай, маленький, – ласково говорила она, меняя опорожненную бутылочку на полную. – В этой жизни надо быть сильным.
– М-м-м, – довольно чмокал я, высасывая дополнительные калории.
Результаты не замедлили сказаться. Я активно набирал вес с ростом, что регулярно отмечалось на осмотрах.
– Шахтер будет или металлург, – заявлял Лев Ильич (он же Айболит) и одобрительно шлепал объект по голой попке.
«Вот уж хренушки», – хитро узил я глаза, пытался уцепить его ручонкой за бороду.
А когда просыпался по утрам под пение Гимна из радиоточки в коридоре, выполнял комплекс укрепляющих мышцы упражнений, благо ночная нянька всегда куда-то исчезала, а собратья по сиротству мирно сопели носами в своих кроватках. Как итог, по достижении шести месяцев меня перевели в ясельную группу, где поползав три дня, я встал на ноги, а на четвертый сцепился за погремушку с годовалым орлом. Нянька вовремя растащила. Здесь же я впервые влюбился. В девочку Таню, старше меня месяца на три. Она была с золотистыми волосиками, голубоглазая и всегда грустила – стоя в стороне или сидя на паласе, сложив на животике ручки. Как знакомиться я знал, для чего спер из кармана задремавшей воспитательницы шоколадную конфету (нам таких не давали, только по праздникам карамельки), проковылял к Тане и сунул ей в ручку – ня!
– Оля-ля, – удивленно вскинула девочка бровки, рассматривая подарок, затем развернула пальчиками бумажку, откусила половину, а вторую протянула мне, что-то чирикнув.
Мы с удовольствием сжевали конфету, измазавшись в шоколаде, в результате моя кража была вскоре вычислена воспрявшей от сна потерпевшей, и злодей, получив шлепок по казенной части, был водворен в угол. Все по Макаренко. Таня тут же проковыляла туда, чмокнула меня в щеку и встала рядом.
– Едва ходить научились и уже такое! – сделала большие глаза педагог. – Куда мы катимся?
Уже в это время с нами начали первые занятия. Учили самостоятельно пользоваться горшком и умываться, некоторым человечьим словам, ходить парами в строю, взявшись за руки, петь хором что-то вроде «ля-ля-ля» под аккордеон в игровой комнате. Поскольку для Лазаря это были семечки и он быстро все усвоил, от занятий мальца освободили и стали развивать дальше. Еще с двумя такими. Разрешив им малевать цветными карандашами на бумаге индивидуально.
Это время, как и время после отбоя в кроватке, я стал использовать для воссоздания в памяти знаменательных мировых событий, о которых знал из прошлой жизни, для использования их в будущем. Естественно, в меркантильных целях. А как иначе? Служить государству в любой его форме я больше не желал, как и всякому другому хозяину. Целью была свобода с независимостью, при достойной материальной базе. Все почти по Марксу. Или по Томмазо Кампанелле с его «Городом солнца».
Память у меня осталась профессиональной, с учетом прошлого рода занятий. И даже улучшилась, с учетом омоложения организма. С помощью составляющих воссоздалось практически все необходимое. С датами, местами и содержанием. Все это я привычно систематизировал и упрятал в глубины мозга. До поры до времени.
Между тем, спустя несколько месяцев, новая жизнь нанесла будущему «человеку мира» первый удар на любовном фронте. Девочка Таня мне коварно изменила. Хотя до этого наши чувства росли и ширились, мы часто играли вместе, ковыляли по комнате, взявшись за руки и шепча друг другу нежные слова типа «цаца» и другие, не поддававшиеся расшифровке.
В группе был мальчик, которого изредка навещала бабушка, приносившая для внука гостинцы: шоколадные конфеты, пирожные и фрукты. После одного такого посещения возвращенный со свидания воспитательницей Женя, так звали мальчика, державший в руках мандаринку, подошел к нам с Таней (мы изучали устройство куклы) и, улыбаясь во весь беззубый рот, протянул оранжевое чудо моей пассии. Та широко раскрыла глаза, издала крик восторга, осторожно приняла подарок и улыбнулась в ответ. Мне это не понравилось, я пнул соперника ногой, тот упал и заплакал, а Таня, подойдя вплотную, раздельно сказала «ти кака». С этого момента она стала отдавать предпочтение Жене, у которого регулярно появлялись сладости и фрукты. Так я впервые в новом качестве познал женское коварство.
Глава 4
Как Лазарь стал Никитой
Шел год тысяча девятьсот шестьдесят первый. Лазарь Донской, то бишь я, учился в третьем классе школы-интерната для сирот № 3 города Симферополя. Давно почил в бозе отец всех советских детей товарищ Сталин. Страной правил Никита Сергеевич Хрущев. Вершились очередные стройки коммунизма, везде, где можно, сеяли кукурузу, а я воплощал в жизнь очередную часть своего плана. Настойчиво и целеустремленно.
Получалось неплохо. Воспитанник Донской был круглый отличник, лучший спортсмен младших классов и отличался примерным поведением. Это, при наличии прошлого багажа знаний и навыков, было совсем не трудно и даже увлекательно. Но приходилось себя сдерживать. Я мог, естественно, больше, но делать этого пока не следовало. По известным причинам. Однако ребят с высоким уровнем знаний в интернате было достаточно. Советская школа, как известно, в то время была лучшей в мире. Не то что потом, в новой России. При дегенератах Фурсенко с Ливановым[2].
Нужно было проявить себя еще в чем-то, и я это реализовал. Записался в музыкальный кружок на курс баяна с гитарой и через пару месяцев их освоил. Вместе с нотной грамотой. Как когда-то, когда был Валеркой Ковалевым. Тот неплохо лабал на этих инструментах и даже орал песни в одном из ВИА в Донбассе, пока не загребли на флот. Там стало не до музыки.
Спустя еще некоторое время я в числе других дарований выступил на концерте в честь очередной годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, где мне поручили аккомпанировать на баяне исполняемую школьным хором «Песнь о Ленине».
День за днем бегут года —
Зори новых поколений.
Но никто и никогда,
Не забудет имя: Ленин!
– пуча глаза и краснея щеками, с чувством выводили сироты.
Физрук, он же по совместительству дирижер, страстно взмахивал палочкой, а я, изо всей силы растягивая меха, брал нужные аккорды. В первом ряду, среди приглашенных, рядом с заведующим сидел высокий чин из облоно, и нам было предписано произвести на него впечатление. В противном случае хор мог быть лишен сладкого.
…Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой:
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
выдал последний куплет хор, в зале возникла тишина, потом чин стал хлопать, и зал разразился бурными аплодисментами.
– Есть сладкое! – расплылись в улыбках исполнители, а заведующий, расслабившись, промокнул бритую голову платком и украдкой взглянул на начальство. Оно было довольно.
Затем воодушевленный хор спел еще несколько патриотических песен, старшеклассник и местный поэт Жора Буев, завывая, прочел стих о советском паспорте, настала очередь танцевальной группы. Поскольку жили мы в Крыму, где базировался Черноморский флот, как и следовало ожидать, группа сплясала матросское «Яблочко». Я же, пыхтя, вновь растягивал меха и делал это довольно удачно.
Мероприятие закончилось, всех отвели на праздничный обед с арбузами и виноградом, а после него меня вызвали к заведующему. В кабинете кроме него были гость из облоно и какая-то импозантная дама в строгом костюме с депутатским значком на пышном бюсте. Все чуть поддатые.
– Ты у нас в каком классе, мальчик? – томно вопросила сидевшая на диване дама, покачивая стройной ногой в остроносой туфле.
– В третьем, – скользнул я по ней взглядом. – Потом перейду в четвертый.
– И как тебе здесь живется? У Василия Кузьмича? – икнул начальник из облоно. Запахло коньяком (я помнил запах).
– Как у родного отца, – ответил я. – Нас здесь хорошо кормят, учат и воспитывают.
То была правда. Брехня, что в советских интернатах для сирот дети жили в нищете. Я тому свидетель. – Он у нас не только музыкант, но еще отличник и спортсмен, – довольный ответом прогудел заведующий. – Можно сказать, талант. В смысле, одаренный.
– Тогда давайте подумаем о его будущем, Юрий Генрихович, – обратилась депутатша к областному чиновнику. – Мы обязаны поддерживать таланты.
– Ну как отказать представителю народной власти? – масляно взглянул на нее тот. – У нас в интернате для одаренных детей как раз есть место. Считайте оно его. А вы, – взглянул на Котова, – готовьте документы.
«Вот оно! – внутренне заликовал я. – Все по плану!»
– А теперь иди, Лазарь, – благосклонно кивнул мне заведующий. – После тихого часа вас поведут в кино. На «Чапаева».
Выйдя из кабинета, я сделал в пустынном коридоре сальто-мортале, а затем вприпрыжку побежал вперед. Жизнь казалась прекрасной и удивительной.
На заходе солнца в летнем кинотеатре мы смотрели кино про легендарного героя Гражданской войны. Василий Иванович лихо вел бойцов в атаку, Анка расстреливала из пулемета «психов», ординарец Петька целовал ее в щечки – поскольку секса в стране тогда еще не было.
Наступило очередное лето, воспитанник Донской перешел в четвертый класс, ожидая радостного известия. Его не было. А потом по интернату прошел слух, что в заведение для одаренных отправляют Сашку Петровского, того самого, к кому приходила бабушка. Он был троечник и лентяй, а кроме того, ругался матом.
– Как же так? – возмутился я и отправился к заведующему.
Тот все подтвердил, отворачивая глаза и барабаня по столу пальцами. Как оказалось, бабушка Петровского в молодости была сподвижницей Коллонтай, и предпочтение было отдано ее внуку. Это была первая несправедливость в этой жизни, и это меня здорово обидело.
Внутренние составляющие тоже расстроились и стали давать советы.
– Рви отсюда за бугор, – рекомендовала чекистская. – Я расскажу, как все сделать без шума и пыли.
– Не вздумай, лучше напиши явку с повинной, тебе поверят, – возражала прокурорская.
– Не сепетись, – советовали шахтерская с морской. – Учись. А то опять загремишь в забой или на подводную лодку. Тебе что, больше всех надо?
Я внял гласу последних. И чтобы загасить обиду, а заодно отвлечься от дурных мыслей, вплотную занялся физическим трудом. Который, как известно, помогает. В то время за «Железным занавесом» (так именовали нашу страну заокеанские друзья) во всех школах культивировалось трудовое воспитание по Макаренко. Там имелись учебные мастерские и даже подсобные хозяйства, где детей обучали трудовым навыкам. В постсоветской России сие похерили. С подачи демократов. Мол, нарушение прав ребенка.
Поскольку подсобного хозяйства в нашем интернате не имелось, я стал трудиться после уроков дополнительно в столярной и слесарной мастерских, сбивая табуретки, а также вытачивая болты напильником. А затем в жизни Донского свершился поворот. Меня усыновили. Такое в нашем заведении случалось. И сироты завидовали счастливчикам.
В тот майский день, орудуя в поте лица киянкой, я вершил очередную табуретку, когда меня вызвали к заведующему. Сперва заставили умыться и облачиться в выходной костюм: солдатского образца шерстяную гимнастерку с блестящими пуговицами, затянутую кожаным поясом с бляхой, широкие штаны и тупоносые ботинки. «С чего бы это?» – размышлял я, цокая подковками по коридору.
В кабинете заведующего, который был явно не в себе, на диване сидел представительный, средних лет мужчина, в шляпе и с орденскими колодками (не иначе, фронтовик), а рядом с ним молодая особа в бархатном платье с золотой брошью и ридикюлем крокодиловой кожи на коленях.
На мое «здрасьте» пара величаво кивнула головой, а заведующий ткнул дрожащим пальцем в стоявший в центре стул – присаживайся. Я сел, ожидая, что будет дальше.
Пара молчала, оценивающе рассматривая меня, словно амебу под микроскопом. В кабинете возникла пауза.
– Послушай, Лазарь, – откашлялся в кулак заведующий. – Как ты отнесешься к тому, чтобы стать сыном этих уважаемых людей? – подобострастно взглянул на пару.
«Нафиг мне это надо», – подумал я, но вслух сказал: – Не знаю, – и пожал плечами. Сработала чекистская привычка.
– А ты знай, мальчик, – начальственно прогудел мужик в шляпе. – Мы бы могли стать тебе достойными родителями.
– Соглашайся, – поддержала его жена. – Вилен Петрович слов на ветер не бросает. А я буду тебе мамой, – повлажнела глазами.
– Вилен Петрович – крупный партийный руководитель, – присоединился к ним Котов. – И это для тебя честь. Вырастишь настоящим коммунистом.
– Не знаю, – снова сказал я, начав болтать ногами. А потом шмыгнул носом: – Подумать надо.
– Вот-вот, – с облегчением сказал заведующий. – Иди, думай. Можно? – покосился на гостей. Те кивнули.
Спустя час, когда чета уехала, меня снова доставили на беседу к Котову. Тот нервно расхаживал по кабинету.
– Садись, – указал мне на диван, после чего сообщил следующее.
Вилен Петрович Волобуев был вторым секретарем Крымского обкома партии, а его жена Элеонора Павловна – директором сети ресторанов. Чета имела благоустроенную квартиру в Симферополе и охотничий домик близ Фороса, а вот с детьми возникла незадача. Таковых в наличии не было.
– Перед тобой открываются такие возможности, пацан! – убеждал меня Котов, вздымая вверх руки. – Будешь кататься как сыр в масле! Получишь достойное образование!
– А почему у него такое непонятное имя? – спросил я в промежутке, когда заведующий, устав ораторствовать, стал пить воду из графина.
– Вилен – это Владимир Ильич Ленин, дурак! Аббревиатура! – и, брякнув графин на тумбочку, утер рукавом губы.
– Мне б такое предложили, на коленях бы пополз, – плюхнулся он за стол, уставившись на меня просящим взглядом. – Соглашайся, Лазарь. Иначе меня за твой отказ турнут. Ты же так и останешься сиротой. Всеми позабыт, позаброшен.
– Хи-хи-хи, – я сжал коленями руки, вспомнив, что такое говорил Попандопуло в фильме «Свадьба в Малиновке».
– Ты чего? – округлил Котов глаза. – Издеваешься?
– Будь по-вашему, – поднялся я с дивана. – Когда собираться?
– Ну вот, молодца! – заведующий вылез из-за стола, протопал ко мне и пожал руку. – Я в тебе не сомневался.
Потом вернулся назад, снял с рычага трубку и завертел диск. В трубке запищало, а потом щелкнуло.
– Он согласен! – заведующий вытянулся во фрунт. – Слушаюсь, товарищ секретарь! Будет исполнено!
И колесо завертелось.
На следующее утро, после завтрака, аккуратно подстриженный и в новой форме, я вместе с Котовым на его стареньком «Москвиче-Олимпия» прибыл в отдел ЗАГСа Центрального района Симферополя, где нас уже ждали.
Предупредительная, бальзаковского возраста дама (насколько я понял, начальница) провела нас в свой личный, уставленный букетами цветов и шампанским кабинет, где потрепала меня по подбородку «Какой хороший мальчик!», пригласила присесть и тут же оформила на усыновленного свидетельство о рождении.
– Непорядок, – пробубнил во мне прокурор. – А где же все предшествующие этапы? Явное нарушение закона.







