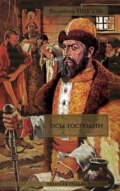Валентин Пикуль
Баязет. Том 2. Исторические миниатюры
– На, потяни… Не сносить тебе головы, парень. Шибко озорной ты, за тебя и девка не пойдет никакая. А даром-то, по-пустому, ты не дразни турка. Иначе он покою тебе не даст!
– Эва! – огрызнулся Дениска. – Да што он мне – приятель какой? Я с ним, кровососом, на одном-то лужке и по нужде не присяду. Мне с ним детей не крестить!
– А вот и крестный отец идет! – вдруг засмеялся вахмистр Трехжонный. – Смотри-ка, станишные, турки нашего маркитанта Мамуку гонят!
Действительно, со стороны Ванской дороги показалась странная процессия, во главе которой, махая белой тряпкой, шел Саркиз Ага-Мамуков; его сопровождали два здоровенных курда в красных рубахах и сухопарый англичанин в длиннополом сюртуке с повязкой Красного Полумесяца на рукаве.
– Погоди стрелять! – предупредил Ватнин. – А ну, эй ты, дуй до его высокоблагородия. Скажи – типутаты жалуют.
Посмотреть парламентеров вылезли на стену переднего фаса немало солдат. Вскоре прибежал по-злому взволнованный Штоквиц.
– Эй! – с ходу заорал он. – Убирайтесь ко всем собакам!.. Вы уже перебили наших раненых, а потому нам с вами говорить теперь не о чем. И ваших предложений, какие бы они ни были, мы не принимаем.
Снизу послышался голос Ага-Мамукова: от имени Фаик-паши русскому гарнизону предлагалось сложить оружие и поселиться всем вместе в одном из кварталов города, который будет очищен специально для размещения крепостного гарнизона.
В ответ солдаты и казаки рявкнули дружным хохотом:
– Эй ты, кишмиш базарный! Иди сюда ближе, мы с тебя патрет сымать будем. Какой ты есть, в рамочке повесим…
– Цто, цто? – донеслось снизу. – Я цовсем уже больная, никак не слышу…
– А ты вот подгребай сюда, рвань султанская! Мы тебе сухари вспомним, куркуль собачий!
Один из курдов вдруг подбежал к самым воротам крепости и, размахивая широким ятаганом, в гневе закричал, что завтра он будет уже внутри цитадели и вот так (он показал – как) отрежет голову Назар-паше.
– Секим, гяур, секим! – кричал он, приплясывая и тыча ятаганом на Ватнина, богатырская фигура которого резко выделялась среди других.
Тут не вытерпел Дениска Ожогин и, расстегнув поясок, справил нужду с высоты прямо на парламентеров.
«Переговоры» (если только можно назвать переговорами эту скандальную перебранку) были уже закончены, когда Пацевич второпях выбрался на стенку переднего фаса.
– Батенька вы мой! – плачуще накинулся полковник на Штоквица. – Ну что же вы, голубчик, наделали?.. Без ножа всех режете. Надо ведь было встретить делегацию согласно церемониалу, по всем законным правилам, как это указано…
– В зелененькой книжечке генерала Безака? – перебил его мрачный Штоквиц. – Вы можете презирать меня, полковник, но я люблю переплеты черного цвета. Чем же я вас зарезал?
– Господи! Да ведь надо было узнать об условиях, – подсказал ему Адам Платонович, воровато оглянувшись.
– Условиях… каких условиях? – спросил Штоквиц, нарочито повышая голос, чтобы его могли слышать солдаты. – Условия могут быть только при сдаче крепости на милость победителя. А при том, что мы сдавать крепость не собираемся, то и условий никаких, по-моему, быть не может!
– Да. Все это так… Однако же я думал, что… Да и вы, конечно, не станете возражать. Впрочем… – Пацевич окончательно заблудился в словах и, безнадежно плюнув, побрел обратно к лестнице.
В узком проходе арки, возле фонтана, он поймал Карабанова и, придержав его за пуговицу, с чувством поделился:
– Сейчас, наверное, только один вы поймете меня, поручик. Это не гарнизон осажденной крепости, а… простите, какой-то кабак!
– Что ж, – отозвался Андрей вяло и безразлично. – Кабаки тоже бывают хорошие. Все зависит лишь от кабатчика.
Карабанов вышмыгнул из-под арки. Хотел направиться в конюшни, чтобы хоть погладить морду своего любимца Лорда, не поенного со вчерашнего дня, но тут послышался тонкий ноющий свист. Потом шипение, и вот уже что-то круглое, окутанное сизой вонью, тяжело шлепнулось рядом с ним и, бешено крутясь и подпрыгивая, с дребезжанием покатилось по земле.
– Ядро! – крикнули рядом с ним, и тут же второй снаряд разнес патронный ящик; третья бомба упала где-то на переднем дворе, откуда послышатся почти радостный возглас: – Пацевича убило!..
Карабанов, выждав передышку в стрельбе, кинулся на фонтанный двор:
– Где? Что с полковником?
Адам Платонович был здесь же, под аркой. Он стоял на корточках, и задняя часть его штанов слегка дымилась. Карабанов стал уговаривать Пацевича идти в госпиталь:
– Вы же ранены… К чему такая самоотверженность?
Пацевич, растерянный и бледный, стряхнул искры со штанов.
– Вы думаете, я ранен? – обалдело спросил он.
Откуда-то сбоку уже появились носилки, и Пацевича с необычайной заботливостью стали укладывать на кусок грязной, забрызганной кровью парусины.
– Несите осторожней, – напутствовал Карабанов санитаров.
Но, очевидно, полковник понял, что от него хотят просто избавиться, и, как следует ощупав себя, вдруг разразился в ответ похабной руганью:
– Идите вы все… Вам бы только. Прочь пошли!
Турки снова начали обстрел крепости. Передвигаться стало весьма опасно. Особенно трудно было перебегать из одного двора в другой, и госпиталь Баязета в первый же день осады значительно пополнился ранеными. Фельдшера Ненюкова Сивицкий поставил только на извлечение пуль, и за несколько часов работы тот извлек уже тридцать четыре пули, начиная от патронных и кончая просто кусками насеченного топором свинца.
Китаевский занимался большей частью лечением рубленых и резаных ран, а также ампутированием гангренозных конечностей. Самые же серьезные операции проделывал капитан Сивицкий – в пропитанном кровью балахоне, засучив рукава, охрипший от приказов и ругани, едва не падая от усталости, капитан проводил сейчас семнадцатую – самую страшную – операцию за этот день. На его столе, придавленный двумя дюжими санитарами, лежал молоденький милиционер-грузин: пуля прошла между челюстями, и он теперь не мог закрыть рта, из которого торчал разбухший, обезображенный язык.
Когда операция закончилась, мычащего от боли и страха грузина оттащили в сторону, а Сивицкому выпала первая минута отдыха. Александр Борисович выбрался на свежий воздух, но Клюгенау, появившись как всегда кстати, не разрешил врачу выходить на обстреливаемый двор. Он почти силком затолкал врача обратно в душную подворотню лазарета.
– Мне можно, – сказал барон, – и всем другим можно, а вот вам нельзя. Вы сейчас как никогда нужны гарнизону. И прошу вас – не спорьте…
– Черт с вами, с поэтами, – согласился врач, усаживаясь на ступени. – Вот у меня последняя сигара. Выкурю сейчас ее, и не знаю – что делать дальше. Без табаку я не могу обходиться, хоть тресни.
Они посидели на ступеньках, молча вслушиваясь в нарастающий грохот обстрела.
– Стены выдержат? – спросил Сивицкий.
– Турецкую артиллерию выдержат, – ответил Клюгенау. – Но говорят, что турки сейчас тянут сюда на верблюдах крупповские пушки. А господин Альфред Крупп шутить не любит.
Мимо них по лестнице проволокли в госпиталь только что раненного конюха. Сивицкий потрогал его пульс, глянул в полуоткрытый рот и махнул рукой:
– Тащите не ко мне, а для отпевания. Он уже не жилец…
Недолго помолчав, Сивицкий сказал:
– Мы обречены делать чудеса. У нас нет даже воды! Я не могу промыть рану. Я вытаскиваю из раны вместе с пулей обрывки потного и грязного тряпья. Я знаю, что гангрена уже там, она уже сидит, проклятущая, в теле. А я бессилен…
– Ночью у вас будет вода, – подумав, ответил Клюгенау.
– Спасибо. Уж не собираетесь ли вы обратиться к милосердию миссис Уоррен, которая раскинула тридцать коек для турок?
– Нет, – ответил Клюгенау, – я совсем не умею разговаривать с женщинами. Но вода у вас будет. Сегодня же ночью. Ведра два-три я вам обещаю.
– Ладно. – Сивицкий докурил сигару и поднялся. – Я слышу, кто-то орет. Ему, наверное, приходится сейчас скверно, и мне надо идти к этому бедняге…
4
За полдень Сивицкий раздал офицерам по кусочку сахара, капнув на каждую долю мятным эликсиром.
– Господа, – печально произнес он, – вы можете получать от меня каждый вечер по такому вот кусочку сахара, и это, пожалуй, единственное, что будет отличать ваше довольствие от солдатского.
За стеною крепости шумела река, наводя на мысль о прохладной воде. Погонщики ослов кричали с майдана: «Вайда, вайда!» Солнце, догорая к вечеру, багровело в расщелине амбразуры. Частые пули залетали в высокие окна и, плющась о стены, падали, обессиленные, на глиняный пол. Клюгенау, по-детски причмокивая, с аппетитом дососал свой сахар и, машинально глянув в бойницу, сказал:
– Теперь, уважаемые коллеги, нам разрешается немножко струсить. Я вижу отсюда еще один табор. Это подошли на подмогу Фаик-паше кочевники!..
Дикое, кочующее по Курдистану племя жило только одним разбоем и грабило оседлых курдов так же варварски, как и неверных гяуров. Сейчас они, почуяв верную наживу, подошли под стены осажденного Баязета и раскинули свои черные шатры в зеленеющей изложине гор. Вскоре их жены в платках пунцового шелка, с подвязанными за спиной детишками, уже зашныряли в гуще майдана, вырывая для себя тряпку понаряднее, кувшин поглубже, бусы поярче, кошму потеплее. И местные торгаши-хососы не решались спорить с этими надменными и гордыми женами, ибо их грозные мужья были рядом, и торговля на майдане стала быстро рассасываться.
– Они, видать, пришли издалека и голодны. А потому и нетерпеливы, – заметил Клюгенау. – Их шейхи не пожелают выжидать, пока мы вымрем от жажды, и завтра, наверное, Фаик-паша решится использовать их горячий пыл!..
– Сколько же всего против нас? – спросил Карабанов.
– Тысяч двенадцать, а то и больше, – ответил Штоквиц не сразу. – Но одни, награбив, уходят, другие въезжают в город с пустыми возами.
– Господа, – спросил Евдокимов, притворяясь равнодушным, – как вы думаете, сколько еще дней мы сможем выдержать?
– Сколько? – переспросил Карабанов и тут же ответил: – Боюсь, что очень долго! Тер-Гукасов сейчас далеко от нас, а в Тифлисе думают, что мы пьем чихирь да барышничаем на майдане.
– Но все-таки, – настаивал юнкер, – сколько же: день, два или три?
– Десять! – выкрикнул Клюгенау, неожиданно озлобясь. – Двадцать, тридцать, сорок… сколько угодно! Достаточно единожды взглянуть на карту, чтобы понять: Баязет – ключ всего Ванского санджака, и Фаик-паша не осмелится перевалить через Агры-даг, пока мы дохнем, но не сдаемся в Баязете. Раскисни хоть на минуту, и тогда вся эта орда, что топчется сейчас перед нами, неудержимой лавиной хлынет в Армению, и тогда будут красить кровью не только крыши!
– Я… готов! – ответил Евдокимов. – Только зачем же так кричать на меня? Двадцать дней или сорок – пусть; жалоб вы от меня не услышите!..
Стены цитадели вдруг глухо вздрогнули, через амбразуру полыхнуло на людей жарким дневным воздухом, откуда-то сверху полетели куски штукатурки.
– Прочь от окон! – велели со двора. – Наша батарея теперича вдоль самой стенки гранаты кидает. Сторонись, братцы, уже половину балкона в реку снесло!..
Штоквиц осторожно выглянул наружу и подивился находчивости Потресова.
– Ай да молодец наш старик! – похвалил он майора. – Выдвинул орудие прямо в простенок редута и сразу сократил мертвый угол. Полбалкона действительно отшибло, но – вы посмотрите – турки улепетывают из окопов!..
Штоквиц остановил одного солдата, послал на батарею:
– Спроси, кто наводчик? Скажи, что за такую стрельбу «Георгий» ему обеспечен.
Посланный скоро вернулся, широко улыбаясь еще издали:
– Ваше благородие, и посылать меня было ненадобно. Про то все в гарнизоне знают, что лучше Кирюхи Постного нет канонира!..
Да, это была правда – глаз Кирюха имел некрасивый, с желтоватым зрачком, словно у рыси, но и зоркий; особенно остро видел он правым – боевым. И больше всего любил он в жизни две вещи: хрустящие горбушки от хлебных караваев и вот такие горячие моменты, когда вся прислуга повинуется его возгласу:
– Правее станок… ударь вправо! Еще, еще…
– Отскочи! – кричит фейерверкер.
Кирюхино сердце, здоровое сердце крестьянского парня, мерно выстукивает время, надобное для полета снаряда. Часов, конечно, Кирюхе во всю жизнь не иметь, и считает он секунды лишь ударами своего сердца.
– Шесть, – говорит Кирюха, – приходи, кума, любоваться!
Кто-то пустил по крепости слух, что за отличную стрельбу Пацевич выделил батарейцам полведра воды, и юнкер Евдокимов, терзаемый жаждой, побрел на задний двор.
Конюхи потерянно бродили вдоль коновязи, старались убрать все ведра, один вид которых приводил животных в неописуемую ярость. Они били копытами о твердую землю, тихо ржали, стараясь хватить человека губами за платье, чтобы напомнить о себе: ведь они-то ничего не знали об осаде и, наверное, им, бедным, казалось, что о них просто забыли эти двуногие повелители, на которых они так славно трудились…
– Где же майор Потресов? – спросил юнкер.
– А эвон, на батарее…
Евдокимов с удивлением проследил за тем, как странно сегодня ведет себя артиллерист. Старый офицер, обычно такой скромный и по-солдатски осторожный, сейчас словно решил поиграть со смертью, которая кружилась вокруг него.
Рискуя угодить под глупую пулю, Евдокимов выскочил на середину двора, схватил старого офицера за локоть:
– Николай Сергеевич, это ведь никому не нужно. Мы и так знаем о вашей смелости. Уйдемте отсюда, уйдемте…
Потресов обернулся, и лицо у него при этом было каким-то отвлеченным, словно он уже заглянул туда, откуда никто не возвращается. Сразу как-то сникнув и сильно побледнев, Потресов покорно дал юнкеру увести себя в укрытие. Они прошли в опустевшую кухню, заваленную черепками битой посуды, и присели на корточки возле обшарпанной грязной стены.
– Зачем вам это? – добавил Евдокимов, жалея старого офицера острой жалостью своей немного наивной души.
Майор жалобно всхлипнул, на добрых глазах его проступили слезы:
– Я уже старый дурак. И вам этого не понять. Только вот беда – пули-то не берут меня, не трогают… А мне – надо! Хотя бы одну… Молю бога, чтобы не в живот только, тогда мне не выжить. Не для себя надо – для послужного формуляра надобно! Тогда-то пенсион мне, голубчик, уже выше пойдет. Хоть на старости лет кусок хлеба иметь буду…
Евдокимов, в душе которого сейчас острая жалость боролась с презрением, медленно поднялся, обтирая спиной грязную стенку.
– Я вам… противен сейчас, да? – понуро спросил Потресов.
Вбежал растрепанный, забрызганный кровью фейерверкер:
– Ваше благородие. Кирюху-то… Кирюху-то нашего!
– Что с ним?
– Кирюху-то, говорю, зараз вранило.
– Он жив?
– Его сюды вот, – чмокнул фейерверкер губами, – прямо аж сюды турчанка поцеловала!..
Раненого канонира втащили под укрытие. Лицо Кирюхи было в крови, бормотал он что-то, хлюпал. Вытерли кровь: отделался парень сравнительно легко – пуля прошла под самым его носом, сильно распоров верхнюю губу, еще безусую, совсем юную.
– Эх, родимый, – пожалел его Потресов, – не уберегся…
Канонир мычанием и жестами показал, чтобы глаза ему не заматывали: он в госпиталь подыхать не пойдет, при батарее останется. Глаза ему нужны будут – станок правее, станок левее, он это еще сумеет!..
Правдив ли был тот слух о полуведре воды, выданном батарейцам, так и не узнал юнкер Евдокимов, но попросить глоток воды постеснялся и решил ждать ночи.
– Ночью-то мы, господин юнкер, напьемся водицы, – посулил ему солдат Потемкин. – Только бы ночка потемней выдалась, а уж там-то мы дорогу найдем!
5
Восьмой по счету сын поглупевшего от пьянства дьячка из деревни Нижние Сольцы Корчевского уезда Тверской губернии, – как ему страшно сейчас! И он понимает пренебрежительную холодность экзаменаторов, – ведь он сейчас в их глазах смешной и зарвавшийся выскочка, который с порога мужицкой избы дерзает лбом отворить позлащенные двери академии генерального штаба.
– Тейлорова и Маклонерова теоремы, – говорят ему. – Есть два решения: одно, предложенное Буняковским, и второе – академиком Остроградским.
Одноглазый академик грузно поворачивается в кресле. Перед ним услужливо ставят стакан с водою, и почтенное мировое светило окунает в него желтые от табака пальцы, промывая слезящуюся язву пустой глазницы.
– Вопрос несложный, – говорит академик. – Даю вам десять минут на решение обеих теорем.
Да, вопрос несложен для вас, господа. Но как он сложен для него, бегавшего в соседнее село к отставному солдату, который учил его «буки-веди-глаголь-добро». Время летит быстро, розовый мелок крошится в пальцах, в стакане перед экзаменатором уже плавает какая-то противная муть…
– Я не могу… помогите мне! Помогите…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Помогите мне! Помогите…
Некрасов очнулся от собственного стона и с трудом разлепил глаза. Над ним висело высокое небо, и несколько курдов в одежде из верблюжьей шерсти, с башлыками на головах, кружком сидели невдалеке.
– О-о-о, – невольно вырвался стон, и курды, распластав широченные рукава, поднялись на воздух и улетели: это были не курды, а громадные грифы рыжего оперения, алкавшие человеческой крови.
Беспамятство перемежалось с бредом, и в горячечном бреду он переносился с Английской набережной Петербурга в высокий шатер полковника Хвощинского, который со смехом лил ему чихирь в долбленую азарпешу.
– Что со мною? – сказал штабс-капитан и только сейчас заметил, что лежит на земле абсолютно голый. Мародеры, приняв его за мертвого, содрали даже подштанники. В этой наготе было что-то жалкое и унизительное для человека.
– Какие подлецы… Боже мой, какие подлецы!
Некрасов стиснул челюсти, но обида на людей и страшная боль, рванувшая тело сразу в трех местах, вызвали невольные рыдания. Тогда он понял, что лучше не сдерживать себя, и дал полную волю слезам, лежа на спине и глядя в пыльное небо. Потом, когда слезы оттянули досаду, Юрий Тимофеевич привстал на локте и внимательно огляделся.
Вокруг него в жутком безобразии валялись мертвецы: они, как и он, были за ночь уже раздеты донага, причем были ограблены даже турки и курды. (Мусульман Некрасов отличал от своих солдат по красным и зеленым шнуркам, стянутым на запястьях: это были священные амулеты, повязанные их женами и матерями.)
– Неужели я остался один?..
Голый и живой, среди голых и мертвых, штабс-капитан долго ползал среди трупов, отыскивая между павших солдат хоть одного с признаками жизни. Но нет, повезло в этой отчаянной схватке, видать, только ему: солдаты Крымского батальона, верные своим славным традициям, полегли под ятаганами, но задержали врага на подступах к цитадели.
– Значит, один…
К нему подошла бродячая собака, облизала ступни его ног. Некрасов не отгонял ее. Их было много, таких собак: красивые борзые или же крупные густопсовые волкодавы, они потерянно бродили среди убитых турок, отыскивая погибших хозяев. И когда находили, то ложились с ними рядом, словно оберегая.
Откуда-то послышались людские голоса, скрип тележных колес и мычание буйволов. Юрий Тимофеевич подобрал брошенный кем-то длинный, спицеобразный кинжал с круглым посеребренным шаром, заменявшим рукоять, и медленно пополз в сторону Ванского тракта. На дорожной обочине росли громадные лопухи. Он укрылся под ними, наблюдая, как волочится в пыли буйволовая упряжка. Высокая телега была набита какими-то мешками, и на этих мешках сидел мужик в русской посконной рубахе, а за его спиной цвела пестрым сарафаном здоровенная девка с лукошком на коленях. Ну совсем как в России! И офицер не сразу догадался, что это местные молокане едут куда-то мимо Баязета в свою деревню.
– Люди добрые, – позвал их Некрасов, – помогите мне…
Мужик остановил волов, сразу же опустившихся в мягкую пыль, не спеша слез с воза и отогнул лопухи, под которыми лежал Некрасов.
– Царский человек, быдто? – спросил он недоверчиво. – В офицерах ходишь или же так, приневоленный?
– Офицер я… мои солдаты там… как один!
– Брось ножик! – сказал мужик строго. – Или не устал ты еще грешить-то противу Христа?
Некрасов воткнул кинжал в мягкую землю, застыдился своей наготы.
– Нюшка! – крикнул мужик-молоканин. – Кинь-кось тряпицу сюда. Царскому человеку срам нечем прикрыть!..
Некрасова положили на дно повозки, среди набитых чем-то мешков, и девка, распахнув широченный сарафан, накрыла им Некрасова, словно колоколом. Повозка тронулась, отчаянно грохоча по рытвинам, и Юрий Тимофеевич, глядя снизу вверх, видел только вздернутый нос молодухи, ее крепкие загорелые скулы и выпяченные вперед румяные губы, на которых висла шелуха подсолнечников.
– Далеко ли? – спросил он, стараясь не стонать.
– Хутор-то?
– Да я уж не знаю – хутор или деревня, куда вы меня везете-то?
– Не. – Девка повернула к нему лицо, красивое особенной дородной красотой русской крестьянки. – Тятенька вас на хуторе спрячет.
– Тебя зовут-то как? – спросил Некрасов.
– Анною буду. Тятенька-то Нюшкой кличет.
Повозка поднялась на гору. Некрасов вытянул шею, всматриваясь в сторону города. Баязетская цитадель высилась вдалеке, окутанная дымом и пылью, а над башней минарета колыхалось гарнизонное знамя.
– Лежи уж, лежи! – прикрикнул на него мужик. – И без того в чем душа только держится, а на убивство-то тебя так и тянет.
Султанские воины молоканскую повозку не трогали, да и встретились они только единожды: конвоировали две трескучие арбы, на которых перевозился гарем какого-то чиновника. Турецкие жены были до самых глаз укрыты яшмаками, но яшмаки их столь прозрачны, что Некрасов заметил и румяна щек, и густо насурьмленные брови красоток.
Когда эта процессия, со смехом и лепетанием грызущая сласти, миновала Некрасова, молокане свернули в сторону, и скоро буйволы втянули повозку на хутор, уютно расположившийся в неглубокой лощинке. Крепкие избы-пятистенки гляделись окнами в ущелье, на кольях тына висели горшки и тряпки, по крышам домов важно расхаживали аисты, тихие и величавые.
Пришли мужики, такие же чистые и здоровые, как и привезший его Савельич. Поцеловав друг друга, они с тихими молитвами и присловьями внесли штабс-капитана в прохладную горницу. Положили на лавку: вдоль стен теснились громадные, железом обитые сундуки с добром. Икон в доме не было – вместо них висели ветхозаветные скрижали.
– Ладно, в боковицу его сховаю, – сказал Савельич, снова целуясь с мужиками. – Мне это не греховно будет, хоша он и присягательный человек. Пущай отлежится в благодати нашей. А ввечеру и старицу Епифанию привесть надобно, чтобы врачевать его поскорее.
Некрасова спрятали в «боковице» – маленькой клетушке в приделе избы, где хранились перезрелые, растрескавшиеся тыквы. Под потолком сушились пучки каких-то трав, от них одуряюще сладко несло дурманом. Аннушка принесла офицеру светлого меду в деревянной чашке и кусок пресного кукурузного хлеба.
Штабс-капитан поймал ее большую влажную руку, прижал к своим высохшим от страданий губам.
– Спасибо вам, – сказал он и заметил, как испуганно оглянулась на дверь молодая раскольница. – Я вам так благодарен… Ну куда бы я делся? Просто счастье какое-то.
Девушка сильными тычками кулаков взбила под ним жаркие подушки. Помахав полотенцем, выгнала за дверь одинокую муху. Потом поклонилась ему с порога и ушла, пылающая и гордая. Некрасов едва-едва притронулся к меду и, забыв о боли, погрузился в чуткий сон и был разбужен лишь поздним вечером.
Ярко светила керосиновая лампа. Перед ним, беззубо улыбаясь, сидела страшная горбоносая старуха гречанка с глазами такой удивительной красоты, какую Некрасов не встречал даже у девушек. Штабс-капитан догадался, что перед ним та самая старица Епифания, о которой говорил Савельич, и он начал задирать на себе рубаху, чтобы показать раны.
– Ого, – сказала знахарка, – пана офицера убить проклятым османам не удалось!
Епифания говорила по-русски, однако с польским акцентом, и в разговоре выяснилось, что старуха провела свою молодость в Пулавах, где блистала красотой при дворе магнатов – князей Чарторыжских, – и хорошо помнит еще императора Александра Павловича. Каким образом занесла ее судьба сюда, в знойные долины Арарата, штабс-капитан спрашивать не стал и покорно подставил ей свои страшные разрезы.
– Кровь молодая у пана, заживет быстро, – сказала гречанка, и с осторожностью, удивительной для ее скрюченных от старости костлявых пальцев, она долго, почти неслышно втирала в раны пахучую мазь. – Я много жила среди русских, – говорила старуха. – И я знаю, какие они терпеливые. Пану лежать недолго, завтра его раны уже будут чистыми. О-о, я умею лечить!
Покидая Некрасова, старуха вдруг приникла к самому уху офицера и горячо зашептала:
– Я ненавижу их… этих султанских собак, которые сгубили мне жизнь. Я ненавижу их лица и адаты, их детей и женщин, я сожгла бы весь этот край! В моей юности греки и русские были братья, и я счастлива теперь… О-о, только один бог знает, как я радуюсь, когда вижу вас здесь, в Баязете, и ваши флаги на башнях!
Некрасов поглядел в прекрасные сухие глаза старухи и увидел в них такой огонь ненависти, что ему сделалось страшно.
– Матушка Епифания, – сказал он, – я ни о чем не спрашиваю. Путь из Пулавского замка до Баязета очень далек, и я догадываюсь, что ваша судьба сложилась ужасно.
– Сын мой, ужасно – это не то слово. Из гордой фанариотки, друга Байрона и князя Ипсиланти, меня сделали здесь… рабой!
Она ушла. Сколько же ей лет, если она знала еще Байрона и была другом знаменитого героя Греции, свободолюбивого повстанца Ипсиланти? Некрасову стало душно, спину палило огнем, но этот огонь был ему даже приятен. Боль медленно отступала, уже побежденная в его теле, и он снова заснул, чтобы проснуться от частого перестука выстрелов.
Штабс-капитан осторожно подтянулся к окну, заглянул в мрачную ночь. Крепость Баязета светилась вдали вспышками выстрелов, и цепочка огней растекалась вдоль речного русла.
В сенцах послышались легкие шаги, вошла Аннушка.
– Вы не бойтесь, – сказала девушка. – Это ваши казаки стреляют. Они пить хотят, им река нужна очень.
Аннушка привернула фитиль и задула лампу:
– Спите…
6
Штоквиц раздал вечером гарнизону остатки воды и со злостью пихнул от себя пустую, гулко задребезжавшую бочку.
– Караул от воды снять, – велел он Участкину. – Пить больше нечего. Можете полизать днище, коли хотите…
Это было сказано в виде грубой шутки. Но один солдат действительно залез в бочку головой, облизывая ее сырые заплесневелые стенки. Теперь жажда коснулась всех, и на этого солдата уже никто не смотрел как на сумасшедшего.
Карабанов, без офицерского сюртука, в одной нательной рубахе, опоясанной подтяжками, подошел к Штоквицу.
– Вот, полюбуйтесь, – сказал комендант, показывая на торчащий из бочки зад солдата. – Не угодно ли и вам стакан лафиту?
– Я иду из конюшен, – поделился Андрей. – Лошади рвут ездовых зубами, просятся на водопой. Не знаю – кому как, но мне смотреть на их муки гораздо тяжелее, чем на людские. Ведь они-то не могут разуметь, во имя чего мы жертвуем!
– Понимаю, – ответил комендант, – вашему Лорду цены нет, и жеребца, конечно, жаль. Однако придется до поры до времени лошадям потерпеть.
Они стояли возле крепостной стены, щедро излучавшей накопленный за день жар, и офицеры невольно, не сговариваясь между собой, отодвинулись от фаса.
– Да какой же поры? – спросил Карабанов. – И на что вы надеетесь?
Штоквиц посмотрел на поручика мутным нехорошим взглядом.
– Лошадей… сожрем! – просто сказал он. – И вашего Лорда тоже. Офицерских – в первую очередь. У нас есть ячмень, но всухую жевать его не станешь. Имеется запас муки, но ее, чтобы напечь лепешек, не на чем развести. Конина – вот что выручит нас. А с вашего Лорда и начнем…
– Нет уж, – с издевкой возразил Карабанов. – Я предлагаю начать это роскошное пиршество с вашего любимого котенка. Кошатинка-то, я думаю, еще не приелась!
Карабанов решил, что комендант обидится, но Штоквиц даже глазом не моргнул, ответил в том же духе.
– И котенка сожрем, – согласился он. – И подметки жарить будем. И локти отгрызем один другому, но… только бы выдержать! Я еще не потерял веры на помощь от Тер-Гукасова.
Карабанов подвынул свою шашку из ножен, задумчиво посмотрел на холодное лезвие и толчком вбросил клинок обратно.
– Ладно, – сказал. – И не такие головы, как моя, пропадают!..
Капитан и поручик разошлись в разные стороны. Поговорили хорошо, как офицеры, но как люди они мало интересовались друг другом. Штоквиц тут вспомнил о беженцах. Решил, что все-таки напрасно пустил их в крепость. Своим пить-есть нечего.
Спасенные от гнева курдов и турок, беженцы занимали помещения второго двора, и Ефрема Ивановича еще с лестницы оглушил женский гам, слагаемый из множества наречий, писк голодных детишек, ворчание старух и унылые армянские плачи-молитвы. Беженцы располагались на ночь, уже наворовав откуда-то сена для постелей.
Свертками с жалким скарбом грузинки отгораживали своих детей от еврейских, еврейки – от осетинских и армянских, хотя, казалось бы, сейчас все были равны в своем ужасном бедствии.
– А ну – тихо! – гаркнул Штоквиц. – Тихо, а то всех за ворота выставлю, чтобы и не возиться тут с вами!
Потом, выждав тишины, комендант спросил, получен ли ими ячмень, который он велел выдать на кухне. Да, они были очень благодарны русскому сердару за ячмень, – вот если бы он еще велел дать им немного соли.
– Дам соли! – кратко ответил Штоквиц.
Под этими сводами хранилась громадная каменная ступа, в которой полагалось заживо толочь трехпудовым пестиком священную особу кадия или муфтия, если он отступал от своей веры. Теперь как раз в эту ступу был засыпан ячмень, и две толстые вспотевшие женщины усердно толкли его прикладами трофейных винтовок.
– А воды нет, – сказал Штоквиц. – Ни за какие деньги. Потерпите. Может быть, ночью казаки извернутся, и тогда можно будет напоить детишек.
Из темного угла пугливым зверенышем глядела девочка лет семи-восьми. Штоквиц уже заметил, что стоило ей только выползти оттуда, как женщины плевками и руганью гнали ее прочь от своих детей. Девочка смотрела на коменданта крепости, и мелкие пиастры, вплетенные в ее косички, слабо мерцали в потемках. Капитан догадался, что эта сирота – ребенок турецкий, следовательно, дитя отверженное: здесь ей не дадут ни куска чурека, ни глотка воды.
Штоквиц вытянул девочку на свет божий, взял ее на руки.
– Как же ты попала сюда? – спросил понежнее.
Маленькая турчанка вдруг крепко обхватила ручонками толстую багровую шею коменданта и на все вопросы его лепетала только одно:
– Аман, урус… аман, урус… аман, аман…
Штоквиц прижал к себе теплое тельце девочки и вдруг яростно наорал на женщин:
– Разгоню всех к едреной матери! Чем она виновата перед вами?.. Отдай винтовки сюда! Нашли, толстозадые, чем ячмень толочь! И так сожрете…