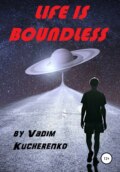Вадим Иванович Кучеренко
Сновидения
Кабинет начальника управления напоминал крохотный музей. Его стены были завешены эскизами проектов уже построенных зданий, к которым когда-то приложил руку сам Кныш. На это указывала размашистая подпись в углу ватманских листов. Но еще большее сходство с музеем придавал кабинету застоявшийся теплый воздух, от которого с непривычки начинало сводить челюсти зевотой. Украшением коллекции, несомненно, мог считаться сам Олег Павлович Кныш. Когда он сидел за своим письменным столом, строгий, даже несколько чопорный, в туго повязанном галстуке, и смотрел, не мигая, на собеседника, он легко бы сошел за экспонат. Не хватало, по мнению Николая, только таблички «Руками не трогать».
Кныш беззвучно опустился в кресло и, не предлагая сделать того же Николаю, долго смотрел на него, чуть прищурившись. Он любил делать томительную паузу перед началом беседы с провинившимся подчиненным, чтобы тот «прочувствовал». Выждав положенное время, Кныш спросил:
– Я так понимаю, Зябликов, вы уже закончили работу над проектом, которую я поручил вам на прошлой неделе?
– Завтра, – едва слышно ответил Николай, понуро разглядывая носки своих ботинок.
Он чуть было не сказал, что поставленный ему срок сдачи проекта наступает лишь завтра, и что он сделал бы его еще вчера, то есть в минувшую пятницу, если бы у него лежала к этому душа. Но оборвал себя на полуслове, потому что тогда мог последовать вполне резонный упрек в том, зачем он вообще взял этот проект, а ответить Николай не смог бы. Взял, потому что дали. Не в его привычках было отказываться от работы или перебирать, рискуя этим вызвать недовольство того, кто давал. Он всегда делал на совесть то, что ему поручали. И не его вина, что поручали ему, как правило, совсем не то, что ему хотелось бы, и чаще всего то, от чего отказывались другие. А как вырваться из этого порочного круга, он не знал, и поэтому работал почти механически, без мешающих работе эмоций и сомнений. В конце концов, он зарабатывал деньги на жизнь, причем далеко не самым худшим способом, и даже приносил какую-то пользу обществу, в котором жил. Это был наиболее веский довод из тех, посредством которых Николай обычно восстанавливал в своей душе равновесие и умиротворенность.
– Так, – Кныш грозно насупил брови и выбил пальцами дробь по лакированной поверхности стола, на которой не было ни пылинки, и где зеркально отражался сам Кныш. Получалось, что он щелкает свое отражение по носу, а то, недовольное таким обращением, тоже хмурится. – И, тем не менее, вы травите байки и отвлекаете коллег от работы.
– Они сами просили, – тихо произнес Николай.
Не ожидавший возражений Кныш удивленно воззрился на него. Но увидел, что это не бунт на корабле. Зябликов стоял перед ним потерянный и жалкий, в ожидании неминуемого наказания. И сердце начальника управления неожиданно дрогнуло. В голову ему пришла нелепая мысль образумить Николая.
– Да поймите же, что они над вами просто смеются, – сказал Кныш уже мягче. – Неужели вы до такой степени не уважаете самого себя, что вам нравится быть клоуном?
То, что последовало за этой почти по-отечески высказанной фразой, явно не ожидали ни Кныш, ни даже сам Зябликов.
– А за что меня уважать? – вдруг вырвалось у Николая. И он почувствовал, как его подхватила неведомая сила и понесла, не выбирая дороги. Но он уже не мог остановиться, он слишком долго сдерживался, чтобы, однажды сорвавшись, хранить благоразумие. Тугая пружина протеста, которую годы покорного молчания сжимали в его душе, распрямилась и, звеня, начала крушить направо и налево. – За то, что я порчу чужие чертежи? За то, что еще ничего не сделал сам, а загубил более чем достаточно? Или за то, что еще немного, и я начну вешать на стену искалеченные мною проекты и гордиться тем, что надругался над чьей-то талантливой мыслью?
Последнего ему явно не стоило говорить, даже в бреду. Кныш, до этого слушавший Николая скорее с недоумением или жалостью, как врач-психиатр пациента, воспринял эту фразу как личное оскорбление. И обиделся.
– Я надеюсь, молодой человек, что вы будете последовательны до конца и уйдете из нашего проектного института по собственному желанию, – голос Кныша был суше знойного ветра в пустыне. – А теперь можете идти.
– Спасибо, – неизвестно зачем сказал Николай и вышел, осторожно притворив за собой дверь. Пламенный порыв его, как неожиданно вспыхнул, точно так же и угас. Чацкий, обличитель порока, в нем умер, уступив место под солнцем напуганному своей минутной смелостью обывателю.
Но если бы Николай мог видеть, что происходит сейчас в кабинете Кныша, возможно, он сдался бы не так скоро. После его ухода Олег Павлович продолжал неподвижно сидеть за своим столом, тщетно пытаясь соединить обрывки мелькающих в его голове мыслей. Он то презирал Николая, то начинал ненавидеть его, а то вдруг ощущал слабость во всем теле и полную растерянность, когда, сам не желая того, признавал правоту слов Зябликова. Если бы кто из сотрудников управления увидел в эту минуту, как музейно-застывшее прежде лицо их начальника то и дело перекашивают гримасы самых различных чувств, то он бы, наверное, усомнился в своих глазах. И уж ни за что бы не поверил, что такое с грозным доселе Кнышем мог сотворить кроткий и безответный Зябликов…
Пока в кабинете Кныша разыгрывалась маленькая человеческая трагедия, виновник ее бесцельно брел по улице, шаркая подошвами об асфальт. Он ушел из «Стройгражданпроекта», даже не заходя в свой кабинет. Домой Николаю идти не хотелось. Мать, если она еще не ушла, обязательно начала бы приставать с расспросами о том, что случилось. А он и сам не разобрался пока в этом. Просто чувствовал, как физическую боль, что жить он так больше не может, ни одного дня. Все его прежнее существование представлялось ему схожим с жизнью земляного червя. После смерти Чацкого недолго протянул в нем и обыватель, и теперь по городу шел принц датский, разрешая мучительный вопрос, как ему жить дальше в королевстве, где все прогнило.
В его жизни это был уже третий приступ глубокого, до желания умереть, отчаяния. Из опыта предыдущих Николай знал, что если чем-то поступиться, в себе или вне себя, то все встанет на свои места, вернется на круги своя, плохое минует и забудется. Но он не знал, чем ему пожертвовать на этот раз. У него не осталось ничего, кроме его необыкновенных снов…
Впервые это произошло во втором или третьем классе, Николай уже точно не помнил. Но в памяти осталось, что, несмотря на осень, в тот день было очень тепло. Его завели, держа за руки, за угол школы, куда не заглядывали взрослые. Уроки закончились, школа опустела. И тишина всегда шумного школьного двора казалась неестественной, как и все, что с ним сейчас происходило. Все это было похоже на сон.
Вокруг него столпились мальчишки-одноклассники. Они возбужденно переминались с ноги на ногу, но никто не решался ударить первым. Наконец вперед вышел Димка, забияка и драчун, вечно ходивший в синяках и с оторванными пуговицами. Еще у него были нелады с математикой. В тот день они писали контрольную работу, и Коля не дал ему списать. Димка подступил вплотную и, не глядя в глаза, с неожиданно прорезавшейся в голосе хрипотцой, сказал:
– Ну, что, отличник-единоличник, по морде хочешь?
– Нет, – честно ответил Коля. Он действительно не хотел этого и, кроме того, не понимал, за что с ним так. Он отчаянно трусил. Его еще никогда не били. Коля был очень аккуратным, вежливым и славным мальчиком, которого нельзя было не любить. Он привык к этой мысли. А сейчас, прижатый спиной к шершавой кирпичной стенке школьного здания, он чувствовал, как его начинает подташнивать от того, что вокруг были чужие, враждебные лица. Хотя каждого из окружавших его мальчишек он знал и прежде не опасался, но в этот момент никого не узнавал, настолько их изменили предвкушение близкой расправы и сознание своей власти над ним. Колю лихорадило, он не мог скрыть этого. И чем сильнее он дрожал, тем больше распалялись его обидчики.
– Трус, – сказал презрительно Димка и плюнул Коле в лицо.
Коля заплакал. Он даже утереться не посмел, боясь поднять руку. Соленые струйки стекали по его пухлым щекам. Мальчишки смеялись и выкрикивали:
– Плакса-вакса!
– Да что с ним говорить, дать ему под дых, пусть знает!
– Димка, врежь ему!
И Димка «врезал». Удар пришелся в живот, и через куртку, пиджачок и рубашку Коля его почти не ощутил, но упал. Он знал, что так ему меньше достанется. Сорванцы и в самом деле испугались того, что натворили, а сильнее всех грозный Димка. Они вмиг разбежались. Но Коля еще долго не вставал, опасаясь, что они вернутся, хотя ему было противно лежать на раскисшей после недавнего дождя земле.
После этого он три дня не ходил в школу, пользуясь тем, что мама выходила утром из дома раньше него. Сидел в своей комнате, читал книжки, смотрел телевизор и ни о чем не думал. Даже в окно не выглядывал, чтобы его невзначай не заметили с улицы. Мама ни о чем не знала, пока ей не позвонила на работу встревоженная учительница. Вечером мама плакала и так жалобно просила не сводить ее раньше времени в могилу, что Коля пожалел ее. Наутро он шел в школу, держась за мамину руку и с трудом переставляя ноги, словно на них навесили пудовые гири. Ему было и страшно, и стыдно одновременно. Когда начался урок, и мама ушла, кровь так шумела в его ушах, что он почти не слышал голоса учительницы, однако упорно не сводил взгляда с доски, боясь смотреть по сторонам. С тоской ждал звонка. Но неожиданно все обошлось. На перемене к нему подскочил Димка и, хлопнув его по плечу, сказал:
– Не дрейфь, не трону. Сделал математику?
– Ага, – кивнул Коля и торопливо достал из портфеля тетрадку с домашним заданием по математике.
С тех пор так и повелось: он исправно решал за Димку уравнения и задачки, а тот не давал его никому в обиду. И все равно, каждый раз, когда Димка приближался к нему, Коля чувствовал внезапную слабость и тошноту под ложечкой, и казался самому себе жалким и маленьким, хотя Димка был на целую голову ниже. Коля был готов выполнить любое указание своего плюгавого повелителя. Он до того боялся, что его снова изобьют и плюнут ему в лицо, что даже не мог ненавидеть Димку. Это состояние было мучительно, но непреодолимо, и продолжалось до восьмого класса, когда Димка ушел из школы в училище.
Чем обернулись для него те годы постоянного унижения? Говорят, что детская память забывчива и всепрощающа. Может быть, и так. Николай не таил в душе зла ни на Димку, ни на прочих своих былых обидчиков. Но он с горечью сознавал, что именно тогда он научился смиряться перед более сильным и улыбаться, когда его обижают. У него не хватало мужества восстать против духовной тирании Димки, он лишь тешил себя надеждой, что это скоро кончится, и терпел. Но это не кончилось и после того, как не стало Димки. Просто его место заняли другие люди. Везде, где бы Николай потом ни был, находились желающие подчинить его своей воле. А он, наученный горьким опытом, знал, что проще будет уступить. И уступал. Сначала незаметно, затем все более откровенно, пока с ним совсем не переставали считаться, воспринимая чуть ли не как самый подходящий объект для разного рода притязаний. Ему же это было почти безразлично. До того дня, когда он встретил Ирину. Тогда он будто начал возрождаться и с некоторым даже удивлением чувствовал, как в нем сквозь пласты былой апатии пробиваются ростки уверенности в себе, в своих силах и в своем праве никого и ничего не бояться.