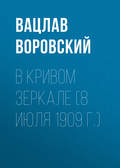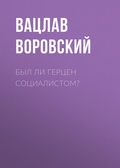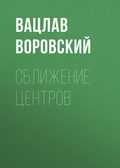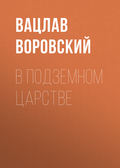Вацлав Воровский
Куприн
Все это было достигнуто тремя указанными элементами. Но мы знаем, что во времена Ромашова наука была связана и приписана к определенному министерству, искусство прозябало и зависело от сановных меценатов, наконец, физический труд был, как раб, скован по рукам и ногам и запродан капиталу. Где же отправная точка, исходя из которой можно было бы прийти к блаженному состоянию 1906 года? Где необходимое первое усилие, первый толчок?
Этот толчок, как узнаем мы из тоста знакомого нам уже оратора, был дан «нетерпеливыми, гордыми людьми, героями с пламенными душами», которые выходили на площади и на перекрестки и кричали: «Да здравствует свобода». «И они обагряли своей праведной горячей кровью плиты тротуаров. Они сходили с ума в каменных мешках. Они умирали на виселицах и под расстрелами. Они отрекались добровольно от всех радостей жизни, кроме одной радости – умереть за свободную жизнь грядущего человечества». «Друзья мои, – говорит дальше оратор, – разве вы не видите этого моста из человеческих трупов, который соединяет наше сияющее настоящее с ужасным, темным прошлым? Разве вы не чувствуете той кровавой реки, которая вынесла все человечество в просторное сияющее море всемирного счастья?»
Итак, первоначальным двигателем, вырвавшим человеческое общество из ужаса и бессмысленности, явилось самопожертвование героев. Благодаря альтруизму гордых, свободолюбивых людей стало возможным освобождение человечества. Эта идеалистическая точка зрения весьма характерна для аполитицизма Куприна: он не останавливается над вопросом о том, что это за люди, почему они появляются и откуда появляются. «Как они рождались в тот подлый, боязливый век, – говорит оратор, – я не могу понять этого». В борьбе с насилием побеждает, таким образом, не материальная, а моральная сила.
Когда оратор кончил свой тост, женщина необычайной красоты, сидевшая рядом с оратором, вдруг прижалась головой к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос о причине слез она ответила едва слышно:
– А все-таки… как бы я хотела жить в то время… с ними… с ними…
Это характерное место дает довольно ясную картину взгляда Куприна на происходящую революционную борьбу. Этот взгляд – чисто эстетический. То, что именно женщина так реагировала на воспоминание о героической борьбе, то, что это женщина необычайной красоты, и то, что ее прельщает как раз картина самопожертвования, – все это крайне типично для Куприна. Элемент самопожертвования, бесспорно, играет по сей день крупную роль в революционной борьбе, но с тех пор, как активными деятелями революции стали не одиночки, не «герои», а массы, «толпа», – этот элемент отошел на второй план, стал красивым придатком серой повседневной борьбы, лишенной внешних эффектов. Самопожертвование в этой борьбе стало будничной чертой и перестало быть добродетелью. Дерется теперь и побеждает не эта добродетель, не самопожертвование, покоряющее сердца своей моральной силой, а сплоченное усилие безымянных масс – моральная сила, опирающаяся на материальную силу. Подмечать только самопожертвование отдельных героев, не замечая работы этих безымянных средних величин, значит то же самое, что – да позволено будет сделать грубое сравнение – собирать цветы картофеля, не подозревая о существовании в его корнях питательного плода. Фактическим героем нашего времени стал собирательный деятель, и никакие «поэтические соображения» не могут оправдать игнорирование его.