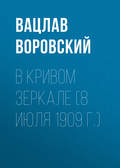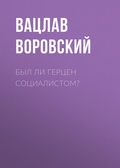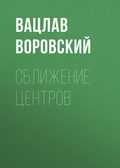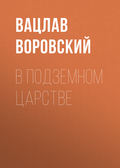Вацлав Воровский
Куприн
В «трудовые» часы они бьют «морды» солдатам, приговаривают к «экзекуциям», то есть порке («Дознание»), в часы «отдыха» пьянствуют, бесчинствуют в домах терпимости, издеваются над «шпаками». В минуты сентиментальности либо соблазняют деревенских девушек («Ночлег»), либо мечтают о чувствительных романах с аристократками («Прапорщик армейский»). «Судьба ежедневно и тесно сталкивает его (Ромашова) с сотнями этих серых Хлебниковых (забитый, жалкий солдат), из которых каждый болеет своим горем и радуется своими радостями, но все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров… даже и не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно-покорными и обессмысленными лицами – на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой, батальоном, полком» («Поединок»).
На военной среде Куприн имел широкую возможность обрисовать «порочность» и «уродство» так называемых командующих классов, и вне военных рассказов он редко касается этих классов. К тому же мы знаем, что он не политик; изображение господствующего общества с целью публицистического освещения чуждо его авторской индивидуальности, изображение же его ради чисто эстетического интереса не менее чуждо Куприну, ибо это общество такого интереса в нем не пробуждает. Буржуазное общество в его столкновении с трудящимися классами Куприн характеризовал только однажды в своем рассказе «Молох», отчасти еще в рассказе «Корь», хотя там буржуазная семья изображена скорее в своей внутренней жизни.
* * *
Поскольку у Куприна изображаются картины современной «порочной и уродливой» жизни, его внимание больше всего привлекает мир людей, стоящих в силу ли своего образа жизни, в силу ли своих антиобщественных инстинктов вне общества. С одной стороны, это – счастливые дети природы, – счастливые, ибо у них есть та свобода и та детская близость к природе, о которой так мечтают утомленные культурными узами современные художники – страстные охотники («Лесная глушь», «На глухарей», «Олеся»), живущие одной жизнью с природой, рыбаки («Листригоны»). С другой стороны, это – отверженные мира сего: подонки, собирающиеся в кабачке «Гамбринус», профессиональные воры с их своеобразной «этикой» («Обида»), конокрады, контрабандисты, шулера («Ученик»), проститутки («Яма»). Сюда же относится и другой вид отверженных – цирковые и убогие провинциальные театральные парии («В цирке», «Клоун», «Как я был актером»). Эта пестрая полубродячая среда, жизнь которой связана с тысячами опасностей, уловок, авантюр, обладает, подобно рыбакам и охотникам, одной ценной чертой, которая, по-видимому, более всего привлекает к ним внимание художника: это – отсутствие мещанского благополучия, вечный риск, который, по пословице, является «благородным делом». Необеспеченная, скитальческая, обставленная опасностями жизнь этих людей, не знающих, что принесет им завтрашний день, придает им особую красочность, развивает в них оригинальную индивидуальность, дарит их «звериной красотой» (выражение Куприна). Этот интерес автора к среде со слабо развитыми общественными инстинктами носит, бесспорно, несколько авантюристский характер, но в нем имеются те же элементы, что в босяцких симпатиях М. Горького, – именно, протест против тупости чувств и мыслей обретшего благополучие и покой мещанина. Но для М. Горького босяки были ступенью в его внутреннем развитии, для Куприна же они – самостоятельно интересный материал. Он не идеализирует этот материал, теневое значение его ясно Куприну, но он как бы говорит культурному обществу: господа, вы все так безличны, безвкусны, скучны и шаблонны, что не на чем остановиться вниманию художника; я изображу вам мир отверженных вами, и вы увидите, что если в вашем обществе еще есть что-либо интересного и оригинального, так это именно то, что вы гоните от себя. Я буду рисовать тени жизни, и по этим теням вам ясно обозначится весь неприглядный контур вашего современного общества.