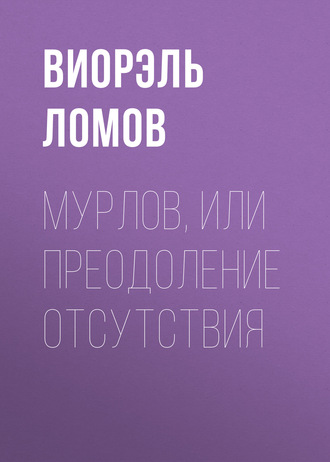
Виорэль Ломов
Мурлов, или Преодоление отсутствия
Не прошло бесследно это для Агафьи. Страх перед всем непонятным закрепился и преследует ее всю жизнь. Особенно, когда солнце начинает садиться и, не дай бог, шорох раздастся, точно песок сыплется на землю…
– Да выдумала она все это. Не может быть такого, – сказал Димка, разрешив таким образом на какое-то время свои сомнения в реальности нереального параллельного мира.
– Быть-то этого, может, и не может, а вот она видела это своими глазами. Для нее это быль, самая настоящая быль.
* * *
Димка спал плохо. Чуть забрезжил рассвет, поднялся и пошел будить Гришку. Было свежо, и Димка дрожал от возбуждения и утренней прохлады. Растормошив Гришку, он рассказал ему все. Тот спросонья только пялил глаза и чесался, но поняв наконец, о чем речь, задумался. Димка тоже забрался к нему под овчинный тулуп, согреться.
– Да-а, – сказал Гришка, – нехорошо получилось. Твоя бабка, небось, только меня и винит.
– Да нет, – чуть смущенно сказал Димка, – при чем тут ты?
– Да при том, что ты до этого не додумался бы.
– Я? – заершился Димка. – Да кто до этого додумался-то?
– Ну, она так думает, что я во всем виноват.
Немного помолчав, Димка высказал мучившую его догадку:
– Да… Если человек в жизни и мухи не обидел, то и собаку он не отравит. Значит, Дюк заправду взбесился сам.
Согревшись под овчиной, ребята незаметно уснули.
Проснулись от яркого света в окнах. Солнце было уже высоко. Решили зайти к Агафье. «Как-то она там? Жива ли?» Димка расхрабрился и вошел в избу. Бабка Агафья строчила на допотопной, но красивой швейной машинке «Зингер».
– Здравствуйте, бабушка Агафья, – вежливо сказал мальчик.
– Здравствуй, здравствуй, – улыбнулась Агафья. – Тебя бабушка за чем-нибудь прислала?
– Нет, я сам… У вас можно нарыть червей на базу? У нас почему-то все черви пропали. А на колхозный баз идти неохота.
– Отчего ж нельзя? Рой.
– Спасибо! – крикнул мальчик, выскакивая.
– Ну как, жива? – кинулся к нему Гришка.
– Порядок! Жива. Даже червей позволила нарыть у себя на базу…
* * *
– Вот так и появились первые черви. Черви сомнений. Хорошо, когда они появляются в детстве, – сказал Рассказчик, – тогда на них в жизни, если повезет, можно поймать приличную рыбу. Даже золотую.
– А как дед дожил свой век? – спросил я.
– Дед? – Рассказчик внимательно смотрел на меня, как бы ожидая моих объяснений.
– Да, дед. Меня, видишь ли, всегда интересовали годы детства и последние годы жизни мужчин. Мужчины перед смертью почему-то лучше выглядят, чем женщины.
– Уходу за ними больше – вот и выглядят лучше. Да и бездельники все мужики. А средние годы тебя не интересуют?
– А они разве есть?
– История средних веков есть, – уклончиво ответил Рассказчик. – Ладно, о деде. Но совсем немного. Хотя нет, сперва надо о маленьких. Еще кое-что о Димке. Так, один эпизод.
ВОСПОМИНАНИЕ 10. Парное молоко.
– Так ты чей? – повторил строгий мужчина, глядя на Димку поверх очков. Мальчик молчал. Сердитый дядя был очень похож на колхозного мерина Митьку, вылитый старший брат – у Димки только это крутилось в голове.
– Ну, немой, что ли? – подбадривала Димку соседка. – Скажи, что Косовым внуком приходишься. Ну… Батюшки, отродясь таких робких в их роду не бывало. Василия Федоровича это внук. Димой звать.
– А чего мне говорить, когда ты уже все сказала, – разозлился Димка. Он никак не мог понять, чего это все вдруг прицепились к нему. Налетели, как осы. Ели, ели свои арбузы – и вот, нате-здрасьте, за него взялись. Когда он ест арбуз, ему не до вопросов, и пока пузо у него не станет само как арбуз, он глух ко всему на свете, как Гришкина бабка. Главное, едят арбузы лежа на боку. Патриции! Арбузы надо есть стоя! Во-первых, в знак уважения перед ними, а, во-вторых, больше влезет. Окружившие его хуторяне перемигивались и улыбались, видя растерянность мальчишки. «Как козы уставились!» – думал Димка.
– Бабоньки, подъем! Перекусили – и хватит. Ярило с горки покатило!
Все с кряхтеньем стали подниматься, потягиваться, и только через полчаса на бахче вновь запестрели косынки и платья женщин, поползли коричневые тела мужиков в вылинявших галифе.
– Ну что, Димка, хватай дыньку. Бабке Куле оттащи. Скажешь, от дедка Мазая, что возил тех заев. Еще держи. Не урони! Сахар, а не дыни. С коркой проглотишь. Донесешь?
– Донесу. Спасибо, дедушка.
Димка потоптался возле шалаша, пока сторож готовил себе полдник: он достал небольшую зеленоватую бутылку, головка которой была залита сургучом, отбил тяжелой рукоятью ножа сургуч, протер горлышко толстым прокуренным пальцем, поставил бутылку между ног и накрошил в раскаленную на солнце миску четвертинку серого хлеба, посолил ее, очистил и накрошил туда же головку репчатого лука. Затем вылил из бутылки в миску водку, посмотрел на бутылку сбоку и снизу – не осталось ли на дне нескольких драгоценных капель, достал из нагрудного кармана столовую ложку, облизал ее, помешал свое блюдо и стал покрякивая хлебать тюрю. Тщательно выбрал все крошки, оставшиеся по краям миски, опрокинул миску в ложку, но ничего не слилось. С сожалением поглядел на опустевшую посудину, облизал на три раза ложку, засунул ее в карман, вытер губы тыльной стороной ладони, отхватил от нарезанной дыни ломоть и несколько раз шумно вгрызся в него, оставив лишь тонюсенькую кожуру. «Ну, иди. А я спать», – сказал он Димке и полез в свой прохладный шалаш, а Димка с дынями под мышками зашагал по сухой белой дороге.
Дорога долго и однообразно тянулась вдоль поросшего ивняком, вербами и камышами топкого и склизкого берега реки, потом испуганно прянула вправо, нырнула в глубокую балку, густые заросли орешника, выползла на простор и заюлила между холмами, то удаляясь, то возвращаясь опять к реке. Навстречу прыгали две полуторки, оставляя за собой длинные шлейфы пыли. Эти машины возили с бахчи арбузы.
Над холмами ветер тащил округлые, золотистые, как на бабушкиных иконах, облака, и казалось – вот-вот над степью, как над богом, вспыхнет нимб и пронижет мягкие невесомые кучи, озарит их изнутри таинственный иконный свет.
Степь точно ждала этого озарения, притаилась, и ее нетерпение выдавал душный воздух, который, казалось, напрягается из последних сил, разрывая невидимый мешок, заключающий его; тяжелое дыхание налитой пшеницы, на которую выкатили косилки; да нервная рябь то там, то тут на гладком теле воды; да старинный неумолчный концерт кузнечиков и жаворонков; и тонкий, едва сдерживающий себя от того, чтобы щедро не растечься, запах приближающейся осени, которую немилосердное солнце подпалило уже с боков.
Вот и последний перевал, и внизу показался хутор, и опоясывающая его, словно серебряным пояском, речушка. Каменная гребля, перегораживающая речку, сверху похожа на дощечку, перекинутую через ручеек, а притулившиеся сбоку электростанция и мельница напоминают два кубика, белый и красный. На левом берегу зеленеют сады, и в них, как кувшинки в стоячей воде, редко плавают белые курени с соломенными желтыми крышами, прячутся серые и беленые землянки, погреба, кухни, сараи, курятники, скотные базы… Из труб землянок и кухонь вьется дымок, будто они курят папиросы. На правом берегу собрана почти вся деревня. Садов тут меньше, больше дворов, огородов, речка как раз и огибает эту часть хутора. Вон уже и Димкин дом виден. А за хутором сразу же растет вверх Шпиль – высокий пологий холм, через который ходят в магазин и кино на станицу. Как спички, торчат телеграфные столбы, спички черные – говорят, из самой Африки. Их в этом месте очень много, хотя никто никому не звонит, да и телефонов-то ни у кого нет. И свет все еще дают по праздникам, и тот тусклый, как тут не стукнуться лбом о дверь или стенку, на него даже бабочки не летят.
День клонился к вечеру. Жара спала, ветер принес запах речной тины и прелой соломы. Дымка уползла за горизонт и вытолкнула сизое облачко, уютное и компактное, будто клубочком свернулся пушистый зверек. Вдруг Димка под густым кустом шиповника увидел серый клубок, очень похожий на то облачко. Сначала он подумал, что это тряпка, но когда подошел ближе, тряпка обернулась серым зайцем. Димка замер. Заяц разомлел от жары и безмятежно дрых, как в своей избушке, вздрагивали лишь во сне уши. Серый был большущий, должно быть, матерый.
Мальчик тихонько положил дыни на землю и, как бабушкин архангел, неслышно скользнул к серому с тылу. Заяц потерял всякую бдительность – подходи и в карман клади. Слышно было, как он хлюпает носом, совсем как Гришка. Подкравшись еще ближе, Димка прыгнул на зайца. Мягкий и приятный, в первый момент, на ощупь, комок тут же превратился в комок стальных пружин. Косой дико заверещал, уши у него взлетели, своими задними лапами, как ухватом, он уперся Димке в живот, а передними стал пребольно колотить его по правому плечу. В первый миг Димка опешил: ему показалось, что косой смеется над ним, но через секунду он взвыл от боли и выпустил серого. Тот прыгнул в сторону и застыл. Глаза шальные, весь трясется, как будильник. Наконец осмотрелся и покатился, как перекати-поле, без оглядки под гору, кувырком – все меньше, меньше, пока не исчез в балке.
Димка осмотрел себя: на плече слегка содрана кожа и, похоже, будет синяк – не беда, заживет, а вот на животе из трех царапин сочится кровь. Димка согнулся и попробовал языком слизать ее. Этот финт ему не удался. Послюнявив палец, он приложил его по очереди ко всем царапинам. Обидно, чего там, такого зайца упустил! То-то Гришка, да и Полька позавидовали бы, а дедушка похвалил… А так… И Димка, тяжко вздохнув, подобрал дыни и поплелся напрямик к дому, не разбирая дороги. Благо, идти было под гору.
– Это где ж тебя угораздило так, а, князь Потемкин? – всплеснула руками бабушка. – Опять в сад залез! Ну, смотри, соли влепят – покиснешь в речке. Мать приедет – так и знай, все доложу!
– Пожалуйста, – буркнул Димка.
Бабка заохала, захлопала по бедрам руками, как петух, и долго жаловалась непонятно кому на этого неслуха: «Нет, ты только погляди на него! Погляди! Это что же такое, а? Совсем отбился от рук! Да вразуми же его! Наставь на путь истинный!»
Димка догадался, что это она причитает своему господу богу.
Господь и на этот раз остался безучастен к бабкиным стенаниям, и Димка кинул дыни на крыльцо (пер столько!) и убежал к Пруту. Тот лизнул его горячим языком в нос и губы, сел перед ним и часто-часто задышал, стукая упругим хвостом по земле. Мальчик погладил собаку и сказал:
– Никто нас с тобой, Прут, не любит. Ну, и не надо! Мы и так проживем – не помрем. Узнают тогда! Да не пыли ты!
Прут еще усерднее замолотил хвостом о землю. Чуял пес, что его сейчас отвяжут.
Обидно! Дыни принес. Только хотел похвастать, что чуть не поймал во-о-от такого зайца. Бабушку хотел порадовать – а все шиворот-навыворот вышло. Всю жизнь так! Вот дед никогда не ругает. Мужчина. Димка вздохнул, отвязал пса: «Айда, Прут, гулять!» Прут, ошалев от свободы, мотался по двору, грядкам, танцевал вокруг бабушки, как джигит с кинжалом во рту, пока бабка не прогнала его со двора хворостиной.
* * *
Димка взял пол-литровую банку и пошел к Линевым за парным молоком. У Косовых корова заболела бруцеллезом, дедушка увел ее куда-то, и теперь молока у них не было.
К Линевым Димка шел с охотой – он любил парное молоко с краюхой хлеба, и ему нравилась Полька Линева, наивная и добрая девчонка. Полька была с ним всегда добрая, даже когда болела, и Димке с ней было хорошо. Особенно, когда день выдавался нехорошим, как сегодня. Утром бабушка отлупила почем зря. Подумаешь, вырвал из грядки несколько головок лука и бросил их в яр за сараем. Так она сама перед этим говорила, что плохо, когда лук растет густо, луковицы друг друга жмут, и оттого вырастают мелкие и курживые. И сама в это время на другой грядке прореживала его и выкидывала что-то в яр. А тут сразу же заметила – он думал ей сюрприз сделать – что не хватает несколько луковок, разыскала их все внизу, подобрала ведь до последней! – и всей охапкой этой отхлестала его по спине и чуть ниже. «Ты что же, паршивец, натворил! Ведь ты мне семенной лук сгубил!»
– Все. Пальцем о палец не стукну, помогать ей делать что-нибудь, – успокоил себя мальчик, – все равно не угодишь. Расстройство одно.
Вся семья Линевых – и дед Николай, и бабка Пелагея, и дядя Ваня, и тетя Зина, и Полька – сидели за большим столом под неуродившей яблоней и хлебали деревянными ложками густую лапшу. У Польки рот был маленький, она с трудом помещала ложку в рот и потом с таким же трудом вынимала ее обратно. Димка вспомнил, что он сегодня, кроме арбузов на бахче, ничего не ел. И хотя он не любил есть густую лапшу деревянной ложкой, сейчас можно было бы поесть и ею. Он сел возле землянки на плоский, еще не остывший камень и позвал котенка Мурзика. Тот прыгнул ему на колени. Димка стал гладить его и думать о том, почему котенок поет от прикосновения его руки. Линевы кончили вечерять.
– Есть хочешь? – спросила бабка Пелагея.
Димка глотнул слюну и замотал головой: «Не-а».
– Давай банку, – сказала тетя Зина, накрыла банку марлей. – Держи, – и налила из ведра теплого еще молока. – Хлеб будешь? – спросила она.
Мальчик молчал и отводил глаза от круглой хлебины.
– Бери, – протянула ему краюху Полькина мать. Затем она убрала грязную посуду со стола, смахнула крошки, веником подмела утоптанную землю под яблоней.
Хорошо было молоко! Хороша была краюха! Димка пальцем снял с ободка банки сливки и облизал палец. Заглянул в банку. Пусто.
– На рыбалку завтра с нами пойдешь? – спросил дядя Иван.
– Пойду.
– Ну, тогда иди спать. Завтра в пять часов пойдем за Куницынский брод, на отмель, сазана брать. Смотри, не проспи.
* * *
Назавтра, чуть свет все Линевы, даже бабка Пелагея – ей в обязанность было вменено носить по берегу одежду «рыбалок», и Димка двинулись гуртом вниз по реке на Куницынский брод. Несли с собой бредень (очко в два пальца), большие двенадцатилитровые ведра «цыбарки», батоги. Шли целый час. Потом еще битый час вспоминали, откуда лучше начинать гнать рыбу. Потом разделись и подкрепились пирожками с луком и яйцами. Дядя Иван и дед Николай опрокинули по маленькому стаканчику и закусили хрустящей редиской. Солнце уже поднялось на четверть неба и стало тепло. Дед и отец Линевы в майках, трусах и резиновых сапогах залезли в воду. Бабка Пелагея держала в охапке штаны и рубашки.
– Осторожно, ракушки! – заволновалась Зинаида.
– А-а! – отмахнулся дядя Иван.
– Хорошо! – просипел дед Николай, окунувшись по шею. Его большая лысая голова качалась в воде, как желтая тыква.
– Ладно, ладно, – поторопил его дядя Иван, – давай, разматывай бредень. Да вон там! Тьфу ты… Ослеп, что ли? Вот! Мы, значит, пойдем снизу вверх, а вы батожите сверху, где вон тот куст, и идите нам навстречу. Вон те корчаги особливо и яму под ними. Сазаны там. Ты, Зинаида, вон там батогом с воды туркай, а ты, Димитрий, с берега дубась об воду. Ты, Полина, ори, как сможешь. И, главное, погромче, погромче, чтоб чертям тошно стало.
Речушка вскипела и полезла из берегов, как уха из котелка, причем скудная уха. В бредень попала всякая мелюзга: красноперки, голавлики, окуньки, один щуренок, но никаких сазанов не было и в помине.
– Что за чертовщина! – бормотал дядя Иван после продолжительных поисков крупной рыбы. – Да куда ж она подевалась вся! Собрание, что ли, у них где? – он весь покрылся пупырышками, как огурец, и вылез на берег, лязгая зубами. Бредень валялся возле воды. Дед Николай давно уже загорал на песке, усыпанном ракушками, и с интересом наблюдал, как Иван бестолково хлюпает по воде взад-вперед.
– Ты вон там еще не смотрел, – подсказал он.
– Ты бы мне, батя, лучше в стакан плесканул, чем советовать!
– Дядь Вань! Побейте там воду! Гоните! Гоните! Сюда! Они здесь! Вниз их не пускайте!
Димка с берега на самом Куницынском броде, выше, чем они рыбачили, заметил на быстрине сазанов. Он прыгнул в воду, было мелко, ниже колена, а местами по щиколотку, – хватал сазанов и выбрасывал их на берег. Те яростно бились на песке, словно чувствовали уже под собой сковородку. Всех Линевых как ветром сдуло в воду. Дед Николай в спешке зацепился трусами за палку, поцарапался и разодрал трусы, но сгоряча даже не почувствовал этого и блестел белым задом. Рыбаки забили по воде руками, ногами, батогами, заорали, заухали. Димка выкинул на берег уже семь сазанов. Они были жирные, сильные и с локоть длины. Хоть картину с них пиши.
Бабка Пелагея обронила одежду своих мужчин, задрала юбку до горла и, в розовых панталонах, чулках на резинках и прямо в кожаных тапочках, отнюдь не со старческим, страстным воплем врезалась в воду рядом с Димкой, да так, что тот испуганно шарахнулся в сторону. Бабка соколицей плашмя низверглась на бедного сазана, приглянувшегося ей, подняв миллион брызг. Она подмяла под себя рыбешку, вцепилась ей в голову, подхватила за жабры и торжествующе вынесла на берег. Сазанчик даже не трепыхался – видно, хватил беднягу с перепугу кондрашка. Не для рыб бабий темперамент!
– Ай да бабка! Ай да Пелагея! Тряхнула стариной! – запричитали все. – Такого сазана! Ты посмотри. На полпуда потянет! И ты, Димка, молодцом! Не растерялся. Ай да Пелагея!
Бабка ходила гоголем и поглядывала на речку, как на свою кастрюлю. Дядя Иван собрал весь улов в две цыбарки, отбросил в сторону мелюзгу. Смотал бредень, выбрав из него веточки и шамару.
– Ну, будя. За это надо и пропустить. Зин, там еще малехо должно остаться. Давай с нами. И ты, мать! За тебя! Хороший улов. И на сковородку, и на щербицу хватит. Дим! А ты-то, может, возьмешь рыбки себе, а? Возьми. Глянь, сколько мелочи, выкидывать жаль. Пропадет. Мам, ты ершиков там выбрала? Парочка была, – Иван натягивал штаны, глядя на мальчика. Тот молчал. – Не хочешь. Ну, тогда в воду ее скинуть надо, пока не протухла.
– Это ишшо зачем? – заволновалась старуха. – Я сейчас сумку кожаную принесу. Утям да кошке. Ишь, чего удумал, в речку скинь! А утям? А кошке?
* * *
Вечером Димка за молоком не пошел. Что-то разлюбил он чужое парное молоко. Разлюбил на всю жизнь. И на Польке он не женится. А собирался! Когда через несколько дней к Косовым заглянула Зинаида, она спросила Димку:
– Чего молоко не ходишь пить?
Димка ответил:
– Я на водочку перешел.
Родная бабушка решила, что ослышалась.
ВОСПОМИНАНИЕ 11. Василий Федорович.
В 1959 году не стало Акулины Ивановны. После ее смерти в один год до неузнаваемости состарился Василий Федорович. Продал дом, раздал всю живность, и в день отъезда, стоя посреди пустого двора, почувствовал такую невыразимую тоску, что последние силы его оставили, и он присел на землю возле грядки с любимым турецким табаком и проплакал до вечера.
Перед заходом солнца из станицы приехала дочь Клавдия, погрузила в машину весь нехитрый скарб отца, нажитый им за долгую жизнь и теперь ему совершенно ненужный, самого усадила в кабину и повезла к себе на жительство.
На повороте дороги к станице Василий Федорович в последний раз увидел свой хутор в золотистом закате. Хутор вдруг оказался весь как на ладони и вспыхнул ярким светом, словно пытался осветить старику темную грядущую дорогу. Машина повернула, и хутор исчез для него навсегда.
Внук Петр, сын Клавдии, работал механиком в совхозе под Орлом и в свой отпуск забрал к себе и мать, и деда. Дом в станице был продан, и все пути на родину для Василия Федоровича были закрыты.
* * *
Новое место жительства его не обрадовало: серые бревенчатые дома, с крышами из щепы, глухой лес вместо садов, небо без звезд и не было слышно сверчков. А вода в реке была коричневой и мутной, сильно пахла тиной. На новом месте каждый был занят своим делом, а у Василия Федоровича своего дела не было. По привычке он еще брался плотничать, столярничать, но силы были уже не те… Он уходил на берег реки, садился там на поваленный ствол клена и часами глядел в темную толщу воды, курил трубку, набитую турецким табаком из последних запасов, кашлял и вспоминал свое детство и жизнь на хуторе. Он вспоминал рыбную ловлю, прозрачную воду реки, ее песчаное дно и зарывающихся в песок вьюнов, охоту и своих собак, жену Акулину Ивановну; и чем больше проходило времени с того дня, как он покинул родные места, тем чаще в мыслях он возвращался к ним, пока однажды наконец-то не понял, что его тайные надежды – когда-нибудь снова побывать на хуторе – тщетны и не сбудутся никогда. Это открытие окончательно подкосило здоровье, и он уже ничего не загадывал на будущее, как, впрочем, и перестал вспоминать о прошлом. Собственно, это два конца одной истлевшей веревочки.
Обычно Василий Федорович просыпался рано, но с того дня стал позже вставать и, лежа на кровати, без всяких мыслей смотрел в потолок. На белом потолке сидели мухи, бился длинноногий комар, да в углу притаился такой же длинноногий паук. И хотя в соседней комнате полдня был включен телевизор, старику не хотелось смотреть в мельтешение экрана. Уж очень глупо оно, с высоты его лет, выглядело. Спешить ему было некуда, и незаметно подкравшаяся слабость перешла в болезнь. Стало трудно дышать, из груди с кашлем вырывались мучительные хрипы, и когда болезнь стала причинять Василию Федоровичу страдания, он понял, что избавит его от них только приближающийся конец. И как только подумал он это, так и сделал первый шаг ему навстречу. А когда становилось легче, он вспоминал свое детство, но не конкретно, а как что-то расплывчатое, светлое и радостное, и ему казалось странным, что перед смертью мысли идут не в ногу с жизнью, а в обратную сторону.
* * *
Неожиданно вспомнил себя в трехлетнем возрасте. Увидел своего отца. Сколько в детстве было солнца и света в жизни! Будто сейчас, а не тогда, берет он из ступки пестик, просыпает на деревянный стол соль и говорит: «Сахар». Отец поправляет: «Соль». – «Сахар». Отец протягивает ложечку. Он берет ее в рот, багровеет и морщится. «Ну?» – смеется отец и сразу же уходит как бы в тень. «Сахар!»
«Что я хотел доказать отцу? – думал Василий Федорович. – Всю жизнь мы доказываем что-то друг другу и, уходя из нее, так и не понимаем, зачем мы это делали и кто же из нас был прав». Такие мысли – первые робкие шажки мудрости, и, увы, как правило, они оказываются последними, так как сил на то, чтобы мудро мыслить, уже не остается.
Однажды осенним утром, когда Василий Федорович от слабости не мог подняться с кровати, ему вдруг показалось, что за окном опадает яблоневый цвет и крупные лепестки летят в окно…
До его сознания так и не дошло, что выпал первый снег. Он чувствовал такую слабость, что не мог поднять голову и посмотреть в окно. И тут его мысли наткнулись на самое горькое воспоминание – о поступке, которого он не мог себе простить всю жизнь. Он вспоминал его несколько раз в разные годы, когда ему было плохо. Последний раз – в день, когда ушла Куля. Почему он его вспоминал и почему не мог простить себе?
Слабый бездомный старик присел отдохнуть на завалинку у их двора. Стоял жаркий полдень, а старик был одет по-зимнему: в телогрейке, шапке и валенках. Он с друзьями, босиком и в одних трусах, возвращался с реки. Увидев старика, он закричал: «Гля! Дед Мороз!» – и все громко захохотали. Старик хотел уйти, но никак не мог подняться с завалинки. Его негнущиеся черные пальцы беспомощно хватались за камни стенки. Тряслись ноги, дергалась голова, а слабые выцветшие глаза были наполнены слезами. И столько в них было тоски – и как, и чем измерить ее в чужой душе? А мы смеялись…
И от запоздалого раскаяния Василий Федорович почувствовал в душе просветление и с горечью подумал: «Посмеешься над чужой старостью, собственная старость посмеется над тобой».
Старик закрыл глаза, прислушиваясь к звукам в самом себе, и ему показалось, что он слышит шаги уходящего из него сердца. Он пытался схватить его, но свет стал гаснуть, мелькнуло лицо Гришеньки, сгоревшего в танке, и Василий Федорович подумал: «Вот он, конец света, о котором так часто говорила жена. У каждого он свой».







