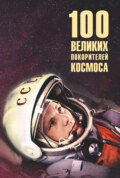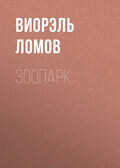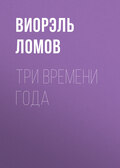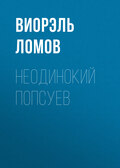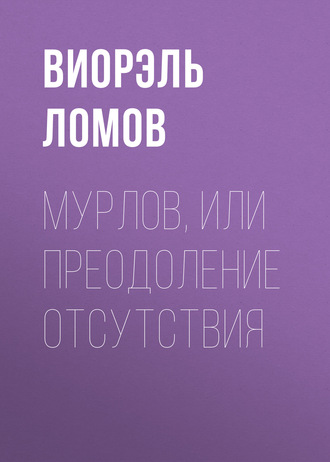
Виорэль Ломов
Мурлов, или Преодоление отсутствия
– А ноги?
– Ноги давай я побелю сам, – сказал Гришка. – Тут надо умеючи. Она хоть и старушка, да все равно ноги о-го-го! – он взял кисть, быстро и уверенно выбелил кобыле ноги.
– Может, хвост оставим черным – для красоты? Спереди нос черный, а сзади – хвост, – предложил Димка.
– Не надо красоты. Надо, чтобы она была похожа на обычную лошадь.
Под вечер из избы вышел, потягиваясь, дед Глазырин. Хотел напоить кобылу, но ее нигде не было. У двора дремала под грушей чужая белая лошадь. Старик подошел к ней, внимательно осмотрел ее плохо видящими глазами – и не признал.
Узнав о пропаже, бабка запричитала, подошла к Версте и тоже не признала ее. Кобыла приветливо махала им белой головой, но те оставили ей ведро с водой, отвернулись и ушли в избу.
Весь следующий день старики провели в безуспешных поисках пропавшей лошади. Осмотрели берег реки, заходили во все дворы, но никто не видал их Версты и не мог помочь им. Опечаленные старики сидели на завалинке, глядели на пасущуюся белую лошадь и горевали о своей Версте. Приблудной лошадке перепало с их стола, что послал им в этот день господь.
К вечеру ветер нагнал тучи, и ночью разразилась гроза с ливнем.
Утром Глазырины, еще не вставая с постели, загадали: если белая лошадь ушла, Верста непременно найдется. Глазырин растворил дверь и увидел напротив, в лучах восходящего солнца, как в ореоле, свою вороную кобылу.
Не веря глазам своим, он подошел к ней, обнял за шею и заплакал. Осматривая лошадь, он заметил в гриве куски белой глины. Дед потрогал их, и пальцы стали белыми. Он все понял, выругался незлобиво: «Проклятые!» – потом засмеялся и поспешил сообщить радостную весть своей старухе.
ВОСПОМИНАНИЕ 5. На реке.
Проснулся Димка поздно. Ставни были уже закрыты от солнца. О темное стекло билась муха. Два солнечных луча из щелей ставни пронизывали наискось комнату, и в них кружились пылинки. Пахло укропом и овчиной. В чулане было прохладнее и глухо, как в валенке.
Мальчик вышел на крыльцо и зажмурился от яркого света. Белый полдень слепил ему глаза и жег голову, макушка была горячей, как песок. Все вокруг замерло, только под ногами шевелилась и поскрипывала рассохшаяся половица.
Во дворе было пусто. Воздух, мерцая, волнистыми струйками поднимался к высокому небу. От ночного дождя не осталось и следа. Дождевая вода сбежала, оставив на земле желтую пену и грязный мусор. Илистая почва возле реки уже высохла и покрылась сеткой трещин. Привяла и поседела трава. Небо в зените было прозрачно-голубым, а к горизонту – светло-синим. Нестерпимый блеск реки и раскаленный песок наводили Димкины мысли на то, что небосвод под солнцем стал плавиться, как смола, и стекать в реку, а от самого солнца отвалился, как от раскаленной печи, кирпич. Он упал на землю и рассыпался на миллионы огненных золотых песчинок, которые жгли ему босые ноги.
На песке лежал Гришка.
– Пошли ловить рыбу, – предложил он.
– Жарко, – сказал Димка. – Я охолонусь.
Гришка ловил рыбу в тени вербы, а Димка, раз окунувшись, забрался на это же дерево, ствол которого лежал низко у поверхности воды, устроился поудобней в его развилке и, болтая ногами, стал смотреть на речку, на Гришку, на редких прохожих, измученных зноем.
В его воображении игра световых бликов на поверхности воды постепенно стала восприниматься как калейдоскоп голубых, зеленых и желтых огней, развевающихся на ветру знамен, под которыми яростно сшибались древние воины. Рябило в глазах от несметного множества кольчуг, сверкали щиты и латы, мечи и кинжалы, развевались зеленые конские гривы.
У Димки заблестели глаза, лихорадочно летело в неведомые дали его воображение. Ему хотелось соскочить с дерева и ворваться в самую гущу сечи. От неосторожного движения он свалился на сидевшего внизу Гришку, и оба полетели в воду.
* * *
– О чем беседа? – спросил проснувшийся Борода.
– Да так, ни о чем, – ответил Рассказчик. – Я все больше прихожу к выводу, что все окружающее нас – и вот этот потолок, и твои ноги, Борода, и мой бурчащий желудок, и линии судьбы на твоих ладонях, Рыцарь (у тебя совсем разные руки, будто тебе предназначены две судьбы), – все дает нам ежесекундно какой-то сигнал, знак, но мы его не понимаем. Не видим. Как слепые котята. Обидно.
В кладовке мы провели два дня, делая радиальные вылазки в поисках еды, но все безуспешно. За два дня у нас маковой росинки во рту не было, и круто соленый селедочный хвост вспоминался все с большей нежностью, и все сильнее росло убеждение, что Хаврошечка в своей критике сферы общепита был не прав. Отправившись с Рассказчиком в очередной поход, мы захватили, как обычно, банку для воды и металлический прут, на всякий случай. Забыл я правило: все, что берется на всякий случай, этот случай и порождает на всякий случай.
На этот раз мы забрели дальше, чем обычно. В коридоре была мертвая тишина, тишина тупика. Так оно и оказалось – дальше идти было некуда.
– Смотри, крыса, – шепнул Рассказчик. – Еще одна. Еще! Черт! Сколько их!
Я схватил Рассказчика и взвалил его себе на спину.
Крысы окружили меня и прыгали, стараясь вцепиться в ноги Рассказчику. Мой железный пирожок с мясной начинкой их, похоже, не интересовал по причине бесперспективности, что говорило об их очень высоком интеллекте: даже люди, облачившись в рыцарские доспехи, бестолково проводили время в изнурительных побоищах, не нанося никакого урона друг другу.
Я лупил прутом вокруг себя без разбору. Прут то лязгал по полу, то попадал в мягкое податливое тело крысы, наполненное интеллектом и душераздирающим визгом. Крысы без особой охоты ушли, бросив убитых и недобитых на мой произвол, то и дело оглядываясь на нас и останавливаясь. Когда в темноте окончательно погасли огоньки их глаз, Рассказчик сполз с меня.
– Да-а… Спасибо тебе, славная крепость Измаил. Наколотил ты их, однако… Щелкунчик.
Мы подобрали несколько крыс за хвосты и вернулись к своим спутникам. Женщина что-то рассказывала ребенку. Борода сидел и молчал, как сыч.
– Борода, кинь спички. Дроф настреляли.
– А почему они с хвостами? – спросила Сестра.
– Ты, прямо, как Красная Шапочка: почему да почему? – сказал Рассказчик. – Ты видела птиц без хвоста? Без хвоста далеко не улетишь.
– Это чтоб от охотников след заметать, – сказал Борода.
– А перья где?
– Да облетели.
– Свежевать будем или так… с перьями? – спросил Рассказчик.
– Если можешь, освежуй, освежувай, освежувовывай.
Рассказчик отошел в угол, «чтобы не летела чешуя», и застыл в раздумье. Борода подошел к нему:
– Дай-ка я. Мне сподручнее. Не отягощен чрезмерным воображением. А ты пока нащепи лучинок и разожги костерок.
«Дроф» подвесили на проволоке и поджарили. Рассказчик кашеварил. Кушанье готовилось с треском и паленой вонью. Когда жаркое было готово, он пригласил всех к столу.
– Вот вам вилочки, – он протянул заостренные палочки, похожие на зубочистки, – а ножик один, – он первый поддел «дрофу» и, закрыв глаза, откусил. – Хм, вкусно… Крылышко, наверное. Божественно! Парижане в семьдесят первом ели. Если не глядеть, не нюхать и не жевать – как в столовке – очень даже ничего. Я, пожалуй, даже добавки попрошу. Я в детстве добавку подавкой называл. Хороша подавка!
Борода и я, ободренные примером Рассказчика, не потерявшего говорливость после снятия пробы, тоже приступили к трапезе. Сестра так и не притронулась к еде, а мальчику предложить «дроф» мы не решились.
– Ему рано, пусть подрастет, – сказал Рассказчик. – Это пища мужчин. На его век хватит.
– Ну, что ж, господа, пора возвращаться к нашим баранам, – сказал я.
– Лучше бы к их няням, – крякнул Рассказчик.
Борода недоуменно посмотрел на нас.
– У него литературные ассоциации и реминисценции, – пояснил я Бороде. – Это профессионально: истоки поэзии искать в Арине Родионовне.
– Вы этих… дроф возьмите с собой, пригодятся еще, – сказала Сестра, указывая на остатки пиршества.
Мы вернулись к нашим баранам. Терпение – их вечный удел.
Очередь не менялась во времени, как Дориан Грей. Было заметно, что Рассказчика преследует эта литературная мысль. Мне же другое пришло на ум. Пожалуй, лучшей организации и большего порядка, чем очередь, не знали даже римские легионы. Понадобилось два тысячелетия, чтобы достичь в управлении человеческой стихией такого совершенства. Вертикальная и горизонтальная иерархия, ячеистая структура, где каждой i-й ячейке соответствует j-й член, и никакой другой… Именно очередь сближает нас с такими гениальными архитекторами, как пчелы и муравьи. И именно она, и только одна она доказывает, что разум присущ в равной мере этим насекомым и человеку. Только они – от него идут, а мы – к нему приходим. Если успеваем.
А у наших была новость: сыграли свадьбу Боба с его новой знакомой – у нее сразу же прошел вывих ноги, а рот стал еще чувственней. Со свадебного стола и нам достались крохи – молодая жена протянула мне черствый кусочек (у нее в сумке, за подкладкой, завалялись с мирных времен три ванильных сухаря, они еще источали, хотя и слабо, приятный запах ванили). Я отдал этот кусочек Сестре. Она отщипывала невидимые крошки и бережно клала их ребенку в рот. А Бобу мы подарили в качестве свадебного подарка жареную птицу, которую он принял с ревом восторга.
– Друзья! Выпивка за мной!
– Чего там! – махнул рукой Рассказчик. – Не к спеху. А вот тебе не мешает подкрепиться.
* * *
А жизнь, как говорят журналисты, не стояла на месте. Жизнь – не цапля. И бурлило не только в животах, бурлило в умах, бурлило в людских сердцах. Во время двухдневной стоянки, пока мы отсутствовали, начался грибной сезон: образовалось сначала две, потом еще две, потом сразу пять партий, каждая со своим уставом, программой, сторонниками и лидерами.
Лидеров, как всегда, отличало страстное желание: во имя счастья ближнего идти вместе с ближними своим особым путем, до далекого общего конца, а по пути метать обещания, как икру. Сторонников отличала непоколебимая ничем вера в исполнение этих обещаний и удивительное отсутствие мозгов. Что касается программы, привлекательность ее зависела от трех составных частей: литературных способностей авторов, умения абстрагироваться от окружающей жизни и научной глубины освоения священных писаний. Устав же подбирали, как одежду, по фигуре и вкусам. О вкусах не спорят: одни любят ходить, как шотландцы, в юбках, а другие – без штанов. Разумеется, у каждой партии была своя касса, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся все-таки кассой общей.
Регистрация партий проводилась в порядке живой очереди, на красном ящике с надписью «ПК», выдранном из стены. Регистрировал их круглый мужчина с прической под горшок, как у Емельяна Пугачева в учебнике истории. Он сидел на свернутом пожарном шланге, подтачивал мелок и аккуратно и торжественно выводил маленькие буковки на щите из оргалита, как на скрижалях истории. И хотя щит ничем не был похож на щит Ахиллеса, а в секретаре всех партий самой воинствующей частью была упомянутая челка a’la Пугачев, все-таки приходили на ум строчки Пушкина о народном бунте.
За три дня зарегистрировалось 22 партии и одна подпартия (что это было такое, не знали, как водится, и сами учредители). Тут же решили провести Первый объединенный Учредительный съезд всех партий. И тут же стали его проводить. Понятно, образовался бедлам, понятие сугубо русское, как бы ни оспаривали это англичане. Он продолжался до тех пор, пока кто-то не рявкнул: «Кончай соплежуйство!» Соплежуйство прекратилось. Началось соплепийство.
– Ты смотри, а ведь ни одной женщины нет среди всех этих бесноватых, – сказал Рассказчик.
– Как нет? – возразил Боб. – А вон, ничего даже…
– Которую за волосы по земле таскают?
Я напомнил Рассказчику, что все женщины сейчас находятся либо в султанском гареме, либо на раздаче в столовке, либо на экскурсии по Эрмитажу.
Весь этот, и впрямь, бедлам вряд ли скоро бы кончился, если бы всех не переорал заскучавший Боб Нелепо. Наверное, у всех его предков были могучие голоса.
– Друзья! – гаркнул он, пригладив разом все шумы и выкрики. – Други! У нас с вами все впереди! Исключая, разве, уважаемых представителей секс-меньшинств. Раз так – вперед к победам! А тыл нам прикроют голубые!
И, ввернув несколько крепких слов и смачных выражений, Боб заразительно захохотал. Захохотал вслед за ним и съезд. Обстановка разрядилась настолько, что первое заседание учредительного съезда 22 партий и одной подпартии пошло, вопреки стараниям лже-Пугачева, к черту.
– Жаль, протокол не вели, – сказал Рассказчик. – Внукам было бы интересно почитать. Взять бы…
– Взять бы сейчас все партийные кассы да набрать в кабаке жратвы с выпивкой – ох и съезд получился бы! – крякнул Боб на голодный желудок. – А то голова, как фанера, никаких фантазий. Все фантазии в животе бурчат. Всю жизнь не мог понять этих орущих олухов – о чем кричат, к чему призывают, куда ведут?
– Слепые поводыри… – начал откуда-то взявшийся священнослужитель в черной хламиде.
– Совершенно верно, батюшка! – поспешил согласиться с ним Боб. – Слепые, как Гомер. Олухи царя небесного, – он ткнул пальцем вверх, потом, присмотревшись к бороде духовника, вытащил из нее какую-то веревку. – Ведь они ничего не знают, ничего не умеют, ничего не видят, ничего не слышат, ничего не чувствуют – у них нет ни одного органа, через который можно было бы с ними общаться (надо сказать об этом сексуальным меньшевикам). И вообще они – ни взад, ни вперед… – Боб помрачнел. – Все эти лидеры, все эти орущие матероидеалисты, давно перековавшие плуги и мечи на «орало», с пустым желудком и жидким задом, – зачем они рвутся осчастливить меня, мою бессмертную душу? Да чтоб им лопнуть от потуг!
– Боб, ты не прав, – предупредил Рассказчик. – Лопнув, они все для тебя и устроят. Не рад будешь…
– А что мне, шею им подставлять? Слуга покорный!
«Слуга покорный. Покорный слуга. От перемены мест слагаемых – результат один», – подумал я.
Глава 10. Рассказчик продолжает
ВОСПОМИНАНИЕ 6. Прут, Дюк и другие.
– У Василия Федоровича было три собаки. Старшая – охотник, средняя – вор, а младшая – так себе, Иванушка-дурачок, – начал Рассказчик очередной свой рассказ. – Ты знаешь, как только начинаются политические беседы, меня начинает колотить, будто током. Это ж сколько энергии люди тратят зря! Слушай, откуда они ее берут? Наверное, друг у друга. Вампиры. Ладно, слушай.
* * *
У Василия Федоровича было три собаки: охотничья легавая Ада, уже преклонных лет, и ее сыновья – Прут и Дюк, погодки. Жил еще на дворе годовалый волк, бурый и сумрачный. Никогда не знаешь, что у него на уме. Как у политика. Встанет где-нибудь в проходе и стоит. Молчит и глядит, будто надумал что-то, а сказать не может, или раздумывает, стоит ли говорить – еще не поймут. И с места его не стронешь. Подолгу мог стоять не шевелясь, и все его опасливо обходили. Собаки волка побаивались, даже Ада торопливо лезла под стол или кровать, когда он появлялся в избе. Если же они встречались во дворе, Ада, ворча и взъерошившись, недовольно сворачивала в сторону, а Прут и Дюк жались друг к другу и отбегали подальше. За угрюмый характер и немоту дед прозвал волка Герасимом, но чаще всего его называли просто – Он. Волк же был настроен ко всем дружелюбно, он даже любил играть с детьми, покататься по полу, рыча и скаля зубы. Димка выворачивал овчинный тулуп мехом наверх, имитируя овцу, ползал на четвереньках и блеял, а волк бросался на него и отскакивал прочь, описывая круги и теребя зубами овчину, и всегда норовил уцепиться в загривок и потрепать.
– Додразнишься, – смеялась бабушка, – возьмет и съест тебя.
А дедушка добавлял:
– Волка ноги кормят, свои и чужие, особенно когда они бараньи.
Любил же Он, видимо, только Акулину Ивановну и кошку Белку. Хозяйка прикармливала его хорошим куском и одна не боялась погладить по спине и голове, а Белка любила потереться о его ноги, подняв хвост и мурлыча. Волк вырос на кошкиных глазах, и когда он еще был толстым и неуклюжим волчонком, они вместе ели из одной миски, после чего Белка вылизывала ему всю морду и особенно тщательно глаза.
– Что делается! Что делается! – восклицала Акулина Ивановна.
Дед махал рукой:
– Нынче весь мир набекрень!
Волчонка Василию Федоровичу подарил друг охотник совсем крохотным щенком, и первое время дед сам возился с ним.
Новый тревожный запах волка не давал Аде покоя, и она все реже и реже стала заходить в избу, пока волчонок подрастал. Окрепнув, он бегал во дворе и по улице, никого не трогал и не пугал. Прохожие принимали его за помесь овчарки с дворняжкой. Но, видимо, правда, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Через год Герасим пропал, убежал, вероятно, искать сородичей. Настала зима, под окнами пурга намела сугробы, и утром, очищая снег с крыльца, Василий Федорович замечал под окнами волчьи следы и вспоминал Герасима: может быть, это он, проголодавшийся и замерзший, прибегал домой, заглядывал в окна и ждал, что его впустят, а мы не знали и не впустили… Ах ты молчун, молчун, Герасим. Дал бы хоть какой-то сигнал. Лапой поцарапал, хвостом постучал в дверь. Завыл бы, что ли. И собаки хороши – волка не учуяли. Потому, наверное, и не учуяли, что это точно Он был. Ушел, бедняга, с обидой на нас. Хоть и зверь, а добро понимает. И Василию Федоровичу становилось так грустно, так жалко волка, словно это существо было ему родное и близкое. Дед даже встряхнул головой от таких крамольных мыслей, но нет, и впрямь, трудно было назвать кого-нибудь из людей, чтобы так проник в душу.
Не стало волка, и вроде бы просторней в избе было, а в душе комок застрял, чего-то не хватало, появилась какая-то ненужная пустота. Видела и Акулина Ивановна, как к дому тянулись волчьи ночные следы, делали круги под окном и пропадали в глубине сада. Вечером она жаловалась деду: «Вся худоба зимой к человеку тянется, к теплу, а Он – от него бежит. где-то Он сейчас?»
Как-то весной люди услышали выстрелы по направлению к ветлечебнице. Говорят, ветеринары застрелили волка – гонялся за курами. Возможно, это был Герасим…
* * *
Ада была породистой собакой с хорошей родословной, тянущейся чуть ли не с прошлого века. Знакомый охотник предлагал за нее охотничье немецкое ружье, но дед не сменялся. И не экстерьером, не родословной, не красивым шоколадным окрасом брала за душу Ада, а тонким собачьим умом. Одно было в ней не так, как хотелось бы: не ведала она сословных предрассудков, следствием чего, к огорчению Василия Федоровича, на свет появился сначала Прут, а затем и Дюк. Остальных щенков разбирали знакомые.
Ада отличалась выносливостью, резвостью, терпением в стойке, была послушна и ласкова со всеми, любила детей и не боялась взрослых. Однажды на пристани ее приласкали матросы самоходной баржи и увезли в Ростов. Вернуть собаку помогла охрана при шлюзовании баржи.
Ада обычно спала на овчине, но когда все засыпали, наступала темнота, она бесшумно перебиралась на кровать Димки, медленно заползала, ложилась, вытянувшись, рядом с ним, если он уже лежал, голову клала на подушку и умудрялась как-то скрыться под одеялом. Ей не разрешались эти проделки, бабка даже стегала ее веревкой. Акулина Ивановна рано вставала доить корову, и Аде позоревать в теплой постели не удавалось. Собака зорко следила прищуренным глазом за движениями бабки, и если та поворачивалась в ее сторону или просто брала в руки веревку, пулей вылетала из кровати…
* * *
Прут унаследовал от матери только ум и породную осанку, а отец передал ему пеструю масть дворняжки и длинную волнистую шерсть, что роковым образом сказалось на судьбе собаки. Имея сильную тягу к охоте, влечение к поиску, он из-за своей внешности не внушал доверия. Его не стали обучать охотничьему ремеслу, а когда он самовольно дважды появлялся в поле и запугивал дичь, его прогнали с охоты и отругали. Ему не хватало терпения, как Аде, замирать, сигналить хвостом и ухом, поджимая переднюю лапу, и только по знаку хозяина прыгать в кусты или бурьян и поднимать выводок куропаток. Он, где чуял дичь, туда и валил напролом.
Прут стал угрюм и замкнулся в своем горе. Он как-то сразу постарел и не проявлял больше интереса к охоте. Стал промышлять в одиночку, работал темной ночью и не разменивался по мелочам. Все, что плохо лежало из съестного, Прут тащил домой. Добычу он не ел, не прятал впрок, а клал у порога, ложился рядом и ждал до утра, когда Акулина Ивановна выйдет доить корову. При ее появлении он вскакивал, кидался с визгом к ней, преданно заглядывал в глаза, бил хвостом о крылечко, мотал головой и фыркал, словно указывая на свой подарок. Это были связки тарани, головка сахару, куски масла, колбаса, сыр, сушки и прочая снедь. И не заваленое в пыли и песке, а чистое, словно нес он ее в упаковке из магазина. Промышлял он на рынке, куда на ночь съезжались на подводах крестьяне. Умудрялся стащить и с прилавка, и с чужого двора. Его ругали, даже не раз наказывали, сажали на цепь, но он был неисправим и продолжал «свою охоту», словно в отместку за то, что его отстранили от настоящей. Может быть, он хотел убедить этим людей, на что способен, чтобы они поняли это и взяли с собой на охоту. Все, что он приносил, ему отдавали назад, он где-то зарывал и, по всей вероятности, никогда этим не пользовался.
Однажды Акулина Ивановна увидела у порога сладкий пирог. Прут был особенно весел, скалил зубы и будто сам радовался такой добыче. Он долго прыгал вокруг нее, дергал за юбку, лизал ноги, словно умолял взять пирог. Акулина Ивановна на этот раз оробела всерьез – это не с рынка, это уже прямо из дома, сраму не оберешься, и прибьют собаку, наверняка прибьют.
А в полдень пришла ее знакомая, пригласила их с Василием Федоровичем на вечер отметить день рождения. К слову, она поведала о поразившем ее случае, даже испугавшим ее своей непонятностью. Вынула она из печи пироги и вынесла на веранду остывать, а сама вернулась на кухню. Минут через 15–20 пришла за пирогами, а сладкого нет. Никто не приходил, не шел мимо, а пирог – как корова языком слизнула. Корова и впрямь где-то мычала, но издалека. Акулина Ивановна замерла: «Вот она, кара божья! Срам-то, срам какой». От страха и стыда она не выдала Прута, не сказала, что тот уже отведал именинного пирога. Хорошо, что в деревне еще никто об этом не догадывался.
* * *
Отцом Дюка был соседский линевский Бирон, огромный кобелюга, черный, как уголь, в работе почти не уступавший Аде. Сам он был полукровка, как и Прут. Непостижимо, откуда в такой толстой псине было такое тонкое чутье.
Дюк был породист, красив, но совершенная бестолочь, как потом оказалось. Он обладал детской непосредственностью, всему радовался, всех радостно встречал и провожал, прыгал на грудь, лизал в губы, и если во двор входил с кем-нибудь дед, он лаял не на чужого, а на деда – восторженно и громко.
Василий Федорович, помня о промашке с Прутом, стал обучать золотисто-шоколадного Дюка тонкостям охоты на птицу. Но Дюку, сколько ни внушали, что главное в охоте это терпение и молчание, было все невдомек, и когда он чуял дичь, не делал стойку, как Ада, а начинал лаять с таким восторгом, будто к нему собрались в гости собаки со всего света, и радостно смотрел при этом на Аду и на деда. Дед только плевался с досады. Дюк же не чувствовал за собой ни малейшей вины даже тогда, когда вся охота по его милости шла к черту. От охоты его отстранили, но это ему было только на руку. Он окунулся в земные радости: сон, лень и еду.
Сутками напролет он спал на земляной крыше погреба, а в часы бодрствования лопал все, что находил на земле, в горшках, что перепадало с хозяйского стола и от прутовых приношений. Дюк, наевшись, ложился набок и любил, когда его щелкали по туго набитому, как барабан, животу. Пузо звенело, а Дюк жмурился и лениво-лениво возил хвостом по земле. И по всему его облику было видно, что милее человека у этой собаки сейчас никого нет.
Собак кормили прежде, чем сами садились за стол, чтобы они не вертелись у ног, не ставили свои лапы на колени, не роняли слюни и не лезли мордами в тарелки. По словам Акулины Ивановны, у собак была «не жизнь, а разлюли-малина».
Обычно стол накрывали у порога, на открытом воздухе, а в жаркие часы – на веранде. Однажды, когда в гости пришли Линевы и, наевшись арбузов, все стали шумно вздыхать и сетовать на тесную одежду, Дюк, по своему обыкновению, насытившись до отвала, лежал вверх атласным брюхом. Одно ухо у него лежало на земле, а второе прикрывало правый глаз, левый глаз хитро блестел в прищуре. Пес тоже вздыхал и слабо повизгивал. После еды он любил подремать и погреться на солнышке. Когда солнце стало припекать, он лениво поворочался, намереваясь встать и перейти в тень, но так и не смог подняться и остался на прежнем месте. От этих движений в его животе что-то заурчало, зашипело, и неожиданно для Дюка, из него, словно выстрел, вылетел звук, напоминавший шум выбитой из бутылки пробки. Мгновенно вскочив, он юлой завертелся на месте и стал яростно лаять себе под хвост, стараясь схватить этот хвост зубами, считая его виновником своего испуга. Сидевшие за столом громко и долго хохотали. Когда Дюк наконец-то успокоился и принял привычную для него позу, Василий Федорович щелкнул его по пузу и спросил, укоризненно глядя на всех:
– А как вы поступили бы на моем месте?
Все опять весело рассмеялись.
ВОСПОМИНАНИЕ 7. Собачья верность.
Однажды, еще не стало смеркаться и оранжево-красное солнце только наполовину ушло за горизонт, а на небо уже выкатила полная луна, – прибежала маленькая и круглая, как луна, Дуська Соснина и, перевалившись через изгородь, прокричала, что проклятый Дюк, должно быть, совсем взбесился, на выгоне напал на ее бычка Трофимку, и тот загудел в яр, свихнул себе ногу. Хорошо, что пацаны видели, а то так и сдох бы в яру. На себе приперла его до дому – делай теперь, к чертовой матери, уход за ним, будто других забот у нее нет. Еще, слава тебе господи, ее не покусал, проклятый. Так что пса своего держите хоть под иконами, а появится еще раз на хуторе – в Совет сообщу и уполномоченного приведу, чтобы произвел законный отстрел.
Выпалив эту угрозу, Дуська еще минут десять кричала разные громкие слова, которые били по голове Акулины Ивановны, как разрывные пули. После ее ухода у Акулины Ивановны еще с полчаса звенело в голове, и она приняла таблетку от поднявшегося кровяного давления.
«Недаром говорят, бодливой корове бог рог не дает, – подумала она. – Одним языком Дуська протаранить душу может, а если ей еще и рога?»
Но с Дюком действительно было что-то неладное. Акулина Ивановна еще вчера заметила, что Дюка совсем не было слышно, он где-то пропадал, прятался, а если появлялся, ходил медленно, с опущенной головой, не поднимая глаз, и не притрагивался к еде. Можно было, конечно, свести его к ветеринарам, но тех, как нарочно, вызвали в другой район – там объявили вроде как карантин по ящуру.
Когда Василий Федорович пришел с работы, она сказала ему:
– Дюк все-таки взбесился. На соснихинского бычка напал. Тот в яр свалился, ногу вывихнул. Дуська прибегала.
– А может, он первый Дюка боднул? – спросил Василий Федорович.
– Это соснихин-то бычок?
– Ладно. Пойду погляжу… А ты дома сиди! – прикрикнул дед на Димку.
Дюк лежал на погребе, забившись в самый угол под навес крыши. Взгляд у него был вялый, а из уголка рта свисала ниточка слюны. Дед поставил рядом с ним миску с едой, но Дюк к ней не притронулся. «Да, брат, плохи твои дела».
Василий Федорович зашел в дом, снял со стены двустволку. Заглянул в оба дула, проверил курки, ожесточенно щелкнул затвором. Опять повесил ружье и сел на сундук. Закурил. Потер рукой грудь – что-то неладное было в ней.
– Ну, что? – спросила Акулина Ивановна.
Дед ничего не ответил. Акулина Ивановна прижимала руки к груди, а на глаза ее навернулись слезы.
– Волка, что возле бахчи застрелили, точно признали бешеным, – сказал Василий Федорович.
– Господи!
– Ладно! – дед сорвал ружье, вытащил из-под лавки саперную лопатку и вышел, хлопнув дверью.
Димка кинулся к Акулине Ивановне.
– Бабушка! Он застрелит Дюка! Не разрешай ему стрелять в него! Не разрешай! Не надо! Я не хочу! Он же такой хороший! Он лучше всех вас! Ну за что, за что, бабушка?
Он хотел выскочить из избы вслед за дедом, но Акулина Ивановна не выпускала его. У нее катились слезы по щекам и тряслись руки, и она не знала, как объяснить внуку, что нельзя бешеных собак оставлять в живых, что это опасно для всех. Как объяснить внуку, что бешеную собаку надо убить, как объяснить это ему, если он знает, что никто не имеет права никого убивать.
Потом уже, лет через тридцать, Мурлова вдруг пронзила ясная и спокойная мысль, что и бабушка и дедушка всего за несколько лет до этого пережили и смерть близких, и страх оккупации, и взрывы бомб, и убийства, совершаемые ежечасно на их глазах, и вот когда им самим пришлось решать судьбу собаки, жить ей или не жить, они оказались в состоянии шока, не меньшего, чем в дни войны.
– Дюк, ко мне!
Только что перекопанная грядка пахла вареной кукурузой. Был ослепительно-яркий, до черноты в глазах, полдень июля. Пик жизни.
– Дюк, ко мне!
Дюк встал только после третьего призыва.
Дед быстро шагал за хутор к каменному яру. Миновав балку с ручьем, пошел в гору. Под ногами с шорохом осыпалась каменная россыпь. Прыскали во все стороны кузнечики. Большой плоский камень, набирая скорость, поскакал по склону, мимо плетущегося Дюка, мимо куста шиповника, прыгнул последний раз и исчез в бурьяне. Бурьян вздрогнул, качнулся, выпрямился и застыл.
– Ну, Дюк, пришли. Становись, – и дед вздрогнул от мысли: «Палач… Каково же человека расстреливать?..»
На возвышении дул сухой жаркий ветер, но деду было холодно. Внизу в золотом мареве лежал хутор, такой прекрасный и тихий. Щемяще пел невидимый жаворонок. И солнце гнало из прищура слезу.
Дюк встал грудью вперед и глядел на деда исподлобья. Казалось, он все понимал. Голова его бессильно болталась между растопыренных лап. Он тяжело дышал. Искрилась, как паутина, слюна, сбегающая из уголка рта.
Может, все-таки не бешеный? Болеет?.. Но дед видел на своем веку много, в том числе и бешеных собак. Он воткнул в каменистую почву лопатку, медленно снял ружье. Приклад блеснул на солнце, и дед зажмурился. Он привычно вскинул ружье, собираясь выстрелить, не прицеливаясь, как он бивал «влет» птиц, но тут откуда-то сбоку метнулась темная тень, и дед чудом не спустил курок. Может, оттого, что палец был ватный.
Как из-под земли появился Прут и заслонил собою Дюка. Он часто дышал, язык его висел, и пес то и дело заглатывал слюну.
– Прут! Фу-ты… Пошел!
Но Прут, прижав уши и хвост, не уходил.