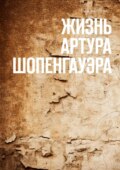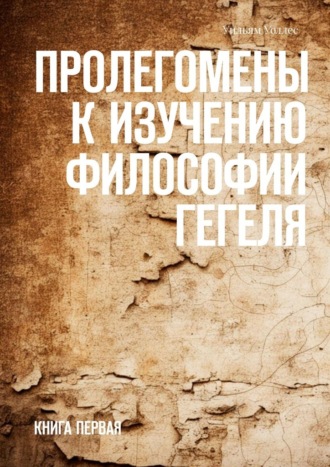
Уильям Уоллес
Пролегомены к изучению философии Гегеля. Книга первая
ГЛАВА VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛОСОФИИ
Но с внешней дифференциацией внутренняя шла рука об руку. В одних случаях преобладали интеллектуальные или научные, в других – эмоциональные, в третьих – активные способности. Человеческая природа, чтобы достичь всей своей полноты, должна была прежде всего как бы потерять свою жизнь, чтобы обрести ее. Индивидуум должен был пожертвовать частью своего всестороннего развития, чтобы снова обрести его, и в большей мере, через посредство общества. Этот процесс и есть процесс цивилизации: долгий и, как часто кажется, утомительный путь, по которому человек может реализовать себя только путем самопожертвования: может достичь единства только путем разнообразия и должен умереть, чтобы жить. Это процесс, в котором слишком легко заметить только одну стадию и говорить о ней как о целом. Иногда можно отождествить цивилизацию с материальным увеличением средств производства наслаждений или с прогрессом научного учения о законах тех материальных явлений, от которых во многом зависит материальная цивилизация. Иногда в качестве пробы можно взять запасы художественных произведений и проявление живой и нежной любви ко всему прекрасному и вкусному. Его можно отождествить с высоконравственной жизнью и упорядоченной социальной системой. Или можно утверждать, что настоящая цивилизация страны предполагает высокое понятие и благоговейное отношение к высшему источнику всего доброго, истинного и прекрасного.
Вопрос важен, поскольку касается отношения философии к специальным наукам. Философию иногда отождествляют с суммой наук, иногда с их полным объединением. Философия, говорит современник, есть знание совершенно единое. Конечно, в некоторой степени вопрос слов, в каком смысле следует определять термин. И никто не будет оспаривать, что научный элемент по форме является наиболее заметным аспектом философии. Тем не менее, если мы посмотрим на историческое использование этого термина, напрашиваются одно или два соображения. Философия, сказал древний, – это познание вещей человеческих и божественных. Снова и снова оно заявляло о своей задаче быть руководством и картой человеческой жизни – раскрывать формы добра и красоты. Но для этого оно должно быть чем-то большим, чем просто наука или просто система наук. Опять же, современные критики утверждают, что Кант наконец открыл для философии ее истинную сферу – изучение условий и принципов человеческого познания. Но хотя эпистемология имеет первостепенное значение, наука о познании не тождественна философии: да и сам Кант так не считал. Скорее, его взгляд в целом соответствует тому, что он назвал «мировой (в отличие от учёной) концепцией философии»35, как наука о связи всех достижимых истин с сущностными целями человеческого разума – teleologia humanaerationis – в соответствии с мировым представлением о философе как не просто логике, а как законодателе человеческого разума. причина.
Едва ли нужно добавлять, что это концепция философии, которая имплицитно лежит в основе использования Гегеля. Послушаем Шеллинга. «Философия, которая по своему принципу еще не является религией, не является истинной философией36.»
Или еще раз о месте Этики: «Нравственность – это богоподобный характер, возвышение над влиянием конкретного в царство совершенно универсального. Философия есть подобное возвышение, и поэтому она тесно связана с моралью не через подчинение, а через существенное и внутреннее сходство.37» Но опять-таки не раз чувствовалось, что философия родственна Искусству. Было сказано – не в качестве комплимента, – что философия – это всего лишь форма удовлетворения эстетических инстинктов. Шопенгауэр предположил (в качестве новинки), что истинный путь к философии лежит не через науку, а через искусство. А Шеллинг до него, утверждая внутреннее тождество обоих, зашел даже так далеко, что38 «Искусство – единственный, истинный и вечный органон, а также мнимое свидетельство философии».
Философия, таким образом, представляет собой одну из триады, в которой человеческий дух пытался подняться над своими ограничениями и стать богоподобным. А философия – это кульминация; Искусство самое низкое; Религия в середине. Но это не значит, что Религия превосходит Искусство, а Философия превосходит религию; или, если мы сохраним термин «заменить», мы должны добавить, что замененное не остается позади и не отходит в сторону: оно скорее является неотъемлемой составной частью того, что занимает его место. Философия истинна и адекватна только тогда, когда она дает выражение всему, что имела или к чему стремилась религия. Точно так же Религия не является разрушением Искусства: хотя здесь отношение часто может показаться более явно негативным. Религия, в которой нет места искусству, опять-таки не является истинной религией. И таким образом снова Философия становится примирителем Искусства и Религии: видимого идеала и невидимого Бога. Искусство же – это предвкушение и пророчество религии и философии.
Но Искусство, Религия и Философия, опять же, опираются на этическое общество, вырастают из него и являются его воплощением – состоянием человеческой жизни, в котором упорядоченное содружество, внешне видимое, оживляется и поддерживается духом свободы и самосознания. реализация. И что общественное объективное существование социального человечества, в свою очередь, опирается на волю и интеллект людей, душ, которые в различных отношениях дисциплины и взаимодействия с окружающей средой стали свободными агентами и стали чем-то большим, чем просто частью физический мир, сочувствуя его изменениям, и осознавая себя и свое окружение. Такова умственная или духовная жизнь, когда она достигает полного осознания своей силы, признает свое родство с общей жизнью, осуществляет это родство в своей социальной организации и, наконец, благодаря силе, которую дает социальный союз, смело плавает в эмпиреях духовной жизни. жизни, в искусстве, религии и философии.
А как насчет особого отношения философии к наукам? Несомненно, философы первых лет века использовали барский язык по отношению к наукам. Они утверждали – начиная с Фихте и ниже – что философское построение вселенной должно оправдывать себя перед самой собой, должно быть последовательным, непрерывным и связным – и что ему не нужно ждать опыта, чтобы дать ему подтверждение. Даже осторожный Кант 39зашел так далеко, что заявил, что «разум дает нам природу» – т. е., как он объясняет, natura formaliter spectata, то есть порядок и регулярность в явлениях, – что оно является источником законов природы и своего формального единства. Так называемые доказательства естественных законов являются лишь примерами и примеров, которые доказывают их не больше, чем мы доказываем, что 6 х 4 = 24, потому что 6 ярдов ткани по 4 шиллинга, должно быть оплачено 24 шиллинга. Утверждать, что этот пример не является доказательством, не значит отвергать опыт и тем более отказываться от уважения к новым открытиям науки. Но несомненно утверждать, что существует нечто предшествующее наукам – предшествующее, т. е. в том смысле, в каком Кант говорит об априорном, нечто фундаментальное для них и конституирующее их такими, какие они есть, – нечто, что считается реальным, если их синтезы (а каждая научная истина является синтезом) должны быть возможны. Анализ и раскрытие в органической полноте этого кантовского apriori есть тема гегелевской логики.
Философия природы стоит в гегелевской системе между логикой и ментальной или духовной философией. Человек – разумный, нравственный, религиозный и художественный человек – покоится на основе природного существования: он – дитя земли, порождение естественной организации. Но сама Природа – такова гипотеза системы – понятна лишь как отражение того априорного, что было показано в Логике. Вся схема, посредством которой мир природы научно скрепляется, постигается обычным сознанием и разрабатывается математическим анализом, предполагает организм категорий – этих фундаментальных привычек мышления или форм представлений, которые составляют основу известного нам существования. Однако Природа никогда не показывает этот умопостигаемый мир – Идею – в ее чистоте и полноте. В полу буквальных, полу образных фразах Гегеля Природа показывает Идею вне себя, невменяемой, отчужденной, несостоявшейся. «Это безумный мир, мои хозяева», «Бессилие природы» – «Ohnmacht der Natur». 40– частая фраза, которой он указывает на [стр. 78] алогичный, если не нелогичный, характер физического мира. Здесь мы сталкиваемся с отрицанием разума: свою роль играет случай: случайность повсюду. Если вы ожидаете, что физическая вселенная проявит беспрекословное подчинение законам разума и высшей логики, вы будете разочарованы. То, что вы видите, фрагментарно, хаотично, нерегулярно. Для телесного чувства – даже когда это чувство стало более проникающим благодаря всем множеству материальных и методических средств развитой цивилизации – Идея в естественном мире представлена лишь в следах, указаниях, частях, что требует хорошо подготовленного ума. увидеть, а еще больше объединиться. Однако в то же время признаки этого единства присутствуют повсюду, и гипотеза логической схемы или организации Идеи является единственной теорией, которая, по-видимому, полностью соответствует данным. Природа41, говорит Гегель, есть Идея, как она проявляется в чувственном восприятии, а не так, как она проявляется в мышлении. В мысли – ясная все понимающая сумма; в смысле загадочный фрагмент. Идея – единство жизни и познания – присутствует повсюду в природе, но нигде не является ясной, целостной или иной, как проблеск; не логическая схема или компактная теория. Природа – это чувственное, в котором заключено умопостигаемое, реальность, которая является носителем идеала. Но идеальное сокровище хранится в грубых и хрупких сосудах, которые наполовину раскрывают, наполовину скрывают свет внутри. Короче говоря, природа содержит, но замаскированную, идею в более слабых и ясных проявлениях: функция человека, посредством его научного интеллекта и этической работы, выстраивает социальную организацию, чтобы обеспечить основу, на которой обретается окончательное значение и истинная основа. мира можно расшифровать, угадать, поверить или представить в воображении. Проверка догадки или расшифровка, конечно, заключается в его адекватности для объяснения и сопоставления фактов. Истинный метод и истинная концепция – это то, что не нуждается ни в каких последующих корректировках, ни в эпициклах, чтобы заставить его работать, – это не просто гипотеза, полезная для субъективного упорядочения, а вытекающая из неконтролируемой силы и самоочевидности фактов.
То, что Гегель назвал «бессилием природы», Шопенгауэр назвал иррациональной волей, и именно с этой цели, так сказать, начинается философия Шопенгауэра. Природа – основа всех вещей – фундаментальный prius – есть непреодолимый и нерегулярный аппетит или жажда быть, делать, жить – но аппетит или nisus, который восходит от ступени к ступени – от простых механических сил, действующих в движении вверх. к высшей форме животной деятельности. Но по мере того, как эта «Воля», или слепая жажда бытия и инстинкт жизни, поднимается над неорганическим миром и проявляется в животном организме, возникает новый порядок существования – интеллект, или идеальный мир. Действительно, если смотреть снизу, то все, что сейчас появилось у животного, – это мозг и нервная система – новый вид материи. Но есть и другая сторона Разума, который таким образом пробудился от сна природных сил. Этот интеллект не осознает и никогда не сможет осознать, что он дитя природы: он не признает ни высшего, ни начала, ни конца во времени. День его рождения бесконечно превышает тот век, когда космический процесс начал свою гонку; до того, как звезды собрали свои массы светимости и земля получила первые зародыши жизни. Как гений Искусства, он останавливает тяжелую борьбу существования за создание новых форм и разрушение старых; она освобождает в типичных формах вечной красоты великие идеи, которые природа тщетно пытается воплотить, и как нравственная и религиозная жизнь ее цель состоит в том, чтобы уничтожить жажду и жажду все большего и большего бытия и войти в бесстрастный и спокойный союз с Единым и Всем.
Таким образом, если не абсурдно, то, по крайней мере, ошибочно говорить о системе Гегеля как о панлогизме. Строго говоря, это собственное имя только для Логики: там, несомненно, разум есть все и во всем. Однако считать, что разум является самой жизнью и центром вещей, является для философии кардинальным пунктом – постулатом, который должен вдохновлять ее на первые и последние шаги и направлять ее во всем. Но Логическая Идея, если она поставлена вначале, сначала ставится лишь как предпосылка, которую задача человеческого разума разработать и организовать. Если это ключ, который должен объяснить природу и сделать ее понятной, то это ключ, который был получен только в процессе – долгом процессе, – посредством которого человек поднялся от своего естественного происхождения – никогда, однако, не расставаясь с ним – к рассмотреть и понять себя и свое окружение. Способность «чистого мышления», являющаяся предпосылкой изучения логики, является результатом постепенного развития, в ходе которого животное чувство росло, метаморфизировалось и превращалось в свободный разум и добрую волю, способную к различение и исполнение универсального и вечного. Таким образом, в «Логике» система конструирует чистую Идею – идеальную вневременную организацию мыслей, или λόγοι, на которой зиждется все познание реальности – алмазную сеть, которая не позволяет ничему вырваться из своих сетей: в «Философии природы» она пытается соединить в единство и непрерывность – фазы и частичные аспекты, которые физическая вселенная представляет в постепенном воплощении центральной истины: а в «Философии разума» она прослеживает шаги, посредством которых просто естественное существо становится моральным и эстетическим идеалистом, в котором человек приближается к божеству.
Действительно, фундаментальная аксиома Гегеля состоит в том, что действительность разумна. Но действительность – это не видимость, временные фазы, последовательность событий: это видимость, укорененная в своей сущности, последовательность, сконцентрированная (но не утраченная) в своем единстве. В этих пределах есть место для так называемой иррациональности. Ибо, когда люди высказывают что-то иррациональное, они имеют в виду лишь то, что их практический разум применил бы другие методы, чтобы прийти к определенным выводам. Фактически, они судят по своему ограниченному пониманию, а не по ex ordine universi. В конце концов, доктрина Гегеля – это всего лишь еще один способ констатировать сохранение наиболее приспособленных; и оно подвержено такому же заблуждению со стороны тех, кто использует свои личные цели в качестве критериев суждения.
Так же есть разум – есть Идея – в Природе. Но оно существует только для художника, религиозного человека и философа; и они видят это соответственно глазами гения, силой веры и мыслью разума. Они видят это с точки зрения абсолютного – sub specie quadam aeternitatis. Следовательно, Природа представляет Идею – это непокорный вопрос: или, если непокорность предполагает положительную оппозицию, скажем, скорее, область, в которой Идея не может проявиться цельной и ясной, где единство должно быть навязано и вчитано в него. факты. Наука, говорит один писатель, представляет собой идеальную конструкцию: она предполагает абстрагирование от неровностей и неравенств: она сглаживает и сублимирует грубый и несовершенный материал в более округленное и совершенное целое. Его объектом, который он называет реальностью, является нечувственная, незаметная реальность: то, что можно было бы с таким же успехом назвать идеальностью, если бы и здесь народное воображение не искажало это слово в субъективном смысле, обозначая частные и личные идеи. студента.
Но очевидная индивидуальная реальность никогда в своей очевидности никогда не равняется «золотой посредственности» идеала. Его мириады винограда нужно раздавить, чтобы получить вино духа.
«Это труд длиною в жизнь, пока наше тесто не заквасится»
– пока руда не превратится в чистое золото. Но золото есть, и в великой лаборатории natura naturans находится принцип и средство его собственного очищения. «Природа ни в коем случае не становится лучше, но природа делает это значащим», ибо природа – это замаскированный дух.
Именно с этой стороны вырисовывается известная аналогия натурфилософии Гегеля и Шеллинга с романтической школой. Природа ощущается как бы одержимой духами, дающей проблески солидарности, замысла, провиденциальности, которые идут вразрез с тем общим внешним безразличием, при котором часть, кажется, поселилась рядом с частью, каждая совершенно безразлична к другой. Романтика – это неожиданное совпадение, внезапное объединение того, что казалось разделенным и совершенно чуждым мирами. Именно смысл этого романа соткал дикие легенды о нимфе и кобольде, фавне и речном боге, чертенке и фее, владеющих силами стихий и направляющих жизнь даже в так называемом неодушевленном мире. Но это не меньшая тема сказки науки. Даже в строгих демонстрациях геометрии и механических конструкциях непредвиденное скользит по нам цыганской поступью. Кто в своих ранних исследованиях математики не восхищался почти неожиданным сочетанием собственности со собственностью в фигуре, внезапно выделяя почти «жутким» рельефом соединение того, что, по-видимому, было разъединенным полюсом? Говорить о прекрасных свойствах конического сечения или кривой – это не просто форма слов. Обычай, возможно, притупил наше [стр. 83] смысл симметрии небесной динамики, но они, тем не менее, достойны восхищения, потому что мы поглощены всем остальным. Для первого поколения нашего столетия явления химии, магнетизма и электричества привлекли – как никогда с тех пор – ощутимой демонстрацией того appetitus ad invicem, того инстинкта объединения, о котором говорит Бэкон; и на этот раз в более высокой форме, чем просто в механизме. Полярность – раздвоение реальности на пару противоположностей, которые, тем не менее, искали своего дополнения друг в друге – вечно разделяясь только для того, чтобы вечно соединяться и, таким образом, только для того, чтобы существовать – стала процессом, поставленным на всеобщее обслуживание. Наконец, что может быть более удивительно, чем приспособление индивида к среде – и среды к индивидууму – органов в нем к его совокупности и всей его совокупности к его органам. Один во всем и Все в одном: одна жизнь в вечном преобразовании, животные, растения, земля и воздух; один организм, развивающийся в абсолютной согласованности. Это было видение, которое видел гений Шеллинга и его современников, – то же самое видение, которое путем накопления фактов и наглядной истории Дарвин и его ученики в некоторой степени внушили даже самым тупым людям.
Но существует глубокая разница между духом философии природы и совокупностью физических наук. Каждая наука берет конкретный карьер, назначенный ей случайно или провидением, и делает все возможное, чтобы «добыть» каждый содержащийся в нем кусок камня. Но редко, разве что по принуждению, а в наши дни специализации это делается все реже, чтобы обследовать соседние раскопки и посмотреть, есть ли какая-либо связь между слоями. Даже внутри своей собственной сферы ему стыдно выставлять напоказ слишком много системы. Его метод часто напоминает метод шоумена в бродячем зверинце: «И [стр. 84] а теперь, пожалуйста, пройдите в следующий вагон. Он уважает структуру отсеков, на которые, по его мнению, разбит мир, и часто считает, что заслужил добро, если заполнил отсек полнее, чем раньше, или сумел создать несколько подотсеков в старых границах. Даже так называемые ментальные и моральные науки, когда они теряют свой философский характер, склонны имитировать эти черты. Однако в каждой науке есть перспектива и выход для всякого, у кого есть воля и сила, выйти из своей узкой области на открытые поля и свободную перспективу к первым источникам и последнему великому океану бытия. Всегда, и не в последнюю очередь в наши дни, физик, химик, физиолог, психолог, социолог и экономист делали свою специальную область платформой, где они могли дискурсировать de omnibus rebus и становились на время философами. и метафизики. Было бы глупой нетерпимостью и неправильным Рассудокм ситуации восклицать Ne sutor ultra crepidam. В органической системе вещей «каждый «момент», даже независимый от целого, есть целое; и увидеть это – значит проникнуть в суть дела». Едва ли нужно обращаться к Гегелю, чтобы услышать, что хорошо знать одну вещь – значит знать все вещи. Конечное, которым мы инертно довольствуемся, если бы мы были с ним в полной симпатии, открыло бы свое сердце и показало бы нам бесконечное. И все же, если специалист, вставая после шитья обуви, с сердцем, полным веры в то, что «нет ничего лучше кожи», заявит о своем открытии ее в тех регионах, где о ней до сих пор не подозревали, можно улыбнуться недоверчиво и возразить. никакого циника.
Тогда философия держит открытыми глаза и уши – насколько это возможно для более тонких оттенков и тонких деталей – но, главным образом, для музыки человечества и музыки сфер – для общего [стр. 85] цель и направление всех наук – от математики до социологии – поскольку они помогают прояснить жизнь природы и способствовать освобождению человека. Иногда будет казаться, что он преувеличивает преемственность науки и преуменьшает ее различия; иногда кажется, что он более озабочен порядком, чем содержанием наук; он будет напоминать наукам о гипотетическом и формальном характере. о большей части их метода и некоторых их принципах; иногда они считают неважными результаты, которым простой ученый или догматик науки придает большое значение. Благодаря своей привычке иметь дело с ограничениями и взаимными последствиями принципов и концепций философ часто будет способен – и, возможно, даже слишком охотно – указывать на случаи, когда простой специалист позволял себе приписывать реальность своей абстракции. Он скажет аналитику астрономических движений, что он не должен принимать различие центробежной и центростремительной силы, на которые механика распадает планетарную орбиту, как если бы это действительно означало, что планета была втянута внутрь одной силой и отправлена вращение вперед другой силой. другой42. А учёный, гордящийся своей математикой, будет возмущаться и смеяться над философом, который роняет хоть слово о планетах, движущихся в великой независимости, как «благословенные боги». Философ намекнет химику, что его формулы состава и разложения тел в том виде, в каком он их использует, несколько мифологичны, изображая воду как атом кислорода, связанный с атомом водорода; и химик уйдет, бормоча что-то о дураке, который не верит в хорошо доказанная химическая истина о том, что вода состоит из этих двух газов. А ученый, гордящийся своей математикой, будет возмущаться и смеяться над философом, который обмолвился о планетах, движущихся в великой независимости, как «благословенные боги». Философ намекнет химику, что его формулы состава и разложения тел, как он их использует, несколько мифологичны, представляя воду как атом кислорода, запертый с атомом водорода; и химик уйдет, бормоча что-то о глупце, который не верит в хорошо известную химическую истину, что вода состоит из этих двух газов. Если философ далее намекнет, что не является высшим идеалом химической науки довольствоваться перечислением пятидесяти или шестидесяти элементов и выявлением их различных свойств и сходств43; что было бы хорошо найти некий принцип градации, некое единство или закон, который придал бы смысл бессмысленному сопоставлению, то простой догматик, для которого химия – это его жизнь и который боится отречения, почувствует склонность к ереси, которая топит все элементы в одном. И все же даже среди химиков инстинкт закона и единства начинает требовать удовлетворения.
Еще более богатый запас удивительных парадоксов и сбивающих с толку аналогий ожидает каждого, кто перелистает том гегелевской «Жизни» (vii. i) и выберет те из них, которые содержатся в конспектах лекций. Он обнаружит многое (и, возможно, больше, чем меньше он на самом деле знает о каком-либо из обсуждаемых предметов), в чем он не может разобраться: язык, в котором он не может угадать, следует ли его понимать буквально или фигурально. Ведь Гегель серьезно настаивает на сущностном единстве и идентичности всех частей физической вселенной; он не будет удерживать время и пространство на одном уровне, материю и движение – на другом, а чувства, солнца, растения, страсти – все в своей сфере. Выходя далеко за рамки теории, предполагающей, что все сложные различия в организации выросли в бесконечные, бесконечные века из примитивной неясности, так что временной разрыв действует как стена, разделяющая раннее и позднее, Гегель настаивает на их сущностном единстве. сегодня. И это звучит жестко – вестник анархии, краха упорядоченного строя научного государства. Несомненно, Гегель, как и другие люди, допускал ошибки; что он переоценил предполагаемые открытия того времени, что он предался ложным аналогиям и что его привлек смелый парадокс. Все это не имеет ничего общего с его главным тезисом, а именно, что естественная сфера в ее нынешнем виде является алогической сферой, где разум вышел из себя, но все же содержит инструмент – человека, и это разум, – с помощью которого рациональность может быть реализована и восстановлена. По крайней мере в этом пункте он и Шопенгауэр едины.