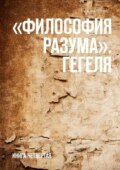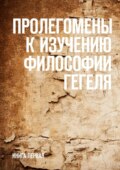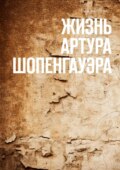Уильям Уоллес
Эпикуреизм
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Уильям Уоллес, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-8841-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
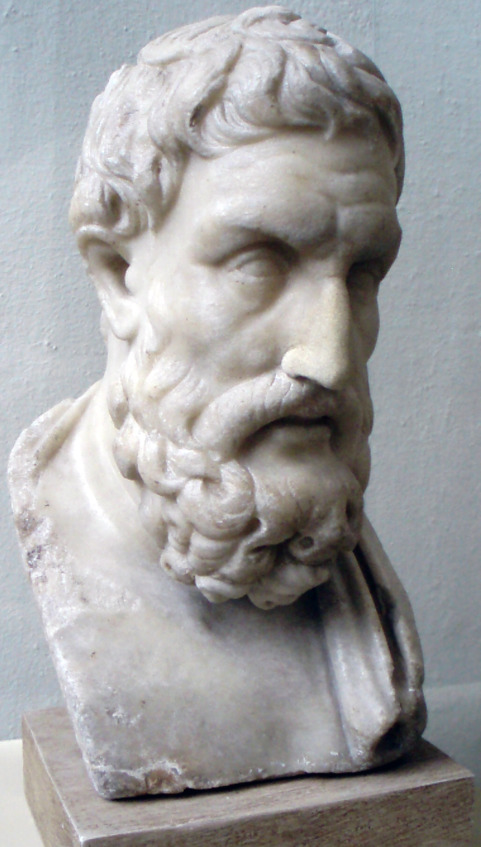
Глава I. Введение
Когда римский император Марк Аврелий в конце второго века нашей эры решил дать императорскую санкцию высшему учению римского мира путем государственного финансирования философской профессуры, он обнаружил четыре школы или секты, разделяющие общественное расположение и привлекающие в своих направлениях лучшие мысли того времени. Этими школами были школа Платона, известная как академическая; школа Аристотеля, известная как перипатетическая; школа Зенона, известная как стоическая; и школа Эпикура, известная как эпикурейская. Не без причины четвертая школа продолжала быть известной по имени своего основателя, которое она не променяла, на другие, на эпитет, взятый из какой-нибудь излюбленной местности. До самого конца своей карьеры эпикурейская секта благоговейно и любовно хранила память о своем учителе, которому его последователи единодушно приписывали свое освобождение из тисков суеверий, недостойных страхов и желаний, «член другой школы мог бы утверждать в отношении своих учителей определенную беспристрастность критического рассмотрения. Если Платон и Сократ были дороги платонисту, то истина была еще дороже. Но для эпикурейца вера в характерные для него доктрины сочеталась с привязанностью к памяти основателя его вероучения и очеловечивала его.
Из четырех школ две были более древними, чем остальные. Академики и перипатетики опередили стоиков и эпикурейцев более чем на полвека; они продолжали существовать и процветать еще долго после того, как младшие секты угасли в молчании. Но в течение четырех столетий, когда эпикурейская и стоическая доктрины получили широкое распространение, с 250 г. до н. э. по 150 г. н. э., две другие школы были оттеснены на задний план и оставлены всеми, кроме нескольких исповедующих их учеников. В римском мире стоическая и эпикурейская системы разделили между собой голоса почти всех, кто вообще хотел думать. Платон и Аристотель были почти неизвестны, так как две школы, которые исповедовали, что черпали свое первоначальное вдохновение у этих мастеров, быстро отдалились от определенной доктрины своих лидеров. Доктрина Платона и Аристотеля была такого рода, которую в наше время мы бы назвали идеализмом. Ее поддерживал энтузиазм познания, и ее несла огромная волна интеллектуальной энергии. Платон и Аристотель собрали зрелые плоды в том афинском саду, где Перикл, Фидий и Софокл наглядно продемонстрировали весеннюю пору цветения и яркости. Опираясь на накопленную за столетие афинского могущества и великолепия силу, они бесстрашно подняли глаза на мир и попытались раскрыть его замысел и смысл как дома человечества – человечества, которое они видели вокруг себя и чувствовали внутри себя. Они пытались проследить ступени длинной лестницы средств и целей, которые, по аналогии с тем, что они видели в своих типах человеческого общества, по их мнению, должны были быть найдены и в мире природы. Они смотрели на все в природе и в человечестве как на реализацию идеи, как на этап в развертывании правящего принципа.
Для Платона все было продуктом "идеи Блага"; для Аристотеля все было ступенью в развитии целей разумной Природы. Существовать для них обоих означало воплощать или выражать идею, или план. Вершиной всего сущего, принципом и центром явлений человеческого и природного мира был творческий замысел или интеллект, постоянно осуществляющий себя в деятельности, вечно продуктивный, сознательно наблюдающий и охватывающий несколько своих проявлений. Вопрос о материалах, используемых для осуществления этих планов, был замечен этими мыслителями лишь постольку, поскольку он служил иллюстрацией процесса реализации. По крайней мере, в значительной степени это относится к Платону, в меньшей – к Аристотелю.
Точкой, на которой обе школы изначально делали наибольший акцент, рядом со своим фундаментальным принципом, был анализ порядка и сплетения бытия как разумной системы. Они сосредоточили свое внимание на связи одной идеи с другой, на соотношении между одним этапом в сложной схеме актуального существования и другим. Сводить и разделять, видеть различия там, где они скрыты, и находить сходство между различными вещами, различать и связывать виды и классы – вот, по Платону, основная работа той дискуссии или беседы (диалектики), которая является истинным искусством философа. Другими словами, точка, к которой сходится его интерес, в отличие от областей, в которых этот интерес действует, – это то, что в более поздний период будет названо отчасти логикой, отчасти метафизикой. Это метафизика, когда предполагается, что рассматриваемые отношения и связи являются реальными, лежащими в основе отношений в существующих объектах мира. Это логика, когда эти отношения и связи рассматриваются как способы нашего мышления, средства или методы, с помощью которых мы как разумные существа стремимся постичь и рационально осмыслить объекты природы и искусства. Что касается Платона, то едва ли можно сказать, когда мы находимся в метафизике, а когда в логике. Идеи, которые являются обитателями логического рая, которые представляют собой образцы, воплощенные в природе, в его собственных сочинениях не совсем отделены от идей, которые возникают у разума, когда он достигает знания. Но у Аристотеля разграничение между логикой (или, как он ее называет, аналитикой) и метафизикой (или, как он ее называет, теологией или первой философией) уже проведено. Последнюю, как и первую, он отчасти наследует от Платона; но именно в логике он наиболее оригинален и наиболее существенно расширяет философское поле. С другой стороны, Аристотель также проложил свой собственный курс. Физическая вселенная привлекала его двояко. С одной стороны, она представала перед ним в виде процесса движения, отработки во времени и пространстве тех же вечных принципов и отношений бытия, которые составляли тему его метафизики. С этой точки зрения, несколько абстрактной и метафизической, он рассматривает бытие в тех книгах, которые носят, как кажется современному читателю, несколько вводящее в заблуждение название «Физические лекции». Но есть и другая сторона интереса Аристотеля к природе.
В психологии, естественной истории и политических исследованиях он не просто великий метафизик: он внимательный наблюдатель и кропотливый собиратель фактов. Он перечисляет, со всеми подробностями, действительные явления, представленные опытом, совершенно отдельно от теоретических отношений системы, под которую они должны были бы, с другой точки зрения, подходить.
Таким образом, в Платоне и Аристотеле существовали противоборствующие тенденции. В Платоне есть, с одной стороны, политический и практический инстинкт, который делает его реформатором морали или образования, и, с другой стороны, логический, или, чтобы сохранить его собственное более широкое слово, диалектический интерес, который побуждает его критиковать и анализировать, и говорить, что «жизнь, которой отказано в критике, не есть жизнь для человека.1
У Аристотеля же мы видим постоянную борьбу духа между идеальным и метафизическим настроем, которому по душе абстрактные формы бытия, и реалистическим чувством, которое замечает каждую деталь в действиях рационального ума и в явлениях живой природы, чтобы отвести всем мелочам, даже самым униженным животным, свое место в обширном собрании примеров.
Две школы, унаследовавшие Академию Платона и Перипатос Аристотеля, в обоих случаях не унесли с собой более чем фрагмент мантии своего учителя. Академическая секта все больше и больше отдавала бразды правления критическим, логическим тенденциям, которые в самом Платоне были подчинены его глубокому чувству непревзойденной ценности этических идей и нравственной жизни. В Новой Академии, как ее называют, школе Аркесилая и Карнеада, все догматические оттенки в учении побледнели перед преобладанием скептической и критической полемики против других доктрин. Новая Академия, вдохновленная влиянием своего современника Пирра, великого скептического философа древнего мира, стала главным арсеналом, где ковалось оружие универсальной разрушительной критики. Такова, в мягкой форме, была позиция, с которой, например, Цицерон относился к догмам философии. Именно дух отрицания, разум, разрывающий на куски свои собственные построения, преобладал в академической школе2.
С перипатетической школой, которая непосредственно следовала за Аристотелем, дело обстоит несколько иначе. Если Платон не был академиком или платоником, то и Аристотель не был перипатетиком. Его ближайшие последователи, Теофраст и Стратон из Лампсака, вскоре покинули метафизический идеализм своего учителя. Великий принцип космического разума, интеллектуального божества, стоящего во главе всего сущего, был оставлен и проигнорирован. Логический и физический отделы стали преобладать в традициях школы и постепенно узурпировали место метафизических вопросов. Спекулятивный, трансцендентальный элемент в Аристотеле был устранен, и не осталось ничего, кроме "позитивной" науки. Таким образом, аристотелизм уподобился бочке, у которой выбили дно: он развалился на части. Стратон из Лампсака больше не говорил о Боге, а только о природе, и практически отбросил различие, которое Аристотель проводил между разумом и чувствами. В следующем поколении аристотелианство погрузилось в еще больший застой; оно стало более позитивным и менее философским; оно перешло в схоластику и поставило обучение на место мудрости и исследования.
Наступил день, когда и платонизм, и аристотелизм вступили в новую фазу. В первые века нашей эры труды этих двух философов стали предметом филологического изучения: они были истолкованы, аннотированы, согласованы и систематизированы комментаторами первых шести веков, от Андроника до Симпликия. Но для нашей непосредственной цели достаточно вспомнить, что в поколении, сменившем Аристотеля, академическая и перипатетическая школы уже не представляли ум своих основателей. Они становились все более и более исключительно интеллектуальными, логическими и формальными r философы выродились в профессоров и школяров.
В основном они обучали логике и риторике. А неспособность последователей поддержать идеализм своих первых вождей привела к росту скептического и критического интеллекта. Философия перестала быть серьезным предприятием, каким ее сделал Сократ. Она больше не была арбитром жизни и поведения – тем, что, как говорит Платон, "не было и не будет большим благом для смертного рода по дару богов". Теперь это было лишь предварительное обучение, которое передавало искусство рассуждения и абстрактные принципы морали и законодательства. Тогда она стала тем, чем в основном стала в наши дни, – признанной частью университетской программы, и не более того.
Великие школы Платона и Аристотеля в руках их преемников объявили себя банкротами. Идеализм, очевидно, оказался несостоятельным. Один за другим были преданы великие идеальные принципы. Аристотель напал на трансцендентализм Платона, его самого вытеснила более реалистическая доктрина, и в период всеобщего скептицизма, который хлынул как поток, единственное, что казалось достойным культивирования, – это те немногие грамматические, филологические и физиологические знания, которые были собраны в тот период. На фоне общей неудовлетворенности результатами, к которым мысль, поднимающаяся в эмпиреи и прослеживающая с идеальной точки зрения план мира, привела своих приверженцев, в воздухе витало желание новой доктрины, новой моральной панацеи. На этот раз доктрина должна быть реалистической. Если старые школы были спиритуалистическими, то новая доктрина должна быть материалистической. Если старые школы делали мысль и идею единственным истинным существованием, то новая школа должна признать существование всего, что не является телесным. Вместо разума новая школа должна основывать все на ощущениях. Старые школы Платона и Аристотеля смело взялись за дело, уверенные в силе мысли. Новые школы должны были оправдать свою точку зрения и доказать свою основу в присутствии мощной враждебной силы скептиков.
Обстоятельства Греции также сильно изменились с тех пор, как Платон и Аристотель писали. Период мелких республик с более или менее аристократическим характером сменился, после завоевания центральной и южной Греции македонцами, периодом слияния и смешения. Монархический принцип, утвердившийся на вершине государства, еще не успел оформиться в детали и связать себя с конституционной жизнью. Город не был, как во времена Платона, собственным государем: его дела зависели от воли чужеземного царя, который сам неуверенно сидел на своем троне и чаще подстрекал к дурным поступкам, чем обнадеживал тех, кто поступал хорошо. Слава и очарование старой греческой политической жизни на службе у тех, кто был почти личным знакомым, ушли в прошлое. Политическая жизнь в македонскую эпоху была возможна только для тех, кто имел мужество принять и поддержать желания своих соотечественников вернуть себе свободу, или для тех, кто мог отважиться на недоверие и вражду своих сограждан, выступая в качестве министров чужеземного деспота. Первый путь был опасен и часто неразумен, второй – вообще неблагороден. Все, что оставалось тем, кто не был настроен ни на мученическую смерть в качестве патриота, ни на то, чтобы заручиться благосклонностью князя путем безропотной покорности, – это принять участие в фарсе, каким он теперь стал, – муниципальном управлении. Но занять такую должность можно было только как долг: нельзя и не нужно было стремиться к ней как к чести.
Расстояние между эпохой Платона и эпохой Зенона и Эпикура, основателей двух новых сект, вытеснивших их предшественников, можно проиллюстрировать характером комических пьес, которые пользовались популярностью у тех и других. Комедия Аристофана имеет своим местом действия главные курорты общественно-политической жизни своего времени. Это карикатура на государственных людей и государственные меры. Афины с их внешними отношениями и внутренней политикой – вот тема, которая появляется в сотне обличий и втягивает в себя даже обитательниц женских покоев, характеры и идеи общественных мыслителей. В новой комедии Менандра и Филемона общественная жизнь неизвестна. Вечная тема – семья и социальные аспекты жизни. Вместо полководцев и государственных деятелей, демагогов и революционеров новая комедия представляет собой повторяющуюся историю любовных похождений молодых людей и хозяйственных дел стариков, чванливых капитанов и лукавых камердинеров, прихлебателей за столами богачей и молодых женщин, творящих зло своими чарами. Вся комедия сосредоточена на одном из аспектов домашней жизни – она полна запутанных помолвок между влюбленными и выводит на сцену кухарку и обеденный стол.
В таких условиях возникли системы стоицизма и эпикурейства. Как и все системы, они были продуктом своей эпохи, но не просто продуктом. Они подводили итоги и делали выводы, к которым их подводило прошлое; но, формулируя результат, они придавали ему большую последовательность и силу. Они помогали людям увидеть идеалы жизни, к которым их побуждали обстоятельства, нерешительные и несовершенные.
Уже при жизни Платона другие ученики Сократа усвоили другой урок от своего общего учителя. Самодостаточный дух критики и независимость от условностей, которыми отличался Сократ, тронули их больше, чем его интерес ко всему афинскому и любовь к знаниям. Если для Платона и Аристотеля высшее знание ценилось исключительно ради него самого, а не как средство для достижения какой-либо цели, то для мыслителей, о которых мы сейчас говорим, знание казалось достойным того, чтобы им занимались лишь постольку, поскольку оно направлено на выработку ясного эгоцентрического суждения и дает некий принцип для регулирования личного поведения. Эти мыслители принадлежат к двум типам. Во главе одного стоял Антистен, основатель секты, которую стали называть кинической и самым известным членом которой был Диоген. Во главе другой стоял Аристипп из Киринеи, от которого его последователи получили название киренаиков.
Главная особенность этих школ – враждебность ко всем условностям. Они были отъявленными реалистами. Они пренебрегали и презирали глупости тех, кто позволял увлечь себя в путы мнений, обычаев, моды и условностей. Аристипп был человеком из мира, который сторонился уз политической жизни. Он сказал Сократу, что был и должен быть везде чужаком, свободным3, как птица, от всех тягот и привилегий гражданства, чувствовать себя везде как дома, не связанным никакими узами и ассоциациями, наслаждаться каждой сценой жизни по мере ее наступления, не думая о других временах, и с легкостью бабочки порхать завтра к другим сценам и новым наслаждениям. Идеалом Аристиппа была жизнь, полная приятных и разнообразных волнений, не подверженная никаким ограничениям со стороны моды, морали или религии. Он предоставлял другим вести политическую жизнь, а сам входил в нее по мере необходимости, чтобы насладиться плодами их трудов. Антистен и Диоген вряд ли могли быть более циничными, чем Аристипп, но они проявляли свой цинизм по-другому.
Они тоже требовали независимости как главного блага. Но если Аристипп был человеком состоятельным, то у них не было ни состояния, ни социального положения, на которое они могли бы опереться. Антистен был бедняком, зарабатывавшим на жизнь преподаванием риторики. О Диогене и его ванне слышали все. Эти люди искали независимости в отречении и аскетизме. Пусть человек узнает, как мало ему нужно, говорили они, и вскоре он станет хозяином своего благополучия и превзойдет капризы фортуны. То, что Аристипп с его жизнерадостностью и разнообразием получал в круговороте удовольствий, киники искали в самоотречении и практике выносливости. Как и Аристипп, они были безразличны к стране: они исповедовали себя гражданами мира.
Во времена Платона и Аристотеля подобные доктрины были лишь оппозицией, и даже как оппозиция они представляли собой лишь незначительную фигуру. В основном они были практическим протестом против господствующей тенденции приносить индивида в жертву обществу. У них не было и не могло быть ничего систематического в плане доктрины. Они живут на страницах истории философии благодаря репликам, которыми полны анекдоты о них. Как это естественно для тех, кто протестует против преувеличения какого-либо принципа, они сами заняли преувеличенную позицию. Очень скоро киники обнаружили, что круговорот удовольствий противоречит их исповедуемой цели, а один из них, Гегезий, так размахнулся, что объявил счастье невозможным и предложил желать смерти. Что касается киников, то они никак не могли понять, на чем остановиться в своем аскетизме, и им справедливо напоминали, что если они не сбросят плащ и не станут подражать нагим мудрецам Индии, то их могут обвинить в роскоши.
Все изменилось, когда появились стоицизм и эпикурейство. То, что раньше было протестом немногих, теперь, в силу обстоятельств, стало общим положением и течением мира. Страны, ради которой можно жить и умереть, которая была бы ареной и наградой самых высоких стремлений и трудов, почти ни для кого не существовало. Все больше и больше разрушалось старое разделение между городами и исчезала старая ревность. Афины принимали в своих стенах множество пришельцев. Из Сирии и Финикии, из Тарса и Берита приходили чужеземцы, которые вскоре становились как дома. Преемники Александра своими меняющимися союзами и постоянными войнами, которые велись в основном вокруг Греции, туши, над которой вились стервятники, внесли некое свободное единство среди народов на восточных берегах Средиземного моря. Начался период эллинизма.
В этих условиях Зенон и Эпикур около 300 года до н. э. основали в Афинах две новые системы философии. Почти с самого начала они находились в оппозиции друг к другу, и интенсивность их противостояния не ослабевала в течение пяти или шести веков, пока они существовали бок о бок. Но в некоторых важных моментах, противоречащих учению Платона и Аристотеля, они были едины. Оба они практически игнорировали государство и устраняли любые влияния, стоящие между отдельным человеком и конечными источниками человеческих действий.
И те, и другие рассматривали человека исключительно как индивида, который может, если сочтет нужным, договориться с обществом, но имеет приоритетное и естественное право жить и развиваться самостоятельно. Совершенствованию или счастью индивида было подчинено все. Единственной обязанностью человека, согласно их взглядам, было отношение к самому себе.
Приняв это решение, они довели до дальнейшего результата то разделение между жизнью политической или общественной деятельности и жизнью изучающего поиска истины и то решительное обесценивание первой, которое иногда предполагали, а иногда выражали Платон и Аристотель. Но когда они пошли дальше в этом направлении и сделали поиск истины лишь средством для обеспечения свободы от страхов и страстей, они представили заметный контраст со своими предшественниками. Для стоиков и эпикурейцев этика – это цель и задача, причем этика, учитывающая только интересы отдельного человека. Для Платона и Аристотеля мораль была элементарной основой разумной жизни, предпосылкой, на которой человек должен был возводить надстройку из наук и работать на благо общества и рода человеческого. Именно такая концепция, например, воплощена в "Республике" Платона. Но для стоиков и эпикурейцев главным был вопрос о том, как каждому спасти свою душу, обеспечить себе независимость и спокойствие, прожить свою жизнь хорошо и счастливо.
Стоики и эпикурейцы обращались к человеку, который, какими бы ни были его ассоциации, все равно в основе своей одинок. Они относились к нему как к самоцели, а не как к фрагменту общества. Как и христианство, они обращались к человеческой душе, лишенной большинства национальных и социальных оболочек. Они апеллировали к более широкой публике и более общим человеческим интересам, чем Платон или Аристотель. Они обращались к человеку, а не только к гражданину, к простому человеку, а не только к ученому, ко всему человеку, а не только к разуму. Именно об этих школах говорил лорд Бэкон, когда утверждал, что нравственная философия языческого мира была для него чем-то вроде теологии. На самом деле они, по крайней мере частично, покрывали ту же самую территорию, которую сейчас занимает религия.
Обе они в основном представляют собой этические системы, если под этикой понимать попытку выяснить, что является главной целью человека и как ее можно достичь. Этому было подчинено все остальное. Именно в этих школах, особенно в стоической, мы впервые сталкиваемся с разделением философии, ставшей впоследствии столь общей, на три части: этическую, логическую и физическую теории. Физическая и логическая – ради этической. И именно в этих пунктах они особенно отличаются от киренейской и кинической школ. Они действуют более систематично и закладывают более глубокие основы. Они не гнушаются, особенно стоики, брать листки из тетрадей Платона и Аристотеля. Эпикурейцы все делали на практике, и оппоненты часто высмеивали их как неграмотных и нелогичных. Стоики, напротив, были настойчивыми и несколько педантичными логиками, которым схоласты действительно обязаны многими из тех логических тонкостей, которые по ошибке обычно приписывают Аристотелю. Но как бы они ни стремились к этому, цель, которую стоики и эпикурейцы преследовали в своей логике, заключалась в достижении определенности и реальности. Вопрос критерия, или как мы можем узнать, приводят ли наши мысли к реальному существованию или нет, является для них фундаментальной проблемой. И вместе с этим – общее для обоих убеждение, что реальное – это материальное, телесное, то, что можно потрогать и увидеть.
Эти три момента – индивидуализм в морали, подчинение всей науки этической цели и материалистический реализм – пожалуй, наиболее характерны для обеих школ. Когда мы рассматриваем их различия, то обнаруживаем, что стоики в меньшей степени, чем их соперники, противостояли общему характеру философской традиции и течениям общественного мнения. На самом деле между тремя школами – Платона, Аристотеля и Зенона, с одной стороны, и эпикурейством – с другой, существовал значительный интервал. Три первые отличались большей схоластической и философской культурой и были более подходящими инструментами для обучения молодых учеников. Четвертая школа обращалась к более зрелым, но менее образованным личностям.
Стоики в целом поддерживали интересы существующего религиозного и социального порядка. Они считали, что человек должен, за исключением особых обстоятельств, принимать активное участие в общественной жизни и основывать семью в содружестве. Спасительная оговорка, разумеется, допускает очень широкое толкование. Большинство представителей этой школы также пытались дать рационализированное объяснение народной мифологии и таким образом оправдать религиозное вероучение своей страны.4 В этих вопросах они приспосабливались к обстоятельствам; но совершенный стоик, или, как его еще называли, киник, идеальный святой стоических писателей, отвергал эти модификации и всю свою жизнь отдавал проповеди и практической реализации праведности. Другие особенности стоиков заключались в концепции долга и обязанности, которая, по крайней мере у римских стоиков, занимала видное место среди их второстепенных моральных принципов; в доктрине зависимости человека от общего порядка вселенной, – доктрине, которая имела тенденцию прививать фаталистический квиетизм, если бы ей не противодействовало энергичное самосознание, поощряемое стоической доктриной с другой стороны, -в абсолютном различии между мудрыми и глупыми как двумя диаметрально противоположными категориями людей, – и, прежде всего, в обращении всех тренировок и идеалов стоика к действию, выполнению функций, исполнению обязанностей в той жизненной ситуации, в которую его поставило провидение.
Эпикурейцы стояли в стороне от практики в гораздо большей степени, чем стоики. Целью их системы была жизнь, а не бизнес: целью их мудрости было наслаждение жизнью.
Они не исповедовали, подобно стоикам, что их мудрец способен хорошо выполнять любое из бесчисленных жизненных призваний, которые он мог бы выбрать. Они утверждали, что он будет жить как бог среди людей и победит смертность, наслаждаясь в каждое мгновение бессмертным блаженством. В то время как стоик представлял человека творением и подданным божества, эпикуреец учил его, что он сам себе хозяин. "Если стоики рационализировали мифологию своей страны в грубую и фрагментарную попытку теологии, то эпикурейцы отвергали все легенды о богах и отказывали божеству в какой-либо роли в регулировании дел людей. Оба были согласны в том, что этика основывается на естественной, а не на политической основе. Но они различались в применении термина "природа". Для стоика оно означало инстинкт самосохранения – поддержание нашего бытия во всей его полноте, – действие в соответствии с нашим долгом. Для эпикурейца это означало полное владение собой, наслаждение всем, что позволяют условия человеческой жизни.
Таковы были основные школы античной философии. Но были и другие школы, или, по крайней мере, другие названия философских взглядов, бытовавших в ранние времена Римской империи. Одной из них, и самой долгоживущей, было пифагорейство. Как и эпикурейство, оно носило полурелигиозный характер; оно цеплялось за имя своего основателя и поддерживало долгую традицию. Но оно сильно отличалось от последнего поэтическим и фантастическим характером своего учения, склонностью к суевериям. Примерно в первом веке после Рождества Христова к ней вернулась слава благодаря предполагаемым чудесам и сверхчеловеческой мудрости Аполлония Тианского, и с тех пор она продолжала оказывать большое, хотя и не очень благотворное влияние на прогресс античной философии и религии. Наконец, было несколько скептиков, этих кочевников философского мира,5 которые презирают всякую упорную культуру почвы и витают вокруг сонма догматических мыслителей, стремясь перебить их эскадроны маневрами минутной и придирчивой критики.
Во всех случаях следует помнить, что для древних философия не была пустяковым, чисто интеллектуальным занятием. «Философия, – говорит Сенека, 6– это не теория для всеобщего признания и не стремление к показу. Она не в словах, а в делах. Ее призвание не в том, чтобы помогать нам приятно проводить время или избавлять нас от тоски: она формирует и формирует ум, устанавливает порядок в жизни, направляет наши действия, указывает, что следует делать и что не следует делать; она стоит у штурвала и направляет курс, когда мореплаватель озадачен опасностями, подстерегающими его по обе стороны. Без нее никто не может жить спокойно, никто не может быть в безопасности: каждый час происходит бесчисленное множество вещей, требующих совета, а совет можно найти только в философии. Кто-то скажет: „Какая мне польза от философии, если фатализм верен? Что толку от философии, если Бог управляет миром? Что толку, если во главе всего стоит случай? Ведь то, что предначертано, не может быть изменено, а против неопределенности невозможно подготовиться. Либо Бог предугадал мой замысел и решил, что мне делать, либо случайность не оставляет моему плану места“. Независимо от того, верно ли каждое из этих положений или все они вместе, философия – наш долг: независимо от того, подчиняет ли нас судьба неумолимому закону, или Бог является судьей вселенной и устанавливает ее порядок, или случай беспорядочно управляет и запутывает дела человека, философия должна быть нашей защитой. Она побудит нас с готовностью повиноваться Богу и безропотно подчиняться судьбе; она научит следовать за Богом и мириться со случайностью».