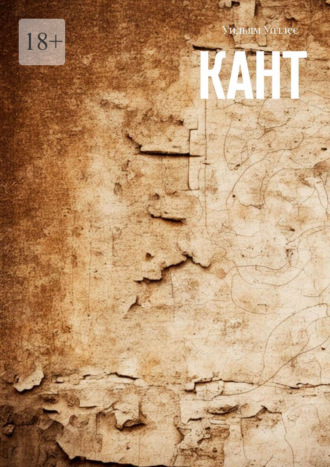
Уильям Уоллес
Кант
Глава 4. Профессор Кант в публичных и частных кругах
В 1770 году, в возрасте сорока шести лет, Кант достиг должности, которая была вершиной его амбиций. Уже в 1769 году Эрлангенский университет начал переговоры с целью заполучить Канта на должность профессора логики и метафизики; примерно в то же время аналогичное предложение поступило из Йены. Но так случилось, что теперь было возможно оставить Канта в Кенигс-берге, – курс, который, по его мнению, намного превосходил возможные преимущества в других местах. После смерти профессора математики образовалась вакансия; И было достигнуто соглашение, по которому Бак стал преемником кафедры математики, уступив Канту ту самую кафедру логики и метафизики, на которую он за двенадцать лет до этого безуспешно претендовал. 20 августа 1770 года, соответственно, Кант прочил себя на кафедру латинской диссертацией «О форме и принципах чувственного мира и мира интеллектуального» – сочинением, которое в схоластической и неравной форме, почти в самом названии, заложило те строки, которые в последующей «Критике разума» определяют, насколько возможно познание простым рассудком. Место ответчика в дискуссии занял его молодой еврейский друг, доктор Маркус Герц, впоследствии известный берлинский врач.
С 1770 по 1804 год Кант продолжал оставаться профессором в Кенигсберге. Правда, он не избежал соблазнов и побуждений из других мест. Он отказался от более прибыльной должности в Митаве, в Корнланде. Зед-лиц, министр школ и церквей при Фридрихе, был большим поклонником Канта, чьи лекции по физической географии он изучал по рукописным заметкам, привезенным в Берлин Краусом, одним из младших друзей Канта. Теперь Зедлиц стремился заполучить Канта для Галле, тогдашнего главного университета Пруссии, и, предлагая двойной доход, взывал к чувству долга профессора, чтобы тот передал неоценимые преимущества своего учения более многочисленному контингенту студентов. Кант, однако, не мог смириться с мыслью о том, что ему придется покинуть старые знакомые лица, и сделал так, чтобы его стипендии в 400 талеров (около 60 фунтов стерлингов) хватало, если добавить к другим выплатам, на экономное существование. В 1780 году он стал членом Академического сената, что влекло за собой небольшую дополнительную сумму в двадцать семь талеров. В 1786 году, в день воцарения нового короля, профессора получили общее повышение стипендии, что в случае Канта увеличило его доход до 440 талеров. Кроме того, в 1789 году Кант получил от прусского премьера (Вольнера) в весьма комплиментарных выражениях уведомление о том, что отныне он будет получать ежегодную прибавку в 220 талеров, в результате чего его доход в последнее десятилетие жизни достиг 660 талеров, или 100 фунтов стерлингов, что намного больше, чем та же сумма в настоящее время.
Кант поочередно занимал должности ректора или вице-канцлера университета. В первый раз, в 1786 году, ему выпало вручить новому государю почтение Альбертины по случаю принятия им подданства восточно-прусских подданных. В 1788 году он снова занял пост ректора – оба раза только на летнее полугодие. В качестве декана философского факультета ему несколько раз приходилось экзаменовать кандидатов на поступление в университет, и в этой должности он приобрел репутацию человека, придающего большее значение научной основательности, чем массе и масштабам приобретенных фактов. Как дисциплинированный человек он склонялся к мнению, что свобода приносит меньше вреда, чем чрезмерная сдержанность и принуждение в теплице.
В качестве профессора Кант продолжал читать лекции так же, как и в качестве приват-доцента, за исключением того, что он несколько ограничил количество часов. Отныне он привык читать лекции по два часа ежедневно в течение шести дней в неделю, добавляя в субботу третий час для катехизических целей. В понедельник, вторник, четверг и пятницу он работал с 7 до 9 часов утра, в среду – с 8 до 10, а в субботу – с 7 до 10. Год за годом в течение двадцати пяти лет он с беспримерной регулярностью продолжал ежедневно в течение одного часа читать лекции по логике или метафизике, а в течение другого – по какой-либо отрасли прикладной философии или по таким предметам, как физическая география или антропология. Один из его слушателей уверяет, что за девять лет, в течение которых он посещал занятия Канта, учитель не пропустил ни одного часа. Другой свидетельствует, что за пять лет Кант пропустил только одну лекцию, и то по причине недомогания.
Некоторое представление о стиле его лекций можно получить из следующих свидетельств очевидцев. Яхман, один из его биографов, так отзывается о его лекциях по метафизике:»…
«Не обращая внимания на трудность предмета для начинающего, можно сказать, что Кант всегда был ясен и привлекателен. Он проявлял особое мастерство в изложении и определении метафизических идей. Он проводил, можно сказать, эксперимент перед своей аудиторией, как будто сам начинал размышлять на эту тему. Постепенно вводились новые понятия, уточняющие первоначальную идею; шаг за шагом корректировались предложенные ранее объяснения; и, наконец, завершающий штрих был нанесен на концепцию, которая, таким образом, была полностью прояснена со всех точек зрения. Внимательный слушатель таким образом не просто знакомился с предметом, но и получал урок методичного мышления. Но тот слушатель, который, не зная, что такова процедура его учителя, принимал первое объяснение за правильное и исчерпывающее изложение и пренебрегал дальнейшими шагами, уносил домой лишь полуправду. Иногда в этих метафизических рассуждениях Кант, увлекаемый течением мысли, слишком далеко заходил за отдельными идеями и терял из виду главный предмет, тогда он внезапно обрывал их фразой: „Короче говоря, господа“ („In summa, meine Herren“), и без промедления возвращался к сути своего аргумента». Этот рассказ искреннего поклонника может получить достойное продолжение в несколько хладнокровном описании, относящемся к более позднему времени. В 1795 году, в семьдесят первом году жизни Канта, Граф фон Пургшталь, которому тогда шел двадцать второй год, приехал в Кенигсберг, чтобы увидеться с «патриархом» критической философии, которую он уже изучал у Рейнгольда в Йене. Вот как он рассказывает о своих впечатлениях от лекции Канта своему студенческому другу
«Его выступление имеет вполне обычный разговорный тон, и его едва ли можно назвать элегантным. Представьте себе маленького старичка, наклонившегося вперед, когда он сидит, в коричневом пальто с желтыми пуговицами, с париком и мешком волос в придачу; представьте себе, что этот старичок иногда вынимает руки из-под пальто, где они лежат скрещенными, и делает легкое движение перед лицом, как делает человек, когда хочет, чтобы кто-то другой его понял. Нарисуйте себе эту картину, и вы увидите его до волоска. Хотя все это едва ли можно назвать элегантным, хотя его слова не звучат четко, тем не менее все, чего его подача, если можно так выразиться, лишена по форме, с лихвой компенсируется совершенством сути…. Кант читает лекции по старой логике Майера, если я не ошибаюсь, он всегда берет эту книгу с собой на лекции. Она выглядит такой старой и запятнанной, что, думаю, он приносил ее в аудиторию лет сорок назад. На каждой странице у него есть заметки, написанные мельчайшими буквами. Многие печатные страницы заклеены бумагой, а многие строки вычеркнуты, так что, как видите, от „Логики“ Майера почти ничего не осталось. Ни один из его слушателей не приносит книгу на лекцию: они просто пишут под его диктовку. Он, однако, не замечает этого и с большой точностью следует за своим автором от главы к главе, а затем поправляет его или, скорее, говорит совершенно обратное, но все это с величайшей простотой и без малейшего проявления тщеславия по отношению к своим открытиям».
Необычайное единообразие жизни Канта позволяет нарисовать картину одного дня, которая может служить образцом для тысяч. Каждое утро за пять минут до пяти часов в спальню входил его слуга Лампе и звал Канта словами: «Пора» (Es inf Zeit). Равномерно, без исключений (по свидетельству самого слуги), зов был услышан, и в пять часов Кант был в своей гостиной или кабинете. Его единственной пищей была одна чашка чая (иногда бессознательно увеличиваемая до двух) и одна трубка табака. До семи часов он продолжал готовиться к лекциям. В семь часов он спускался в лекционный зал, откуда возвращался в девять.
После этого все утро он посвятил литературным трудам. В четверть часа он вставал и звал кухарку: «Уже три четверти», после чего она приносила ликер, который он должен был выпить после подачи первого блюда. Последние двадцать лет своей жизни, в течение которых он жил в собственном доме, за ужином у него всегда были гости – никогда, если это было возможно, меньше двух и редко, если вообще возможно, больше пяти. (Ограничение в шесть человек объяснялось тем, что его тарелки и т. д. были рассчитаны на такое количество гостей). Этих гостей приглашали утром того дня, в который они должны были обедать, поскольку Кант либо знал о грубости общих приглашений, либо не хотел, чтобы его друзья чувствовали себя связанными длительным и формальным обязательством. Но одного Кант ожидал от своих гостей – пунктуальности. Как только номер был заполнен, вошел Лампе и объявил, что суп на столе. Гости направились в столовую, беседуя ни о чем более глубоком, чем погода. Кант взял свою салфетку и со словами: «А теперь, господа» («Nun, meine Herren»), подал пример, угостившись из блюда, поставленного посреди стола. Ужин обычно состоял из трех блюд, в которые обычно входили рыба и овощи, и заканчивался вином и десертом.
Ужин и сопутствующие ему блюда длились с часу до четырех, а иногда и до пяти часов. Политика была частой темой разговоров, но все, что касалось метафизики, было строго исключено. Кант всегда охотно читал газеты и с радостью принимал почту, которая приносила их в Кенигсберг. В поздние годы судьба Французской революции была одним из его главных интересов, как и американская война за независимость в средние годы. Он с пониманием относился к усилиям нации по формированию форм своей общественной жизни. Когда пришло известие о создании Французской республики, Кант, обращаясь к своим друзьям, сказал со слезами на глазах: «Теперь я могу сказать, как Симеон: «Господи, отпусти раба Твоего с миром, ибо видели очи мои спасение Твое».
По мнению Канта, разговор за ужином проходит три стадии – рассказ, обсуждение и шутка Когда третья стадия заканчивалась, в четыре часа Кант выходил на конституционную прогулку. В последующие годы, по крайней мере после 1785 года, это был одиночный променад. Он никогда не был крепким – никогда не болел, но и никогда не был здоров. Его грудь была плоской, почти впалой, с небольшой деформацией правого плеча, из-за чего его голова немного наклонялась на эту сторону. Всю свою жизнь ему удавалось сохранять здоровье благодаря упорному соблюдению определенных правил питания и режима. Одна из них заключалась в том, что микробов болезней часто можно избежать, если систематически дышать носом; по этой причине в последние годы жизни Кант всегда ходил один с закрытым ртом. Он также старался избегать пота. Обычно он прогуливался по берегу Прегеля в направлении Фридрихова форта; но этот так называемый «Философский дом» в современном Кенигсберге заменен железнодорожным вокзалом и другими перестройками. Другие прогулки были на северо-запад от города, где его друг Гиппель, главный магистрат (Oberbiirgermeister), сделал многое, чтобы украсить окрестности новыми дорожками и садами.
Вернувшись с прогулки, он принялся за работу, – возможно, прежде всего улаживая какие-то мелкие дела, читая какие-нибудь книжные новинки, а может быть, и газеты, к которым у него всегда был большой аппетит. С наступлением темноты он устраивался у печки и, устремив взгляд на башню церкви Лобенихта, размышлял над проблемами, которые занимали его ум. Однако однажды вечером, когда он смотрел, произошла перемена – церковной башни больше не было видно. Соседские тополя росли так быстро, что в конце концов, сам того не замечая, скрыли за собой башню. Кант, лишенный материальной поддержки, которая поддерживала его догадки, был совершенно выбит из колеи К счастью, сосед оказался щедрым: верхушки тополей были срезаны, и Кант снова мог спокойно размышлять. Около 9.45 Кант прекратил работу, а к десяти часам благополучно укрылся гагачьим пухом. До последних лет жизни его спальня не отапливалась даже зимой, хотя в гостиной, как говорят, поддерживалась температура 75° по Фаренгейту – утверждение, с которым трудно согласиться.
В эти годы его профессорства вокруг Канта собрался еще один круг друзей. Гаманн, правда, все еще продолжал поддерживать с ним некоторую близость; но связь между этими двумя людьми, никогда не бывшая очень крепкой, заметно ослабела, поскольку годы показали радикальное
расхождения в их образе мыслей. Одним из таких друзей зрелого возраста был Г. Гиппель (1741—1796), кенигсбергский билргермейстер, автор ряда работ, проливающих свет на социальную историю Кенигсберга прошлого века. В одной из этих книг, «Lebenslaufe in Aufsteigendcr Linie» (1779), Гиппель ввел так много идей кантовского характера, что в 1797 году, после смерти Гиппеля, Канту пришлось фактически опубликовать формальный отказ от авторства этой, а также другой работы Гиппеля («Heber die Ehe»), обе опубликованные анонимно. Чтобы объяснить сходство мнений, он добавил, что Гиппель в 1770—1780 годах много писал в тетрадях студентов и часто беседовал с ним на философские темы, Один пример отношений, существовавших между этими двумя людьми, может вызвать улыбку. В письме к Гиппелю он предложил закрывать окна на время исполнения гимнов и добавил, что надзирателям тюрьмы, вероятно, следует дать указание принимать менее звучные и раздражающие соседей песнопения как свидетельство покаянного духа их пленников. Каков был результат применения Канта, мы не знаем.
J. Г. Шеффнер (1736—1820) был еще одним другом Канта. Однако наиболее известный период жизни Шеффнера относится к более позднему времени. Его патриотическое и либеральное поведение во времена лихолетья в Пруссии, его связи со Штейном, его откровенная, но вежливая дружба с королевой Луизой и ее мужем, когда они укрылись в Кенигсберге, относятся к истории его страны.
Более близким другом Канта был Христиан Якоб Краус (1753—1807), некогда его ученик, впоследствии профессор моральной философии, получивший широкую известность благодаря своим лекциям по политической экономии. Краус, как и Кант, был воспитанником и наставником в доме Кейзерлингов. В последние годы жизни философа среди его друзей было мало таких преданных и самозабвенных, как Краус, который иногда отказывался от приглашения в деревню и проводил каникулы дома, не желая оставлять Канта за одиноким столом. На прогулках он также был частым и желанным спутником Канта, который был высокого мнения (по-видимому, вполне оправданного) о талантах своего младшего. Эта нежная дружба сохранялась до конца жизни Канта.
Из других рыцарей стола профессора Канта достаточно назвать имена. Это Зоммер (1754—1826), священнослужитель в Кенигсберге: В ранние годы он участвовал в тех веселых загородных вечеринках, которые собирались в коттедже лесничего Вобсера в Модиттене, а в более поздние годы стал еженедельным гостем. Были братья Яхман – младший медик, старший – своего рода директор по образованию в Данциге и Кенигсберге; Васянский, пастор Траггеймской церкви в Кенигсберге, друг Канта в последние годы его жизни; и Боровский (1740—1831), сын пономаря в городе, который в конце концов стал архиепископом (единичный случай применения этого титула) в Евангелической церкви. Последние трое особенно дошли до потомков благодаря своим интересным воспоминаниям о философе. Имена Йенша, городского советника и судьи по уголовным делам; Вигилантиуса, другого городского сановника, который посещал лекции Канта, занимая свой официальный пост; Хагена, авторитета в области естественных наук; двух братьев Матерби – старшего купца, младшего врача – сыновей старого друга юности Канта: таковы некоторые из имен, записанных нам Реушем, последним из этой группы. К этому списку можно добавить Кинка, еще одного автора биографических заметок и редактора некоторых лекций Канта. Кант всю жизнь прожил холостяком. Некоторые штрихи в его «Замечаниях о возвышенном и прекрасном» могут навести на мысль, что в ранние годы он не был равнодушен к любовным утехам. Но суровая бедность лишила его возможности предаваться этим мечтам; а когда годы шли и приносили достаток, но не богатство, он, вероятно, почувствовал, что подходящий сезон для брака закончился и прошел. Вероятно, его собственные обстоятельства наложили отпечаток на его сознание, и он уже не раз высказывал свое мнение о контрасте между сроком, который природа предлагает для соединения полов, и временем, установленным для брака условностями и потребностями социальной жизни. И все же даже в зрелые годы, согласно более или менее обоснованным сплетням, он был героем двух неоформившихся и обрывочных любовных интрижек. Симпатичная молодая вдова с мягкими манерами так тронула сердце философа, что он начал сводить свои счета, чтобы понять, сможет ли он позволить себе такую роскошь, как жена. Но прежде чем его расчеты были завершены, а планы определены, будущая невеста покинула Кенигсберг и нашла более быстрого претендента на свою руку где-то в прусском Оберланде (на юге). В другой раз, если верить этим досужим россказням, повторилась та же история, только на этот раз героиня стала очаровательной спутницей вестфальской дамы, приехавшей в Кенигс-берг. И здесь Аманда уезжает домой до того, как скрупулезная предусмотрительность Канта позволит ему сделать свой выбор. Более достоверным является рассказ простодушного пастора города, чье сострадание к одинокому состоянию Канта побудило его напечатать диалог, увещевающий о браке как о долге и благословении. Семидесятилетний пастор сдержанно улыбнулся глупому другу, оплатил расходы на печать диалога «Рафаэль и Тобиас» и распекал шута за столом. Но ему было неприятно слышать намеки или замечания по поводу своего безбрачия.
Вероятно, темперамент Канта был более расположен к свободе дружбы в обществе, чем к сравнительному рабству супружеской жизни. Долгие годы испытательного срока, несомненно, наложили на него печать нескольких особых привычек и сделали его особенно нетерпимым к любому вмешательству в его свободу. Однажды, как рассказывают, он принял приглашение знатного друга сесть в его карету, и в результате, к своему собственному отвращению, проехал гораздо больше времени и расстояния, чем предполагалось изначально. С тех пор он дал себе зарок никогда не садиться в карету, пока сам не назначит час и дорогу. Подобное нетерпение к контролю сделало его собственным врачом. С помощью различных гигиенических предписаний, которые он вывел из собственных размышлений, он старался избегать врачей. Забота о здоровье и его собственные правила для этого были темой, на которую он всегда был готов поговорить.
Большое внимание он уделял медицинским вопросам. Его бумаги показывают, что в последние годы жизни он приносил с собой еженедельный список рождений и смертей в Кенигсберге. Он имел привычку обсуждать достоинства нововведений в медицине – таких, например, как брунонская теория (книга Джона Брауна «Элементы медицины» впервые появилась в 1780 году) и доктрины вакцинации Дженнера, которые были обнародованы только в последние годы века. Вплоть до своей последней болезни единственным лекарством, которое Кант принимал от рук профессионалов, были аперитивные таблетки, прописанные его старым другом по колледжу доктором Траммером.
Если Кант с недоверием относился к медицинскому факультету, то к юристам и духовенству он был склонен относиться с не меньшим уважением. У него была благородная идея о Церкви, но он не нашел ее воплощения в церквях своего времени. Сакердотализм, даже в самых мягких его формах, был ему так же отвратителен, как суеверный и чувственный сверхъестественный мир, с одной стороны. В жизни их героя есть момент, который вызывает глубочайшую боль у некоторых его биографов, – он никогда не входил в двери церкви. В особый день, когда профессора с ректором во главе шествовали в собор, Кант однажды занял место впереди; но у дверей церкви он повернул в другую сторону и удалился в свои комнаты. Для свободной души Канта сектантство, не считавшееся ни с чем, кроме профессиональных интересов, при исполнении священной обязанности поддерживать тело и дух в порядке, могло быть только в высшей степени отвратительным. Как и его король и современник, он был прежде всего нетерпим к мелочности, от которой во многом зависит профессия юриста, к той нетерпимости, с которой священники часто претендуют на то, чтобы руководить совестью людей, и к традиционным методам, с помощью которых медицинская традиция пытается лечить болезни. Каждый человек сам себе врач, каждый человек сам себе адвокат, каждый человек сам себе священник – таков был идеал Канта.
Мужчина с такими возвышенными представлениями о независимости вряд ли найдет много женщин, которые будут ему сочувствовать или даже понимать его. Что для них жизнь без условностей, без врача и священника? Кроме того, Кант был в некотором роде красавцем. В молодые годы приват-доцент, хоть и был маленьким (чуть больше пяти футов), всегда старался одеваться как джентльмен. В рясе коричневого или ярко-песочного цвета, с жабо, в треугольной шляпе, в шелковых чулках, с тростью (в прежние времена, когда мода предписывала, на его невоинственном боку висела шпага) он выглядел на улицах вполне прилично: парик и мешочек для волос завершали его костюм. Сохранился один из счетов его цирюльника (обратная сторона бумаги использовалась для записей), показывающий, насколько умеренной была плата за прическу в Кенигсберге. У Канта были и свои способы одеваться: механическое приспособление, с помощью которого он подвешивал чулки, подробно описано Васянским. Он был склонен рассуждать о философии одежды не меньше, чем о разговоре. Он затрагивал сравнительный эффект белых и черных чулок, придающих лодыжкам видимость тучности, и замечал, что мы можем взять урок правильной гармонии цветов в нашей одежде у обыкновенной ушной раковины.
Все это было естественным результатом долгих лет холостяцкой жизни. С 1762 года Канта обслуживал верный слуга по имени Мартин Лампе, уроженец Вюрцбурга. Как и капрал Трим, Лампе был старым солдатом и, вероятно, вносил дополнительный штрих в трубно-глиняный и женоненавистнический уклад заведения. Кант очень привязался к своему слуге Когда однажды некоторые из его друзей в шутку сказали, что опасаются, как бы Кант не покинул их на том свете и не стал искать более приятного общества среди ушедших философов, Хо ответил на это: «Никого из ваших философов; я буду вполне счастлив, если у меня будет общество Лампе». Но Лампе, который в один прекрасный день удивил Канта, явившись в желтом плаще вместо своей ливреи из белой ткани с красной отделкой и сообщив хозяину о своем намерении в тот же день жениться, с годами становился все менее приятным. Наконец, за два года до смерти Канта, его пришлось уволить; но имя его древнего сожителя не ушло от Канта так легко, как ушло его телесное присутствие, и мудрец-ветеран счел нужным записать в своем блокноте: «Имя Лампе должно быть полностью забыто». Однако он не забыл об интересах Лампе и воспользовался возможностью смягчить тяготы старости с помощью небольшого пособия. Из безбрачия Кант сделал свои наблюдения о женщине и отношениях между полами. Его замечания не являются недоброжелательными или в целом несправедливыми, но они страдают от эффекта дистанции и антитезы. У него был острый глаз на недостатки пола и сильное чувство иллюзий и условностей, которые набрасывают «красивую фикцию» – духовную фиглярку – на наготу естественных влечений. Все его замечания сделаны с исключительно мужской точки зрения В отличие от Платона, он направляет свой взгляд почти исключительно на разнообразие между полами, а не на идентичность человеческой природы, на двуполое существо, в котором они являются взаимодополняющими половинками. Поэтому мы не удивляемся, когда слышим, как он внушает своим подругам высшую важность кулинарии как женского достижения. Он лелеял существующие в мужском мире предрассудки против синих чулок. «В человеческой природе заключена великая наука женщины, а в человеческой природе особенно мужчины» (Der Inhalt der grossen Wis- senschaft der Frauen ist vielmehr der Mensch, und unter den Menschen der Mann). «Дама, у которой голова забита греческим, как у мадам Дасье, или которая участвует в серьезных механических спорах, как маркиза де Шатле, может с тем же успехом обзавестись бородой: она, возможно, лучше выразит характер глубины, к которой она стремится».
Эпоха Канта была эпохой сватовства, а не эпохой эстетического или страстного любовного поединка. Он смотрел на брак как на средство для счастья людей, способ облегчить и сделать более приятным свой путь в мире. Передовые интеллектуалы того времени вели непрерывную войну против фанатизма и суеверий, против фантастических экстравагантностей страсти и инстинктивной веры Разум был их дозором; Разум был их божеством. Необоснованная вера, недисциплинированное воображение – вот враги, которых они больше всего ненавидели. Просвещение разума, просветление, свобода от предрассудков чувства и традиции были в их глазах более важными целями, чем простое увлечение образованием ради него самого. Здесь была великая и благородная идея, но из-за своей ограниченности она легко принимала прозаический и утилитарный аспект Если век Канта был веком критики, то это не был век исторической проницательности или сочувствия к прошлому Мыслители, о которых мы говорим, слишком остро ощущали свой долг icraser V infame, чтобы видеть какую-либо красоту в структурах старой веры и традиционного авторитета, которые они надеялись разрушить. Избавление от инкубатора правительственного, юридического, сакрального гнета было задачей, которая закаляла чувствительность к красотам искусства и изыскам чувств.
Однако уже во времена Канта существовал еще один ряд течений. Уже в середине века исследования Винкельмана выявили Грецию как истинную школу европейской культуры. Его современники, Гаманн и Гердер, подтвердили доктрину, что история человечества – это не абстрактный философский процесс, а поэма, пронизанная чувством и верой. Они обращали внимание на таинственную двойную природу языка как воплощения разума в чувстве и материальности. Сочувственная историческая оценка прошлого и некультурного поднималась то тут, то там, чтобы изменить и украсить слишком тревожную преданность требованиям полезности и разумности как единственно необходимого. Но из всего этого нового света Кант увидел немного, а то немногое, что он увидел, он посчитал простым прозрением. В сложных и неправильных красотах средневековья он, как и большинство его современников, видел лишь беспорядок и фантастическую глупость. Готическая архитектура казалась карикатурой, плодом извращенного вкуса и варварской эпохи. Монашество и рыцарство были неестественными и фанатичными отклонениями. Величественная старая громада Мариенбурга, древняя резиденция тевтонских рыцарей, здание, которое ученый Кант, Теодор фон Шон, восстановил в прежнем великолепии (и которое, по его словам, не переставало впечатлять всех посетителей, кроме двух, причем одного из них подозревали в отцеубийстве), – об этой громаде Кант, как и его современники, вероятно, едва слышал. Имя Шекспира не встречается в работах Канта, а когда он говорит о Гомере, то предлагает перевод Поупа, более прямой, чем оригинал, вероятно, он плохо знал греческий. «Старые песни от Гомера до Оссиана, от Орфея до пророков», – говорит он в одном случае, – «обязаны блеском своего стиля отсутствию надлежащих средств для выражения идей».
Эта ограниченность сознания Канта эстетической и эмоциональной стороной особенно заметна в области литературы и искусства Он не видел картинных галерей. Он говорит о коллекционерах гравюр только для того, чтобы привести иллюстрацию одной милой слабости. Единственной гравюрой, украшавшей стены его комнаты, был портрет Руссо, да и тот, вероятно, был подарен. К произведениям искусства, которые опытная графиня Кейзерлинг собрала в своем особняке, он никогда не проявлял особого интереса. В музыке его любимыми звуками были волнующие ноты военного оркестра: он предостерегал своих учеников от усыпляющего воздействия тоскливых и заунывных песен. В поэзии его вкус, вероятно, формировался по образцу классических бардов Древнего Рима. О Мильтоне и Поупе он отзывается с уважением, хотя и по разным причинам; однако Мильтон, «как и Гомер, казался ему преступающим границы хорошо регулируемого воображения и граничащим с фантастикой». Халлером Ив рано научился восхищаться; Бюргер и Виланд также упоминаются в числе поэтов, которых он читал. Но, вероятно, ему больше пришлись по вкусу выступления комических и сатирических муз.
Среди них Лисков, а позднее Лихтенберг – особенно комментарии последнего к картинам Хогарта – давали ему возможность расслабиться и развлечься. Более известные поэты и романисты, которые группировались вокруг правления королевы Анны, такие как Свифт, Филдинг, Аддисон, Батлер, Ричардсон, Стерн, Юнг и Поуп, были, по-видимому, довольно хорошо знакомы ему. Но в целом можно сказать, что Кант искал в литературе облегчение контраста, отдых в те часы, когда он оставлял стебельчатые занятия этикой и метафизикой. Мир искусства как таковой – за исключением тех случаев, когда он служит удовольствию или облегчению естественной и необучаемой чувствительности, – был для Канта почти terra incognita.
Это внешнее влияние искусства объясняется отчасти ранним воспитанием Канта, а отчасти провинциальной атмосферой, в которую попал его жребий Кинигсберг лежал слишком далеко от общего течения человеческого прогресса и интересов. Он еще не был в полной мере освещен той культурой, которая в эту эпоху излучалась из Парижа и Центральной Германии. Но если искусство не стало привычной сферой, в которой его ум мог парить в лазурном небе, то влияния природы, которые либо своим величием, либо свидетельством разумного приспособления приятно падают на обычный ум, произвели на Канта особое впечатление. «Звездное небо надо мной и нравственный закон во мне», – вот две вещи, которые вызывают в душе все новое и новое восхищение и благоговение», – говорит он. К тем небольшим проблескам, которые обычные явления природы позволяют увидеть работу интеллекта, он относился не менее остро, чем к более возвышенным аспектам Вселенной. Однажды он рассказал своим друзьям, как, проходя мимо одного здания во время ежедневной прогулки, заметил несколько молодых ласточек, лежавших мертвыми на земле. Присмотревшись, он обнаружил, что, как ему показалось, старые птицы на самом деле выбрасывают своих птенцов из гнезд. Это было время года, отличавшееся нехваткой насекомых, и птицы, очевидно, жертвовали некоторыми из своих отпрысков, чтобы спасти остальных. «При этом, – добавил Кант, – мой рассудок затих: единственное, что здесь можно было сделать, – это упасть и поклониться». Однажды, по его словам, он держал в руке ласточку и смотрел ей в глаза; «и когда я смотрел, мне казалось, что я вижу небо». Всю жизнь он не переставал помнить о том уроке разума в природе, который он получил на коленях у матери. И в последней из трех критических работ, «Критике способности суждения», он дал свое систематическое изложение веры в разум, которая укрепляет и направляет исследователя в поисках естественного порядка.







