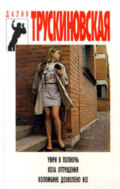Далия Трускиновская
Подметный манифест
Тут Федьку вроде как осенило. Терешка назвался крепостным некого господина, чье прозвание выговорил совсем тихо, только Архаров и разобрал.
– Беглый ты, что ли? – спросил Федька. – Боишься, что к барину вернут? Да Господи! Пошли, я тебе все растолкую. Господин Архаров никого не выдает. Вот я знаешь кем до чумы был?
– До какой чумы? – спросил парнишка. И точно – был деревенский! Их тех краев, куда московские новости и не залетают…
– На Москве чума завелась, – увлекая его с собой вслед архаровским саням, начал Федька и довольно связно, более того – кратко рассказал о том, как из тюремных колодников вербовали мортусов. Повествование было увлекательным, Терешка сам не замечал, что шаг его ускоряется, и даже стал спрашивать – больше всего его обеспокоило убийство митрополита Амвросия в Донском монастыре. Федька, не догадавшись, нагнал страху – поведал, как сурово расправились с убийцами и их пособниками, чтобы наилучшим образом преподнести покровительство мортусам. И тут-то он собеседника потерял – не дождавшись описания казни, Терешка кинулся бежать.
Федька догнал его уже за Неглинкой. Парнишка не сообразил свернуть в сторону, а, может, побоялся – так и бежал прямо, размахивая руками, прекрасно заметный на свежевыпавшем снегу.
Когда же он понял, что полицейский может его поймать, повернулся и встал в известную позу человека, вооруженного ножом, – тут уж Федьку было не провести! Он только запоздало удивился тому, что взрослых мужиков тщательно обыскали, а насчет парнишки – поленились, что ли?
– Брось нож, – сказал, подходя, Федька. – Брось, кому сказано?
Парнишка пятился, готовый обороняться. Федька же, как на грех, был безоружен. Одни пистолеты остались на Лубянке, другие укатили в архаровских санах.
А он знал, что загнанный в угол звереныш способен на опасные дурачества.
Архаров не старался силком вбить в подчиненных свои правила сыска. Кто-то понимал сам – Клаварош, к примеру. Кто-то, не разумея надобности вглядываться в лица, когда есть свидетели и улики, просто занимался не допросами, а иными делами – работы в полицейской конторе всем хватало. Федька не полагал себя сыщиком высокого полета – ему хотелось действовать, а право размышлять он предоставил Архарову так же доверчиво, как дитя предоставляет няньке право кормить себя и одевать.
Он не мог не видеть, как Архаров помогает ему понемногу карабкатьтся вверх. Равным образом он догадывался, что ему многое прощается – догадывался, уже учудив нечто неподходящее, а то и после ядовитых Демкиных шпилек. Но зависть пролетала мимо Федьки – сам он не был завистлив.
И вот настал час, когда нужно было действовать так, как действовал бы Архаров – если бы Архаров догнал и задержал беглеца.
Трое мужиков могли заготовить какое-то ловкое вранье и выдержать плети Шварцевых подручных, ни на шаг от него не отступая. А парнишка знал правду о их похождениях – недаром же прикрикнул на него тот зверообразный дядя.
На Лубянке уже родились свои легенды об остром взгляде обер-полицмейстера. Его методу Федька на словах знал, а применять на деле пока не умел, да и мало кто умел – метода была вне привычной логики, и трудно простому человеку упомнить, который взгляд вверх или же вниз означает вранье. Архаров же знал это словно бы изначально.
Но Архаров был далеко, а Терешка с ножом – вон он, напротив.
Федька запоздало попытался встряхнуть в памяти беседу – когда, после каких слов этот детинка кинулся бежать? Толковали же о давних событиях, и Федька как раз хотел подвести к тому, что после того, как изловили убийц митрополита, Архаров отстоял своих помощников, не позволил вернуть их в тюрьму, не выдал!.. А он? Не дослушав, так и понесся прочь…
Чем его так ошарашило убийство митрополита?
– Брось нож, – повторял Федька. – Довольно дурачиться… брось, говорю…
Слова выговаривались языком сами, меж тем в голове, кажись, образовалась мысль, и мысль простая.
Терешка же беглый, так? И те трое – беглые.
Десятские постоянно ловят людей, передающих слухи о том, что крестьяне помещика – ну, скажем, господина Иванова, – с косами и вилами взяли штурмом барскую усадьбу, бар покрошили в капусту, а сами подались навстречу маркизу Пугачеву. Слухи крамольные, болтать о таких делах не велено, однако то и дело канцеляристы полицейской конторы записывают новые имена…
Нападение на митрополита Амвросия и его кончина взволновали Терешку, но не до такой степени, чтоб удирать. А вот наказание убийцам, три виселицы и воз розог, перепугали – как если бы он, натворив бед, лишь сейчас осознал меру ответственности.
Но он же ответил на вопрос, откуда таков взялся! И Архаров слышал его!
Вот потому-то он, поди, и беглый! И дядья его, угрюмые мужики, – тоже. Разгромили господский дом и, не зная, на что себя употребить, отправились колобродить на Стромынку…
Федька встал в пень – то ли бежать к начальству со своим открытием, то ли всеми силами задерживать Терешку.
В голове не было полной ясности, а язык меж тем действовал!
– Да будет тебе… Ты что ж, до утра так стоять собрался? Я же крикнуть могу – десятские понабегут, они тут ночью ходят по переулкам, ловят, коли кто без фонаря шатается… А, вишь, не кричу… спрячь нож-то…
Тут-то Терешка на него и кинулся.
Федька был и сильнее, и тяжелее, и опытнее. Он уклонился, перехватил руку с ножом, заломил, Терешка взвыл, выронил нож и забился, брыкаясь, снег так и летел из-под валенок.
– Всех вас, всех!.. Всех резать, всех!.. – выкрикнул он, уже падая на колени. – Ничего, небось, придет надежа-государь! Виселиц на всех хватит!..
– Ишь до чего договорился! – воскликнул огорченный Федька. – Молчал бы, дурак. А теперь и тебя придется в нижний подвал сдавать… Видать, и ты барскую усадьбу громил, барина с барчатами порешил. Эй! Караул! Сюда, ко мне!!!
Орал он довольно долго, Терешка меж тем грозился надежей-государем и обещал подпустить Рязанскому подворью красного петуха. Наконец прибежали двое десятских, несколько растерялись, признав в крикуне полицейского, и помогли Федьке связать парнишку. Общими усилиями его доставили обратно в полицейскую контору, заперли в конуре верхнего подвала, не развязывая, и Федька что было духу поспешил на Пречистенку – поймать в такое время извозчика он не рассчитывал.
В голове его возникали и рвались причудливые связи – как портрет Вареньки мог бы попасть в ту разгромленную усадьбу? Федька уже и до того додумался, что портретов было два. И до того, что в усадьбе жили ее подлинные родители, правду о коих так усердно скрывала старая княжна Шестунова.
Он прибыл, когда Архаров лег спать и на сон грядущий, уже туго соображая, слушал Сашу, уныло читавшего и тут же переводившего на русский французскую книжку.
Никодимка, понятное дело, не хотел пускать к их милостям Николаям Петровичам такого заполошного гостя, и явившийся в сени Меркурий Иванович, тоже вытащенный из постели, поддержал Никодимку.
– Да что вы, дурачье, в сыске смыслите?! – возмущался Федька. – Эти налетчики барина своего с семьей зарезали, усадьбу сдуру пожгли, пошли по большим дорогам шалить! Тут же, сразу, нужно команду полицейских драгун высылать! Всех в ружье! Тут же, рядом, в Черкизове!.. Портретик-то – из барского добра!..
Этой ночью в особняке остались Клаварош, Захар и Михей. Никодимка сбегал за ними в третье жилье, спустились Клаварош с Михеем и забрали к себе уставшего буянить Федьку.
Наутро он, не дожидаясь пробуждения Архарова, уже сидел под дверью спальни. Никодимка, торжественно шествующий с подносом, на котором возвышался серебряный кофейник с ароматным паром из носика, попросил его отворить дверь, но попытку прошмыгнуть пресек весьма громко и сердито.
Наконец Федька был допущен к начальству и пылко доложил свои соображения.
– Так, – сказал Архаров. – А теперь ступай в людскую, пущай покормят.
Марфина логика теперь стала ему окончательно ясна: одно дело воры, другое беглые, кои перед тем, как сбиться в шайку, убили помещика и разграбили усадьбу. Коли изловят шайку, да при допросах всплывет ее имя – тут уж мало что поможет… лучше таких дорогих гостей самой сдать, хотя тоже непонятно – почему она сразу не высказала своих подозрений… да ведь и навел на нее кто-то этих разбойников, откуда бы деревенщине знать, кто на Москве промышляет порой скупкой краденого?..
Федька, несколько огорченный архаровским спокойствием, пошел было из спальни прочь, да у порога резко развернулся.
– А портрет, Ваша милость?! Как он-то к ним попал? Ведь коли его в разоренной усадьбе взяли, ваша милость?!.
– Пошел вон, – сказал Архаров. – И без твоих воплей башка пухнет.
Федька покорно вышел.
Он умом-разумом понимал, что Варенька Пухова никак не могла оказаться в той усадьбе. Ее хотели везти лечиться на юг, а уж никак не в село Стромынь…
И тут Федька едва не хлопнул себя по лбу.
Ведь именно в том направлении ездил Саша Коробов к какому-то деревенскому знахарю, умеющему поболее столичных докторов! Что, коли Вареньку с ее грудной болезнью туда же повезли? Московские старухи упрямы – они готовы скорее слушать юродивого, предрекающего всякую невнятицу, чем врача, закончившего Петербургскую медицинскую школу. Что, коли такой юродивый вкупе с приживалками сбил с толку старую княжну Шестунову, и она отправилась с Варенькой к знахарю?
В людской за длинным столом сидели Клаварош, Захар и Михей, ели кашу, рядом крутились все красавицы архаровской дворни – прачки Настасья и Дарья, поварская дочка Иринка, «черная» кухарка Аксинья. Федька сел с краю, ему тут же навалили в миску пшенки с постным маслом, отрезали хороший ломоть хлеба, а уж посолил он сам. И со всех сторон стали уговаривать есть поболее, не стесняться, потому что добавки не жалко – барин велел давать архаровцам добавки вволю.
Архаров заявился вниз при полном параде – выбрит до младенческой нежности щек, букли ровненько загнуты, волосья сверху чуть приподняты, как теперь модно, и припудрены, пудра еще не успела осыпаться на богатый зеленый кафтан.
– Готовы? Поехали, – сказал он. – Федя, сядешь со мной, все толком доложишь.
Федька просиял и вскочил, смахнув пустую миску на пол.
В санях он изложил свои выводы, особливо напирая на только что изобретенного знахаря. Архаров слушал внимательно – он сам не раз беседовл с Сашей о необычных методах этого старца, и одним даже сильно заинтересовался – это было чепучинское сидение. Хворого помещали в бочку, набитую распаренным разнотравьем, и в бане хорошенько прогревали. Саша не раз и не два проходил курс такого лечения, а насчет величины бочки как-то все уворачивался. Архаров, хотевший установить подходящую для себя посудину в собственной бане, всякий раз оказывался вовлечен в какие-то посторонние рассуждения. Очевидно, Саша боялся, что начальство, севши по-турецки, не поместится и в четырехпудовую кадь для зерна – если только знал, неисправимый книжник, о существовании такой кади.
– Не так уж глупо, – сказал Архаров, когда уж подъезжали к Лубянке. – Сейчас продиктую письмо, поедешь к драгунским казармам, спросишь майора Сидорова – знаешь такого?
– Как не знать!
– Отдашь ему. И сам с ним отправишься, понял?
Это была награда из наград!
Федька онемел, глядя на командира влюбленными глазами.
Пожалуй, на Лубянке только старик Дементьев не знал, что Федька Савин последний умишко растерял из-за Вареньки Пуховой. Сперва посмеивались, потом перестали – видели, что товарищу тяжко. Кто Варенька и кто Федька? У нее в Санкт-Петербурге, родители, может, графы и князья, а он – полицейский, просто полицейский, до офицерского звания ему, может, вовеки не дотянуться. А без офицерского звания нет дворянства, а без дворянства его и на порог не пустят…
Федька даже старался не проходить лишнего раза по Воздвиженке, где жила старая княжна Шестунова, чтобы не смущать душу. Однако хворь не проходила, Варенька все снилась и снилась, и, наверно, именно потому, что была совершенно недосягаема.
Знал про эту беду и Архаров.
Он вовсе не собирался посылать кого-либо из архаровцев с полицейскими драгунами на Стромынку. Им и в Москве дела хватало. Решение родилось вдруг – и он, отдав приказание, ощутил легкую зависть к Федьке. Федька открыто впал в бессловесный восторг – Архарову же такое свойство не было дано. Все свои радости и горести он держал глубоко внутри, на волю не выпускал – да и куда выпускать, на эту каменную физиономию?
Его бы самого кто этак наградил…
Но, шуганув из головы глупые мысли, как птичница шугает воробьев, норовящих целой тучей опуститься на корм, брошенный курам, Архаров вдруг забеспокоился. Федька горяч, не натворил бы чего – а натворить он может, коли по дороге из-за нетерпения своего поссорится с драгунами. Кого-то следовало еще отправить – уже для обуздания Федьки.
Тимофея нельзя – Тимофей нужен в Москве. Его спокойствие, в чем-то сродни архаровскому, уж очень хорошо действовало на мазуриков и крикунов, постоянных гостей Рязанского подворья. Чувствовалось, что этот крепкий мужик так же спокойно единым тычком все зубы виноватому выбьет и не поморщится. Чувствовалось и другое – этому не соврешь, он через такое прошел, что любого вруна вмиг раскусит.
И Демку нельзя – Демка уйдет на два дня, переодевшись у Шварца в чулане совершеннейшей чучелой, а вернется с точными сведениями: где искать столовое серебро, похищенное у князя Эн. Теперь же, когда идет такая охота за возможными лазутчиками самозванца, Демка особенно необходим.
Степана Канзафарова разве?
Тоже опасно – Федька его живо с толку собьет, коли речь о спасении бывшей невесты его покойного хозяина.
Архаров перебрал в уме едва ль не всех архаровцев, и получалось, что либо человек ему в Москве самому нужен, либо человек с Федькиной страстной натурой не управится.
Приехав, он сразу велел подать к себе запись начавшегося ночью допроса, и Устин внятно прочитал по ней, что четверо пленников все – ереминские, господина Курловского.
– Где у нас Еремино? – спросил Архаров. – И кто такой Курловский?
Устин пожал плечами.
И точно – кто их знает всех, этих мелкопоместных господ, владельцев дюжины крепостных душ, проживающих в двух сотнях верст от трактов, весной и осенью – совершенно недосягаемых из-за распутицы, являющихся в Москву или в Санкт-Петербург раз в десять лет, в дворянских мундирах времен государыни Анны, привозящих дочек на выданье и недорослей, приписанных к полкам. Еремино – может, сельцо в десять почерневших изб, соломенные крыши которых к весне наполовину разобраны, потому что нечем кормить скотину. А может – богатое село, с барской усадьбой, окруженной парком, со своими промыслами… нет, вряд ли. Зачем бы мужикам, хорошо живущим, резать господ?
Это до Архарова никак не доходило.
Он задумался.
Думал Архаров недолго – первая же мысль оказалась весьма разумной.
– Демку ко мне! – заорал он. – Макарку, Максимку! Живо!
После чего усмехнулся обычной своей малоприятной улыбкой, от которой Устин всегда ежился, и сказал противным тоненьким голоском:
– Так-то, голубчики мои… не увернетесь…
* * *
Незадолго до Рождества Дунька затеяла учить французский язык.
Она знала уже немало слов по отдельности и вовсю ими пользовалась, доводя своего сожителя до хохота, завершавшегося порой икотой. Она не хуже петербуржской щеголихи пересыпала свой московский бойкий говорок такими прелестями, как «ридикюль», «решпектовать», «плезир» или «ваперы». Но ей хотелось блистать всерьез – и она через Марфу упросила Клавароша написать ей тетрадку со всякими изречениями, чтобы вставлять их к месту.
Клаварош не был великим грамотеем. Ворча, он взялся за перо. Всей тетрадки не исписал – а сказал Марфе, что с Дуньки и трех страниц за глаза довольно, вряд ли придворные щеголихи в Санкт-Петербурге знают более. Как оказалось, он был прав.
Дальше началось сущее мучение. Клаварош писал по-французски, а Дунька и русские-то буквы лишь недавно принялась разбирать. Пришлось условиться с девицей из модной лавки – она, принося ленты и кружева на дом, читала Клаварошевы истины вслух, а Дунька старательно повторяла, копируя ее выговор.
Иные звуки ей не давались вовсе.
– Тон ель ди уи, куан та буш ди ном!
Девица закатывала глаза к потолку и всем видом показывала, что близка к обмороку.
– Тон оль ди ви, кван та буш ди нон! – поправлялась Дунька.
Так и бились над одной парижской остротой по получасу и более. Причем Дунька даже не всегда могла бы перевести на русский это свое заимствованное остроумие.
Господин Захаров, услышав как-то из ее уст очередное изречение, произнес эпиграмму, насчет смысла коей Дунька долго ломала голову: похвалил или же унизил? Звучала эпиграмма так:
Что дал Гораций, занял у француза —
О сколь собою бедна моя муза!
Да верна – ума хоть пределы узки,
Что взял по-галльски – заплатил по-русски!
На всякий случай Дунька решила ее заучить.
В ее сознании эпиграмма как-то увязывалась с Терезой Фонтанж. Был в ней некий потаенный смысл. Ничего, ничего, внушала себе Дунька, хоть французский, хоть китайский язык выучу, хоть на клавикордах, хоть на арфе бренчать буду, а уж на театре и подавно тебя перещеголяю – и то, что ты сделала на свой парижский лад, я перешибу на русский лад!
Произведя определенные маневры и дождавшись такого визита сожителя, что он и в хорошем настроении приехал, и успешно совершил все необходимое для своего и Дунькиного удовольствия, она преподнесла историю о встрече с госпожой Тарантеевой и о приглашении бывшей хозяйки. И приласкалась, и устроила целое представление. В бытность свою при актерке Дунька немало нахваталась стихов, исполняемых на театре – при том, что видела хорошо если две пиесы. Заучила она их с хозяйкина голоса и, по природной своей переимчивости, замечательно копировала актрису.
Актриса предпочитала куски из таких пиес, где доводилось ей исполнять главную роль – они и поболее были, и по чувству – трагичнее. Скажем, в «Корионе» господина Фонвизина, что шел на московском театре незадолго до чумы, она играла благородную любовницу Зенобию. И даром, что «Корион» – комедия, а для Зенобии были написаны весьма возвышенные речи, которым полагалось бы вышибать слезу из простодушного зрителя. Госпожа Тарантеева даже утверждала, будто ей сие удавалось. Дунька же была не из слезливых, и размеренные возвышенные тирады, оснащенные рифмами, на нее имели мало влияния.
Не впервые она их употребляла, чтобы насмешить покровителя – не понимая, впрочем, от чего он заходится таким младенческим хохотом, но исправно пользуясь диковинным средством. Особливо когда что-то в доме делалось не по ее уму или же возникали ничем, по ее мнению, не оправданные запреты.
– Какое варварство еще ты предпримаешь? – вопрошала она, прижимая руку к груди на актерский манер. – Какие лютости ты мне приготовляешь? Что слышу от тебя? Жестокий, утуши смущение моей прискорбныя души!
После чего все варварство с лютостями вместе немедленно оказывались забыты.
Гаврила Павлович сам увлекся идеей вывести свою мартону на подмостки и даже пообещал оплатить ее театральный гардероб, буде дойдет до премьер и дебютов. Так что на святки Дунька, встретясь в лавке мадам Буше (Лелуарше она отныне всячески показывала свое презрение) с Маланьей Григорьевной, сказала, что сожитель про театр и слушать не желает, а сама она твердо решилась попытать счастья.
Накануне Сретенья госпожа Тарантеева прислала Дуньке записку, где и когда будет ее ждать с санями. Дунька во избежание неприятностей показала записку сожителю и, получив его согласие, принялась собираться.
Ей очень хотелось затмить нарядом актерку, и все утро она вертелась перед зеркалом, совсем загоняв Агашку. Перемяла великое множество лент самых благородных оттенков. Наконец в условный час Дунька вышла из дома и поспешила к Ильинским воротам. Бежать было недалеко, Маланья Григорьевна уже ждала ее в санках, приветствовала бурно – невзирая на мороз, расцеловала в обе щеки. Дунька села в санки – и замелькали люди, замелькали дома…
– Маланья Григорьевна, матушка, что-то мы не в ту сторону едем! – вдруг сообразила Дунька. – Лефортово не там…
– А мы не в Лефортово. Тот господин, что театр заводит, на Сретенке хороший дом снял, меня туда со всем добром перевезли. Вот, живем… и, Фаншета, не поверишь, как муж с женой живем, я впервые в жизни, поди, мужские чулки сама постирала!
Сей подвиг был для актерки до того забавен, что она рассмеялась.
– Теперь-то у нас слуги, и живу я – как генеральша, – Маланья Григорьевна усмехнулась и повторила это прекрасное слово, как бы с намеком на свое замечательное будущее: – Генеральша…
– Сретенка – это славно, – согласилась Дунька, прикинув, что туда и добираться будет проще, и при нужде легче найти извозчика, чем на краю света в Лефортове.
Миновав Сретенские ворота, сани проехали еще немного и повернули направо, встали у хорошего каменного дома.
– Приехали, душенька, – сказала Маланья Григорьевна. – Тут мы и поселились. Идем скорее!
Привратник, следивший за улицей из окошка, распахнул им двери, они вошли в теплые сени, где горел огонь в немалом камине, и госпожа Тарантеева повела Дуньку в свои новые апартаменты – хвалиться мебелями и нарядами.
– А сожителя покажешь? – спросила Дунька.
– Кабы дома был – показала бы. Съехал со двора, без меня собирался, гляжу… сейчас девку кликну, что за свинство…
В спальне на полу лежал белый чулок немалого размера.
Госпожа Тарантеева дернула за шнурок, соединенный с незримым колокольчиком где-то в глубине дома – звона Дунька не услышала, – и тут же стала доставать браслеты, застегивать их на тонкой ручке, показывать, сколь красиво блестят камушки. Девка все не шла.
Дунька уж думала, что эта похвальба никогда не кончится, однако актриса воистину всей душой принадлежала не любовникам, а театру, и, закрыв укладку с побрякушками, достала из щегольского бюро тетради с ролями и томики напечатанных в типографии пьес.
– Теперь господина Фонвизина «Бригадир» в большой моде, в частных домах аматеры вовсю играют, – сказала актриса. – Я видела – и Боже упаси! Ни благородных чувств, ни монолога приличного! Смех от того, что персоны на сцене – те же, что всякий день то в модной лавке, то в гостях видишь. Там и играть-то нечего – что Советница, что Бригадирша… передразнить дуру-щеголиху или московскую просвирнб, вот и вся игра. Сие на сцене не приживется, ты уж мне, душа моя, поверь.
– А что приживется? – полюбопытствовала Дунька.
– А то же, что всегда образованные зрители любили, – благородная трагедия в стихах. Давай попробуем сцену из «Хорева», – предложила госпожа Тарантеева. – Мою любимую. Там есть чувства, которые можно показать, и движения души, там героиня что ни слово – меняется, то манит к себе любовника, то отталкивает, в такой роли можно блистать! Пойдем в гостиную, там и посветлее, и попросторнее. Я буду читать за Оснельду, а ты – за Хорева.
– За кого? – не поняла Дунька.
– Хорев – любовник Оснельдин. Да не удивляйся, душенька, на домашних театрах вечно то мужчины женские роли играют, то дамы кавалерами рядятся. Ты не слыхала, как при покойной государыне кадеты сумароковские комедии представляли? У них усы пробиваются вовсю, а они девиц изображают, вот была государыне потеха! Начнем же?
– Начнем! – отважно сказала Дунька.
Понимая, что всю сцену объяснения новоявленной актерке не осилить, Маланья Григорьевна взяла один кусок – тот, где у Оснельды слов много, а у Хорева – мало, семь стихотворных строк. Дунька прочитала их по тетрадке раза три, каждый раз – все лучше, и была уж готова изображать пылкого любовника.
Госпожа Тарантеева встала посреди гостиной в позу – рука протянула вперед, взгляд не отрывается от кисти, плечи развернуты вполоборота к воображаемому зрителю, – и заговорила торжественно, нараспев, стараясь наполнить речь трагической Оснельды самыми возвышенными чувствами:
– Ах, князь, к чему уж то, что я тебе мила?
К чему тебе желать, чтоб я склонна была?
Не мучь меня, не мучь, не извлекай слез реки;
Уж больше не видать тебе меня вовеки.
Когда тебе судьба претит меня любить,
Старайся ты меня из сердца истребить.
Дунька зазевалась, и актерке пришлось довольно долго стоять окаменевши, пока она вспомнила слова и произнесла их, точно так же протянув руку и с тем же трагическим чувством в голосе:
– Коль любишь, так скажи, исполнь мое желанье;
Пускай останется хотя воспоминанье!
И далее последовали пылкие слова Маланьи-Оснельды, сопровождаемые заученными движениями рук, которые Дунька, глядя на нее, невольно повторяла:
– Люблю… Доволен ли? Поди из глаз моих,
Оставь меня в тоске, останься в мыслях сих,
Я все вздыхания свои напрасно трачу…
И далее Маланья Григорьевна убеждала Дуньку-Хорева искать иной любви, обещая вспоминать избранника по гроб жизни, и непременно со слезами.
Дуньке в ответ полагалось разразиться громкими пенями и призывами, но ничего из этой затеи не вышло: ей показались смешны собственные крики, и она невольно рассмеялась. Госпожа Тарантеева тоже не выдержала.
Начали сцену Оснельды с Хоревом заново. Вышло чуть получше. Но, когда у Дуньки уже стало получаться сносно, не выдержала госпожа Тарантеева.
– Вещаешь о любви ты только мне маня, – упрекнула Дунька-Хорев Маланью Григорьевну, причем впервые ей удалось передать смысл слов: по-простому Хорев говорил Оснельде, что она лишь приманивает его беседами о любви, а подлинного амурного доказательства страсти все нет и нет.
– Как я тебя люблю, люби ты так меня, – пылко произнесла актерка и совсем по-девичьи зажала смешливый рот рукой.
– Фаншета, сие немыслимо! Как гляну на твое декольте – так тут же хохот разбирает!
– Как же быть? – деловито спросила Дунька. Она понимала, что мало похожа в своем фишбейном, широко растопыренном платье и с грудью, открытой до самой ложбинки, на древнерусского князя Хорева, однако как одевался Хорев – понятия не имела.
– А вот как – нарядим тебя кавалером!
– А у вас найдется во что?
– Найдется! Жди меня там! – и актерка без дальнейших объяснений поспешила из гостиной прочь.
Дунька пошла, куда велено, – вернулась в уютную спаленку с альковом и дорогими мебелями. Белого чулка на полу уже не было. Но она про это и забыла.
Наконец-то Дунька могла повнимательнее разглядеть трехногий туалетный столик. Он весь, и столешница, и гнутые бока, был инкрустирован разноцветными древесными кусочками, причем занимательно – издали казалось, будто бока составлены из махоньких кубиков и на ощупь угловаты, вблизи же Дунька увидела, что это – лишь искусно составленные плоские ромбы. Выше столик был опоясан несложным завитковым узором, и далее опять шли фальшивые кубики. А для описания его формы у Дуньки и слов-то не нашлось бы – нечто округло-волнистое, однако весьма щегольское!
Столик стоял у стены, Дунька подошла совсем близко, сколько позволяла пышная юбка, и присела на корточки, чтобы разглядеть устройство боковых дверок, – со всех ли они сторон и как запираются. Тут-то она и услышала голоса.
Один был громче, другой – тише, но оба – одинаково невнятные, и Дунька, напрягая слух, даже расстроилась – да глохнет она, что ли, раз не в силах ни словечка разобрать! Вдруг прозвучало «Либер готт», и до Дуньки наконец дошло – незримые мужчины ругались по-немецки.
Немецкий язык был на Москве не в диковинку. Там еще тех немцев потомки жили, что были наняты государем Алексеем Михайловичем, когда он затевал свои солдатские полки нового строя. Иные обрусели, иные, роднясь между собой, сохранили прозвания и речь. А сколько их при государе Петре Алексеевиче понаехало? А при государыне Анне Иоанновне? Только Елизавета Петровна, более склонная к французским затеям, как-то поприжала немцев. Так что Дунька кое-какие немецкие слова знала изначально. В том числе и ругательные.
Мужчины по этой части не скупились – и проклятыми псами друг друга честили, и дерьмо поминали, но вдруг один явственно выговорил: «Ваше сиятельство!» В обращении была некая непонятная Дуньке издевка, далее опять шли немецкие слова, и опять язвительное «ваше сиятельство», и опять дерьмо, которое на немецком произносилось с мерзким змеиным шипом. Причем очень скоро Дунька поняла: молодой ругатель знает немецкий язык не очень-то хорошо, спотыкается, зато для старого он – родной.
Вмешался женский голос с какими-то расспросами. Женщине отвечал тот из мужчин, что постарше, кратко и весьма сердито. Дунька поняла – это, скорее всего, девка либо домоправительница, получила нагоняй и пропала.
Странным показалось, что госпожа Тарантеева так тесно сошлась с немцами.
Обернувшись на дверь и держа ушки на макушке, Дунька пошла обследовать постель и нашла под подушкой мужской ночной колпак. Это ей мало о чем говорило, колпаки зимой носят почти все, хотелось отыскать нечто особенное. Дунька заглянула под кровать и вытащила оттуда предмет, хорошо ей известный.
Эта была одинокая ватная накладка на голень, которую закладывают в чулок мужчины с тощими икрами.
Маланья Григорьевна не врала – она доподлинно жила с мужчиной, мужчина этот был немец и почему-то от гостей прятался.
Тут издали затрещали каблучки госпожи Тарантеевой – Дунька успела лишь сунуть накладку под подушку, к колпаку. Актерка влетела в спальню, таща в охапке ярко-голубой кафтан, розовый камзол в цветочек, треуголку, штаны и даже шпагу.
Распустив Дуньке шнурование, Маланья Григорьевна помогла ей выбраться из тяжелого темно-зеленого платья и стала учить, как надевать мужской наряд. Башмачки Дунька оставила свои, чулки и нижнюю сорочку – тоже, влезла в штаны по колено, актерка застегнула их внизу и наверху, потом был надет камзол, который не сошелся на груди, и поверх него – кафтан, даже шпагу привесили.
Коли бы приводить Дуньку в истинно кавалерский вид, то следовало бы подобрать ей волосы, загнуть по обе стороны лица неизбежные букли, а длинную косу, туго заплетя и перехватив у основания шелковым бантом, сложить чуть ли не вчетверо и упрятать в черный замшевый кошелек – иные господа носили косы в кошельках, иные – так, но в Дунькином случае волосы следовало спрятать.
Однако и без того много времени потратили на переодевание. Поэтому Маланья Григорьевна просто нахлобучила Дуньке на голову треуголку, сдвинув ее лихо набекрень. И тут же Дунька поспешила к зеркалу.
Из стеклянного овала, обрамленного бронзовыми завитками с листьями и плодами, на нее глядел бойкий круглолицый паж, темноглазый и румяный, правда, малость курносый, но все равно прехорошенький.
– Ах, мужчина! – воскликнула, жеманясь, Маланья Григорьевна, играя подхваченным с бюро голландским расписным веером, как будто он был необходимой принадлежностью древнерусской княжны. – Ты бесподобный болванчик! Притащи себя ко мне! Я до тебя ужасть какая охотница!