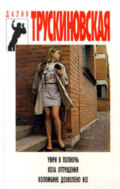Далия Трускиновская
Подметный манифест
– Все, вестимо, не собрались. Но кое-кого встречал. И есть у меня подозрение, что по меньшей мере один человек из Петербурга выехал в Москву, самозванцу навстречу.
– Кто таков? – тут же сурово спросил Архаров.
– Один из моих служащих на улице Брокдорфа повстречал.
– Брокдорфа я помню… – Архаров тут же помрачнел. – Голштинец, камергер на час… Его тут только недоставало.
– И я так полагаю, – весомо сказал Шварц.
На сей раз долгих историй не понадобилось. Архаров и без них знал, что голштинец может натворить бед.
Брокдорф объявился в Санкт-Петербурге вскоре после того, как родился царевич Павел Петрович и еще не завершились празднества, устроенные по этому поводу. Это не было его первой попыткой завоевать столицу – однажды этого голштинского дворянина просто-напросто прогнали с российской границы, причем озаботились этим приближенные великого князя Брюммер и Бергхольц. Еще один интриган при малом дворе, как называли двор великих князя и княгини, им попросту не был нужен.
Голштинец все же умудрился проскользнуть под видом торговца стеклом, был принят великим князем, готовым облобызать любого дурака, лишь бы из любезной Голштинии, и нашел ход к графу Петру Шувалову, причем ход хитрый – познакомился со сводником, который устроил сожительство между графом и некой девицей Рейфенштейн. У трех сестриц Рейфенштейн он однажды повстречал графа и с его помощью попытался исполнить при дворе незамысловатый курбет – поссорить великого князя с великой княгиней. Не удалось, и тогда Брокдорф решил использовать влияние Шувалова для иной цели – чтобы выпросить у государыни Елизаветы немалую сумму денег для великого князя. В надежде на эти обещанные Брокдорфом деньги Петр Федорович, опять же по его совету, выписал себе из Голштинии целый взвод солдат. Обнаружилось это, когда голштинцы прибыли морем в Кронштадт, а оттуда – в Ораниенбаум. Великий князь на радостях стал открыто носить голштинский мундир, что сильно уязвило преображенцев – ведь он числился подполковником Преображенского полка. Архаров был привезен в Петербург и определен в полк вскоре после тех событий и невольно запомнил слухи и толки, связанные с голштинцами.
– Это предателей в Россию привезли, – таково было общее армейское и гвардейское мнение.
Великий князь, решительно ни с чьим мнением не считаясь, поселился в лагере со своими голштинцами и был счастлив. В конце концов, осенью их отправили обратно. А Брокдорфа так и продолжали звать генералом – в память о тех маневрах.
Немудрено, что «генерал» запомнился бдительному Шварцу тем, что сумел устроить доставку в Россию целого вооруженного отряда и потом немало им занимался, угождая великому князю.
– И чем же потом сей голштинец занимался? – спросил Архаров.
– Почти тем же самым, сударь мой. В солдатиков играл.
Осенью и зимой, когда лагерная жизнь и маневры поневоле прекратились, главной забавой великого князя стали игрушечные солдатики из дерева, свинца, воска и крахмала. Он устроил себе для них особливую комнату, где велел поставить длинные и узкие столы. На этих столах разыгрывались целые баталии, а также устраивались парады и ежедневно проводилась смена караулов. Великий князь присутствовал на парадах в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, того же требуя и от своей свиты. Брокдорф угождал ему еще и тем, что прилюдно называл великую княгиню Екатерину змеей. За что и поплатился – при первой возможности Екатерина, попав в милость к императрице Елизавете, добилась его удаления от двора.
Также весь двор знал, что Брокдорф был доносчиком и едва не подвел под топор графа Алексея Петровича Бестужева. Обвинение было нешуточное – государственная измена, кончилось дело ссылкой, из коей опытного дипломата вернула уже государыня Екатерина.
Более Шварц об этом интригане и авантюристе не знал ничего, а после шелковой революции и вовсе не имел о нем сведений. Однако полагал, что голштинец остался в России, где успел завести себе приятелей. Да и не до Брокдорфа ему было – иных забот хватало.
Знаменитые и загадочные кнутобойцы Шварца за пределами Лубянки были мало кому известны. На улицах их не узнавали. Шварц очень заботился о том, чтобы они в свободное от службы время жили достойно, и это вознаграждалось – никто из служителей нижнего подвала не боялся подойти к нему, обратиться с вопросом, казалось бы, отношения к их ремеслу не имеющим. Так и вышло, что ему рассказали о появлении человека, сильно похожего на Брокдорфа, рассказал же некий Кондратий Барыгин, которого Шварц самолично вывез из Петербурга, когда был переведен в московскую полицию.
– Надо разобраться, – решил Архаров. – Твой человек знает сего голштинца в лицо. Пусть побегает там, где его случайно встретил, авось вдругорядь повезет.
– Да и не он один. В Москве найдутся еще знакомцы, кои могли бы опознать Брокдорфа, – сказал Шварц. – Из тех, что удрали сюда от греха подальше в шестьдесят втором.
– Им веры нет.
– А может, и есть. Одно дело – покойного государя оплакивать, иное – признать за государя оренбургского самозванца. Для того надобно…
– Что надобно?
– Либо дураком быть, способным искренне уверовать, будто государь Петр Федорович уцелел и одиннадцать лет в башкирских степях скитался, либо бешеным интриганом, вздумавшим признать самозванца и через то получить от него свою выгоду. И, поверьте мне, сударь мой, еще неизвестно, какой род врага хуже…
– Ох, мать честная, Богородица лесная… – пробормотал Архаров. – Голштинцы – это, стало быть, первый кус поросенка. Второй кус – боярство московское! То-то будет злорадства!
– Будет пресловутый кукиш в кармане. Сии господа более осторожны, нежели можно судить по их смелым объявлениям. Ибо сим господам есть что терять. А прямого бунтаря, сударь, не угодно ли? – спросил Шварц. – В бытность государыни Елизаветы в Москве такое дело вышло. У нас тут стоял Бутырский полк, а в нем служил поручиком господил Батурин, именем – Асаф… Не задумывайтесь, Николай Петрович, в святцах такого имени нет. Сам проверял.
Архаров усмехнулся – подчиненный накрепко запомнил его блажь и деловито ей соответствовал.
– Нехристя бы поручиком не сделали, – заметил он.
– Кто ж говорит, что нехристь? Я полагаю, он был из армян, а они тоже крещеные, только на свой лад. Его считали большим негодяем и при том человеком решительным. Так вышло, что государыня Елизавета Петровна, прибыв в Москву, взяла с собой наследника Петра Федоровича. И он, Батурин, через охотников, что ведали сворой наследника, исхитрился ему передать, что якобы предан ему и со своим полком вместе. У того, прости Господи его душу грешную, ума всегда недоставало – он с Батуриным заигрывать стал. Тот как-то его подстерег на охоте и бухнулся в ноги. И поклялся не признавать другого государя, кроме Петра Федоровича. И грозился при том все тут же исполнить, что ему великий князь прикажет. Тут наследник наконец-то до полусмерти перепугался, пришпорил коня и ускакал, оставив Батурина на коленках в лесу. Но у нас в Тайной канцелярии тоже молодцы служили бдительные – несколько дней спустя Батурина повязали и привезли в Преображенское. Тут он, будучи пытан, разговорился – и государыню Елизавету Петровну убить замышлял, и дворец поджечь, и в суматохе великого князя Петра Федоровича на престол возвести.
– Лихо он это затеял… На престол – в суматохе…
– А чего ж вы желали бы от армейского поручика? Дали ему пожизненное заключение в Шлиссельбурге, пытался бежать. Тогда сослали навеки в Камчатку. Такие вот у нас в армии буйные головы вызревают.
– Второй кус – обиженные поручики. Третий?
– Фабричные, поди, еше не позабыли, как их за хождение в Донской монастырь драли…
Архаров кивнул. Троих человек, кои нанесли первые удары покойному митрополиту Амвросию, выявили и повесили в том самом месте, где совершилось убийство. Еще шестьдесят, среди которых были даже дворяне, сдуру замешавшиеся в буйную толпу, пороли кнутом и, вырезав ноздри, отправили в Рогервик, на каторгу. При розыске явилось, что в толпе было много мальчишек. Этих высекли розгами и отпустили.
– Четвертый?
Шварц призадумался.
– Что ваша милость слыхала о староверах?
– Да ничего, – честно признался Архаров. – На что они мне? Вот разве кладбища…
После чумы пришлось и этой докукой заниматься. Во время поветрия всех хоронили за московскими заставами – и князь Волконский решил, что так тому быть и впредь. Новорожденные кладбища – Ваганьковское, Дорогомиловское, Даниловское и прочие, – были узаконены, а хоронить в самой Москве, при церквях и монастырях, – запрещено, кроме знатных персон, да и то – за пределами Белого города. Таким образом князь еще и избавил московские улицы от похоронных процессий.
Но когда он этим занимался к нему обратились старообрядцы и сумели получить дозволение устроить свои два кладбища – Рогожское и Преображенское. А поскольку староверы сидели тихо, то это было чуть ли не единственным, что знал о них Архаров.
Шварц кивнул, соглашаясь – и то, на кой обер-полицмейстеру законопослушные жители Москвы. Хотя законопослушные – до поры.
– Врать не хочу и на невинных людей наговаривать, а сдается, что в этом деле и староверы у нас объявятся. Тоже – издавна обиженные и могут поддержать того, кто им посулит Москву. Им ведь тут жить не велено, а селятся на окраинах чуть ли не тайком. А они люди работящие, коли промышляют торговлей – так имеют барыши, им вся Москва нужна. К тому же, в тех краях, где подвизается самозванец, полно казаков-раскольников. Может статься, у тех с нашими связь налажена, на манер почты.
– Пятый кус поросенка?
– Пока станет с нас, сударь, и четырех. Этими дал бы Господь не подавиться…
* * *
Устин отпросился у старика Дементьева и быстро шел по Лубянке к Сретенке. Он понял наконец, что надобно сделать ради Дунькина спасения. Эта радостная мысль затмила все неприятные, и одно лишь огорчало Устина: как же он раньше не догадался-то?
А неприятного хватало. Из Оренбурга приходили дурные вести – самозванец (уже сделалось известно, что подлинное его имя – Емелька Пугачев) держал город в осаде и пытался штурмовать. А зима там выдалась ранняя – к концу октября выпало столько снега и так примораживало, что установился санный путь. Бунтовщики обстреливали Оренбург из пушек, в городе начались пожары, осажденные голодали – у них отобрали муку и крупы для ежедневной справедливой раздачи провианта. Справедливости не получилось – чиновники, памятуя пословицу «кому – война, а кому – мать родна», тут же наладили спекуляцию съестным. Сгорело запасенное на зиму сено, коровы передохли, конина считалась лакомством.
Усмирить бунтовщиков были посланы регулярные воинские части. Но под деревней Юзеевой бунтовщики нанесли поражение отряду генерал-майора Кара, взяли в плен гренадерскую роту, а под самым Оренбургом заманили в засаду отряд полковника Чернышова. И к ним присоединялись народы, коих Устиново воображение выводило из библейского Вавилона с его смешением языков: киргиз-кайсаки, башкиры, поволжские татары, чуваши, мордвины…
Устин обо всем этом ввек бы не знал, кабы не служба. Архаров со Шварцем додумались употребить в дело десятских. Это были обыватели, которые, получая наряд от полиции и литеру на кафтан, днем следили за порядком на улицах, а ночью – чтобы население не шастало без фонарей. Им было велено приносить на Лубянку все слухи, коими полнилась Москва, и сведения о подозрительных людишках. Устину же досталось вместе с прочими канцеляристами записать немало ахинеи и околесицы, простодушного вранья и глубоко продуманной клеветы. Но в результате он знал довольно много правды об успехах бунтовщиков.
Сейчас, однако, эта правда была ему ни к чему. Он и думать о ней не желал, а тем более – замечать, что московские улицы сделались несколько иными, больше грубых слов звучало там, где собирались оборванцы, ощущалось тревожное ожидание странных и страшных событий, а в спину тем, кто, был хорошо одет, летели угрозы. Устин шел просить милости Божьей и настраивал себя на благостный молитвенный лад. Он даже не ругал себя за беспамятство, а благодарил Господа за то, что дал вспомнить вернейшее средство от Дунькиных проказ. Сейчас наиглавнейшим было это – а не былые грехи и не служебные обязанности.
Устин Петров в душе себя архаровцем не считал.
Во-первых, не колобродил, не задирал девкам подолов, не бил посуду в кабаках, не ввязывался в драки. Во-вторых, хотел со временем сподобиться духовного звания. Потому себя берег и соблюдал. А то, что он волей графа Орлова угодил под начало к полковнику Архарову, считал нелегким, но и не чересчур изнурительным испытанием.
Впрочем, должность, в которую его определили в полицейской конторе, ему нравилась и особо сложной не казалась. Он был приучен к соблюдению определенного порядка в бумажных делах еще в пору околоцерковной своей юности, помогая батюшка вести брачные и крестильные ведомости – что делалось в каждом храме. Кроме того, отец Киприан, видя его усердие, приставил его и к исповедальным спискам. Эти велись особенно строго – чтобы выявлять уклоняющихся от исповеди и причастия.
После многих тягот и испытаний, после бегства в леса и самосожжений во имя двоеперстного сложения, раскольники-староверы притихли и несколько угомонились. Немало потомков тех отчаянных бунтарей вернулось в старую столицу. За ними нужен был присмотр – чтобы не сманивали в свою веру. Опять же, появились секты – всяких беглый монах или поп-расстрига почитал за должное по-своему понять Евангелие и сбить вокруг себя стайку единомышленников. До блажи доходило – иным молитву заменяли пляски, доводящие до умоисступления. Все эти люди, по форме состоя в том или ином приходе, от православной обрядности потихоньку уклонялись – и всякий священник обязан был о них знать и их отечески увещевать.
Почему-то в исповедальных списках указывалось еще и ремесло исповедуемого. Может, чтобы не путать тезок, – подлинной цели Устин не знал, но коли велено – писал, мог и еще чего по своему разумению добавить. Шварц обо всем об этом его досконально расспросил, прежде чем допустить присутствие бывшего дьячка на Лубянке. И те давние навыки не раз пригодились Устину даже когда просто перебелял бумаги. В иной «явочной» ни складу, ни ладу – а он где слово добавит, где слова местами переставит – получалось почти вразумительно. Однако сам он считал свое занятие временным и ждал лишь возможности убраться с Рязанского подворья. А она все никак не подворачивалась. И он порой болезненно ощущал свое состояние – состояние человека, застрявшего в ловушке и не имеющего сил вырваться.
Но сейчас душа уразумела свой путь и понеслась, и понеслась!..
Если по Лубянке бежать к Сретенским воротам, то как раз возле них по левую руку будет Сретенский монастырь, сам по себе не слишком старый, зато при нем есть храм Марии Египетской, вот тот по древности – третий на Москве, древнее – только Спас на Бору в Кремле и Всехсвятский на Кулишках. Храм – одноглавый, небольшой, с гладкими стенами без украшений, глубоко вросший в землю, а рядом – Сретенский монастырь с большим пятиглавым каменным собором, с высокой надвратной колокольней, с каменными кельями. Но именно малому храму еще при царе Петре был прислан дар от иерусалимского патриарха Досифея, частица мощей преподобной Марии Египетской – плюсна левой ноги, и хранится там в серебряном ковчеге.
Вот где преклонить колени и со слезами молить, чтобы преподобная упросила Господа избавить Дуньку от блудных вожделений! Вот где – а не шастать по храмам, небесные покровители коих отвечают совсем за иные стороны человечьего бытия!
Приведя себя в должный восторг, Устин подошел к храму Марии Египетский, заранее зажав в горсти несколько полушек – на милостыню. И обмер, услышав слаженные протяжные голоса. Трое слепцов пели на паперти, а народ слушал, иные – уже прослезившись: слепцы пели духовный стих, пели так, что за душу брало. Устин прислушался – это был пересказанный по-простому кусочек из жития преподобной Марии Египетской:
Пошел старец молиться в лес,
Нашел старец молящую,
Молящую, трудящую,
На камени стоящую.
Власы у нея – дубова кора,
Лик у нея, аки котлино дно.
Устин сразу же понял, что именно такова была святая, некогда гордившаяся своей телесной красотой, после сорокасемилетнего отшельничества, и ужаснулся, и умилился – ему самому не дано было так служить Богу, его постоянно допекали мирские заботы. И он искал, кому бы из людей послужить со всем пылом души, чтобы через это к Богу приблизиться, и нашел было Митеньку – но Господь прибрал Митеньку, как бы говоря этим Устину: ты не ищи служить наичистейшей душе, ты вот вынь из грязи и омой в слезах грешную душу.
Вот и послал эту самую грешную душу, к которой даже непонятно, как подступиться!
Подошел и встал рядом низенький инок – средних лет, с узкой седеющей бородкой, розовощекий, Устин невольно посмотрел на него – инок приветно улыбнулся.
– Ты не Всехсвятского ли храма дьячок будешь? – спросил тихонько.
Устину было стыдно признаться этому благостному человеку, что служит в полиции. И мысленно он возблагодарил Господа за то, что перемазал вчера мундир, опрокинув на себя плошку с конопляным маслом. Квартирная хозяйка обещалась за день так отчистить пятна, что и следа не останется, и Устин поплелся на Лубянку в тулупчике поверх старого полукафтанья.
– Я тебя признал, а ты меня – нет, – сказал инок. – Я тебя запомнил, когда все на поклон к надвратному образу ходили, на всемирную свечу деньги собирали. Я – Аффоний, а тебя как звать?
– Устином, отче…
– Сие значит – от праведного корени. А мне имя как бы в насмеяние дадено, означает – «изобилие», а обитель у нас небогатая, живем скудно. Всякой милостыньке рады.
– Я потом в храм помолиться пойду, положу в кружку, – пообещал Устин.
– Спаси Господи…
Слепцы меж тем, описав испуг старца и успокоительные слова отшельницы, перевели дух и, возвысив голоса, возгласили главное:
«Я тридцать лет во пустыне живу,
Я тридцать лет на камени стою —
Замоляю грехи великие,
Замоляю грехи великоблудные».
А и тут жена просветилася,
Видом ангельским старцу открылася,
И велела она вспомнить ее,
Величати Марией Египетской.
Устин, потрясенный тем, как встретил его храм, как встретила сама преподобная, стоял, тяжело дыша и твердо зная: свершилось чудо. Духовный стих был неким тайным знаком, что его молитва будет услышана. И тут же его осенило – он просто обязан был немедленно бежать на Ильинку, отыскать Дуньку и поведать ей про храм Марии Египетской.
Дунька же в этот миг, знать не зная и ведать не ведая про Устиновы устремления, кинула последний взгляд в зеркало и поспешила вниз, к экипажу. Хотя она жила на Ильинке, но пешком по ильинским модным лавкам не ходила, хоть три сажени – да проехать, задрав нос! Не в карете – так на саночках.
Ей в лавках, собственно, ничего не требовалось, кроме приятного общества. Марфа была умна, превосходно с Дунькой ладила, да только Дуньке хотелось компании ровесниц, молодых щеголих и вертопрашек, беседы о модных платьях и вещицах, об увеселениях, о галантных кавалерах и об амурных шашнях.
Она села в санки, запряженные одной лошадкой, оправила юбки, сунула руки в соболью маньку, висевшую на шелковом шнуре, подсказала кучеру Фаддею, как ловчее укутать ей ноги тяжелой медвежьей полостью и велела ехать по Ильинке неторопливо, чтобы видеть, кто входит в лавки и выходит из лавок.
Это имело еще и тайный смысл – Дунька сильно любопытствовала насчет лавки мадам Фонтанж. Упрямо не желая посещать заведение, приобретенное на архаровские деньги треклятой французенкой, она все же держала ушки на макушке и запоминала на всякий случай, кто из знакомцев и знакомиц покупает у мадам Фонтанж.
Напротив была такая же лавка, принадлежавшая мадам Лелуар. Вот тут Дунька и велела Фаддею остановиться. Кучер помог ей выбраться из санок, получил приказание – встать неподалеку, в Никольском переулке, откуда была бы видна дверь Лелуарши, – и Дунька ворвалась в милый сердцу мирок, неся на губах приятную улыбку – мало ли кто тут собрался уже и развлекается разглядыванием модных товаров?
Но улыбка окаменела на Дунькиных устах, зато глаза широко распахнулись.
В креслах у консоли, на которой были разложены безделушки, сидела дама, очень даже ей знакомая.
Это была Маланья Григорьевна Тарантеева.
Нельзя сказать, что они расстались врагинями. Точнее говоря, они вообще никак не расстались. Когда господин Григорьев обнаружил шашни своей любовницы-актерки и вздумал предпочесть ей ее молоденькую и шуструю горничную, он так исхитрился все сие проделать, что Дунька при шумном объяснении отсутствовала и вообще более в квартиру, снятую для Тарантеевой, не возвращалась, – новоявленный покровитель отправил ее на другую квартиру, потом же поселил в доме на Ильинке. И получалось, что они даже не ссорились, хотя Маланья Григорьевна прекрасно знала, на кого ее променяли.
Дунька понятия не имела, куда подевалась бывшая хозяйка, когда подаренные ей на прощание Григорьевым деньги кончились. Марфа взялась было выяснить – и рассказала, что с квартиры актерка съехала, нового местожительства хозяевам не сообщила. В воронцовском театре она более не появлялась.
Московские театры после чумы так до сих пор и не опомнились. «Российский театр», что на Красных прудах, еще и раньше лихорадило – вся Москва потешалась над склокой главнокомандующего графа Салтыкова и драматурга Сумарокова. Зарождались новые труппы, но были они еще слабы, давали представления в частных домах, да и пьесы брали невесть какие – из простой жизни, а госпожа Тарантеева мнила себя трагической героиней. Иначе, как благородными александрийскими виршами, она на подмостках разговаривать не желала.
Оставалось предположить, что тут же сыскался иной богатый покровитель и куда-то ее увез, хотя сие и было сомнительно – госпожа Тарантеева уже не блистала той юной красой, за которую господа готовы платить большие деньги.
Однако особа, сидевшая сейчас у Лелуарши, была одета в бархатную шубку на куньем, кажется, меху, и рука, застывшая над консолью, несла на себе два красивых перстня и браслет с разноцветными камнями.
– Фаншета! – воскликнула Маланья Григорьевна. – Да ты ли это, голубушка?
Дунька поразилась искренности в голосе актерки.
– Я, сударыня, – отвечала она сдержанно.
– Да не дичись! Нешто я не понимаю? Сама виновата, – сказала госпожа Тарантеева. – Давай, Фаншета, так – кто старое помянет, тому глаз вон.
«А кто старое забудет – тому оба вон», – подумала Дунька, но вслух завершать поговорку не стала.
– Сказывали, наш-то престарелый вертопрах тебя богато содержит, – продолжала актерка. – Будь умна, моих ошибок не повторяй – он тебя и замуж выдаст, и приданым хорошим обеспечит. Тебе уж двадцать, поди? Пора, пора о замужестве побеспокоиться. Я в твои годы уже давно замужем была.
Дунька внутренне усмехнулась – милая дамская беседа и должна была быть исполнена таких нежных шпилек.
– Да на примете никого нет, – сказала она актерке. – Живу я тихо, только с теми, кого Гаврила Павлович в дом приглашает, знаюсь. А он женихов в гости не зовет, только господ… совсем уж трухлявых!
Маланья Григорьевна рассмеялась.
– Узнаю голубчика! Ну так я о тебе позабочусь!
Дунька насторожилась – вот уж без чего-чего, а без заботы госпожи Тарантеевой она превосходно бы обошлась. И малое дитя поняло бы, к чему клонит актерка: подсунуть удачливой сопернице молодого любителя да и рассорить ее с господином Захаровым.
«А шиш тебе», – подумала попросту Дунька, вспомнив в ту же минуту того, кто никак не мог быть назван ни молодым любителем, ни галантным махателем, ни, тем более, возможным женихом. Вспомнила того, кого Марфа как шутя прозвала ядреным кавалером, так это прозвище в Дунькиной голове и угнездилось, намертво прилипнув к московскому обер-полицмейстеру.
– Давай, Фаншета, друг дружки не забывать, – продолжала актерка. – Ты с моей же легкой руки в свет вышла и делаешь удачный карьер. Ты, может, полагаешь, что я вздорная сумбурщица? Нет, Фаншета, я устала от суеты и ищу искренних привязанностей…
Дунька, достойная ученица Марфы, тут же перевела эти светские речи на простой язык: госпожа Тарантеева набивалась в гости, чтобы среди трухлявых господ, навещающих Гаврилу Павловича в его амурном гнездышке, сыскать себе эту самую искреннюю привязанность.
– Да ведь я не своей волей живу, – отвечала Дунька. – Мой-то меня никуда не пускает. Днем еще по лавкам проехаться разве… Полон дом соглядатаев.
– Экая жалость. А что ж ты не спросишь, как я, с кем я?
– И без расспросов видно, раньше у вас такой щегольской шубки не было, да и перстеньки – один другого краше.
– Ничего ты, Фаншета, не разумеешь! – госпожа Тарантеева рассмеялась. – Даст Господь, к весне на Москве новый театр откроется, и я там на первых ролях буду! Пока же мне стали платить жалование и сняли для меня квартиру. И теперь лишь я поняла, что есть искренняя привязанность…
Дунька вспомнила все хитросплетения театральных интриг, в коих актерка чувствовала себя, как рыба в воде, и ужаснулась. С прибавлением еще одного театра количество интриг должно было возрасти втрое, коли не вчетверо.
– Кабы ты не жила бы с господином Захаровым, я бы тебя в наш театр позвала, играть субреток и наперсниц. Я помню, как ты с голоса роли заучивала. И у тебя ведь прелестно получалось! Вот коли бы тебя в театр сманить, я бы уж была спокойна – ты за моей спиной козни строить не станешь.
– Не умею я козни строить, – согласилась Дунька. – Да и на театре играть, поди, тоже не смогу…
– А я тебя научу! – обрадовалась Маланья Григорьевна. – Коли вдуматься, то и невелика наука. А талант у тебя есть, это я сразу приметила.
Дунька задумалась.
Похоже, сейчас актерка не лгала. Сколько Дунька помнила, у госпожи Тарантеевой всегда главной заботой было не выучить ролю, а разобраться с интриганками-соперницами.
– Так ты поразмысли, душа моя, – сказала актерка. – Сейчас ты во всем от Гаврилы Павловича зависима, а станешь сама себе хозяйка, и кавалеры к ногам все поголовно рухнут, наилучшего изберешь! Мне бы твои годы – да я бы теперь и Москву вверх дном поставила, и в Петербург ускакала, там бы наиглавнейшей стала!
Соблазн, соблазн был в этих речах, и Дунька прекрасно понимала, что перед ней – опасное искушение. Но ничего не могла с собой поделать – душа вдруг потребовала свободы. А на что сию свободу употребить – Дунька знала сразу.
Чтобы вся Москва об одной лишь Дуньке твердила, да чтобы дошла о ее успехах весть до обер-полицмейстера, да чтобы он знал – никого краше и талантливей Дуньки в городе нет, ни среди русских девок, ни среди немок, ни среди французенок! Та Тереза Фонтанж, Марфа сказывала, раньше учила в богатых домах детей клавикордной игре, так, может, тем ядреного кавалера пленила? Может, ему просто красивого личика и статного молодого тела мало, а непременно впридачу целый концерт подавай? Ну что же, будет ему концерт.
Но сразу она госпожа Тарантеевой своего решения не сообщила – настолько у нее ума хватило. Дунька лишь спросила о перстеньках, полагая, что хвастливая актерка не удержится и доложит, чьи подарки. Но тут-то и вышел афронт – почему-то Маланья Григорьевна проявила скрытность. Очевидно, беспокоилсь о сожителе – не пошли бы лишние слухи. Другая диковина явилась, когда зашла речь о ее новом местожительстве. Неведомый покровитель поселил актерку чуть ли не в Лефортове. Это Дуньку сперва удивило было – она не понимала, как вообще в Москве можно жить за пределами Китай-города, уже и Замоскворечье было для нее недостойной внимания окраиной. Как всякая разумная женщина, она полагала, что селиться следует поближе к торговым рядам – там, стоит выйти из дому, и знакомцев увидишь, и новости узнаешь. А окраина… да хоть дворец там поставь, все одно – весной и осенью будешь в том дворце заперт, как в тюрьме, да и зимой в гололед – немногим будет лучше. Дунька прекрасно знала, как ездят в гололед, даже коли лошади кованы на шипы, – быстрее пешком добежать!
Но к концу беседы Дунька поняла, что актерка опасности не представляет – сожитель ей, видать, любезен, и потому слишком нужно иметь в своем окружении хоть одну женщину, на которую можно положиться, а Дунькины таланты она испытала, когда та еще служила в горничных.
Сделав для приличия покупку – маленькую прехорошенькую перламутровую мушечницу, а также сговорившись с актеркой увидеться тут же неделю спустя, в это самое время, Дунька заторопилась – ей сильно хотелось рассказать обо всем Марфе. Госпожа Тарантеева осталась в лавке – видать, кого-то ждала, а Дунька, выйдя на крылечко, помахала рукой Фаддею. Он тут же подъехал.
– Фаддеюшка, езжай-ка в Зарядье и привези Марфу Ивановну, – велела Дунька. – А я до дому уж сама дойду.
– Ги-ись! – негромко предупредил Фаддей прохожих – и санки укатили обратно к Никольскому, пропали за поворотом.
Дунька пошла – сперва неторопливо, потом все быстрее, ножки в изящных башмачках стали мерзнуть. Это ее и раздосадовало, и развеселило. Чем ближе дом – тем легче неслась она, радуясь самой себе – своей ловкости, своей молодости и взглядам встречних кавалеров. А у самых дверей нос к носу столкнулась с человеком, которого сразу и не признала.
– Авдотьюшка, Бог в помощь! – обратился он. – А я к вашей милости с доброй вестью!
– Что еще за добрая весть? – удивилась она приветствию.
– Авдотьюшка, голубушка, пойдем со мной скорее! Тут неподалеку, на Сретенке, во храме…
– Ничего себе неподалеку! – воскликнула Дунька. – Ты, что ли, Устин?
– Я, Авдотьюшка.
– Опять явился мою душу спасать?
– Там, в храме преподобной Марии Египетской, что была прежде блудницей, мощи есть в серебряном ковчежце, я к ним приложился, – быстро заговорил Устин. – Авдотьюшка, светик, пойдем со мной, и ты тоже приложись! Они доподлинно, те мощи, чудотворные! Я стоял на коленях и плакал! Глядишь, и твоя душа…
– Насчет души – сие мне неведомо, а вот ног уже не чую, – сказала Дунька. – Коли хочешь мне проповедь читать, пожалуй, сударь, в дом.
А сама подумала, что даже коли бы сожитель застал Устина в ее спальне, то все равно дурного бы не подумал – уж больно этот полицейский служитель на махателя непохож.
Опять же, вот-вот Фаддей должен был привезти Марфу, так что было кому спасти от восторженных поучений.
Они вошли в сени, и тут же Дунька закричала, призывая горничную Агашку. Агашка прибежала сверху, всплеснула руками, причитая, что барыня-душенька совсем себя не жалеет, тут же кинулась снимать с замерзших ног башмачки.
Устин знал, конечно, что у женщин и девок под юбками и сарафанами ноги бывают. Он видел, как бабы, подоткнув подолы, хозяйничают но огородах. Но то – бабы, а Дунька по природному лукавству употребила прием дамской науки, именуемой «ретруссе», то бишь искусство показать ножку. Она, садясь на табурет, легким движением вздела юбки так, что ножка выглянула, словно прелестный зверек из густой чащи, и тут же спряталась, и снова выглянула, далась в руки Агашке. Устин завороженно глядел за этими маневрами. Он понимал, что видит доподлинный разврат, но ничего не мог с собой поделать.