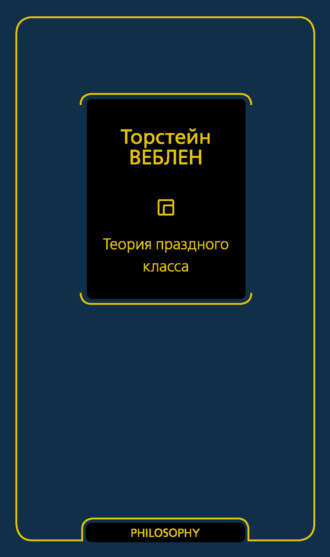
Торстейн Бунде Веблен
Теория праздного класса
Глава 3
Нарочитая праздность
Если бы в происходящее не вмешивались прочие экономические силы или прочие факторы соперничества, непосредственным результатом той денежной схватки, о которой мы рассуждали выше в общих чертах, было бы следующее – все люди сделались бы трудолюбивыми и бережливыми. Подобный результат наблюдается в действительности – применительно к низшим слоям общества, для которых естественным способом добывания материальных ценностей является производительный труд. В особенности сказанное справедливо в отношении трудового слоя в оседлом сообществе на аграрной ступени общественного производства: там присутствует значительное дробление собственности, а законы и обычаи обеспечивают этому слою более или менее определенную долю плодов общественного производства. Такие низшие слои в любом случае не в состоянии избегать труда, а потому трудовая повинность не воспринимается ими как нечто, унижающее их достоинство (по крайней мере, внутри своего слоя). Скорее, поскольку труд является для них признаваемым и принимаемым образом жизни, они испытывают некую состязательную гордость оттого, что занимаются производством, ведь зачастую это единственная доступная им область соперничества. Среди тех, для кого приобретение и соперничество возможны лишь в производительности и бережливости, борьба за денежный почет в известной мере выливается в повышенное усердие и умеренность в расходах. Но в ходе соперничества проявляются и некоторые вторичные его признаки, о которых еще будет идти речь; они существенно видоизменяют и преображают соперничество, как среди слоев, малообеспеченных в денежном выражении, так и среди главенствующего класса.
Совсем иначе обстоит дело с господствующим в денежном отношении классом, который нас, собственно, и интересует. Этому классу тоже присуще стремление к усердию и бережливости, но на его действиях столь сильно сказываются вторичные признаки денежного соперничества, что всякое желание чего-то добиваться в этой области практически подавляется, а стимул к усердию не находит ни малейшего отклика. Наиболее важным среди вторичных признаков соперничества, а также самым широким по охвату выступает условие строгого воздержания от производительного труда. Нагляднее всего это проявляется на варварской стадии развития общества. В эпоху хищничества труд в мышлении людей стал ассоциироваться со слабостью и подчинением господину. Следовательно, трудятся те, кто занимает низкое положение в обществе, а потому работать недостойно для настоящего мужчины. Эта традиция отнюдь не умерла: труд стал восприниматься как нечто постыдное. С углублением социальной дифференциации данная традиция закрепилась как своего рода аксиома, освященная древними неписаными (и никем не оспариваемыми) законами.
Для того чтобы заслужить и сохранить уважение людей, недостаточно просто обладать богатством и властью. Богатство или власть нужно предъявлять, ведь уважение оказывается только по представлении доказательств. Свидетельства богатства не только подчеркивают значимость человека в глазах других, не только поддерживают, ежедневно и непрерывно, его важность, но и едва ли не в той же степени, необходимы для сохранения самоуважения. На всех стадиях развития общества, кроме низших, обыкновенный человек утешается и воодушевляется в самоуважении за счет «достойного окружения» и пренебрежения «повседневными обязанностями». Вынужденный отказ от такого привычного для него стандарта достоинства, будь то в личном имуществе или в размахе бытовой деятельности, становится ущемлением его человеческого достоинства, даже если не принимать во внимание осознание одобрения или неодобрения со стороны сотоварищей.
Архаическое теоретическое различение низкого и почетного в образе жизни мужчины по сей день сохраняет ощутимое влияние. Это влияние ощущается настолько, что лишь немногие представители «сливок общества» не питают инстинктивного отвращения к вульгарному труду. Нам свойственно воображать этакую ритуальную грязь, которая будто бы сопутствует тем занятиям, что в нашем мышлении связываются с черновой работой. Всем личностям с утонченным вкусом присуще мнение, будто некоторые обязанности, по обыкновению возлагаемые на прислугу, таят в себе осквернение души. Плебейское окружение, захудалое (дешевое) жилище и вульгарное производственное занятие – все это безоговорочно осуждается и с презрением отвергается. Все перечисленное несовместимо с жизнью на удовлетворительном духовном уровне, то есть с «высокими мыслями». Со времен древнегреческих философов и по настоящее время толика праздности и желание отстраниться от участия в тех производственных процессах, которые служат непосредственно повседневным целям человеческой жизни, неизменно воспринимаются мыслителями как предпосылки достойной, красивой и даже безупречной жизни. Сама по себе и в своих последствиях праздная жизнь прекрасна и благородна в глазах всех цивилизованных людей.
Такая личная, субъективная оценка праздности и других доказательств богатства во многом, несомненно, вторична и может считаться по большей части производной. Отчасти мы наблюдаем признание полезности праздности как средства заслужить у других почет, а отчасти это следствие мысленной подмены одного понятия другим. Выполнение работы превратилось в признак низкого общественного положения, поэтому сам труд путем мысленного опущения промежуточных понятий стал рассматриваться как низкий по самой сути.
На протяжении хищнической стадии развития, и особенно в ходе ранних стадий условно-миролюбивого развития производства, которые наступили следом, праздная жизнь была нагляднейшим и убедительнейшим доказательством денежной силы, тем самым подтверждая превосходство вообще, всегда при условии что праздный господин способен предъявить другим жизнь в покое и блаженстве. На этой стадии богатство состояло главным образом из рабов, а выгоды из обладания таким богатством и властью в основном выражались в личном услужении и непосредственных результатах подобного услужения. Нарочитое воздержание от труда становится, таким образом, расхожим признаком превосходства в денежных делах и общепризнанным показателем уважения; при этом, наоборот, поскольку усердный производительный труд считается презренным уделом бедноты, работа признается несовместимой с почетным положением в обществе. Потому-то привычка к прилежанию и бережливости не получала единодушной поддержки со стороны господствующего денежного соперничества. Напротив, данное соперничество исподволь ослабляло стремление к участию в производительном труде. Труд неизбежно становился постыдным, свидетельствуя о бедности труженика, пусть бы он и не считался недостойным занятием согласно древней традиции, унаследованной от более ранних стадий развития общества. Обычаи хищнической стадии утверждали, что производительных усилий мужчинам, здоровым телесно, следует избегать, и эти обычаи укрепились, а вовсе не были отринуты при переходе от хищнического к условно-миролюбивому образу жизни.
Даже не появись институция праздного класса сразу с робкими ростками частной собственности, в силу пренебрежения занятостью в производительном труде она, вне сомнения, стала бы одним из первых последствий обладания собственностью. Здесь нужно заметить, что, пускай теоретически праздный класс существовал со времен зарождения хищнического общества, институция приобрела новый, более полный смысл с переходом от хищнической к следующей за ней денежной стадии развития. Именно тогда и впредь «праздный класс» стал таковым на деле, так и в теории. К этой дате восходит институция праздного класса в своей полноценной форме.
На протяжении хищнической стадии развития общества различие между праздным и трудящимся классами было до некоторой степени лишь ритуальным. Здоровые телом мужчины решительно избегали всего, что, по их мнению, являлось повседневной черновой работой, однако их деятельность ощутимым образом способствовала выживанию и поддержанию жизни группы. Последующая стадия условно-мирного производства обычно характеризуется утверждением принципа рабского труда, стадами скота, появлением подневольного слоя табунщиков и пастухов; индустрия продолжала развиваться, и выживание общества перестало зависеть от средств к существованию, добываемых охотой или каким-либо другим занятием из числа безусловно героических. С этого времени отличительной особенностью жизни праздного класса становится нарочитое пренебрежение любыми полезными занятиями.
Типичными и характерными занятиями праздного класса в этой зрелой фазе его истории выступают почти те же самые по форме виды деятельности, как и в раннюю пору. Это управление, война, развлечения и отправление обрядов. Те, кто склонен чрезмерно вдаваться в тонкости теоретических рассуждений, могут заявить, что все перечисленные занятия косвенно и несущественно «производственные» изначально, однако следует отметить (это принципиально важно), что основным и преобладающим мотивом участия праздного класса в этих занятиях отнюдь не является приращение благосостояния посредством производительных усилий. На этой, как и на любой другой стадии развития общества управление и война, по крайней мере отчасти, ведутся ради денежной прибыли тех, кто в них участвует, но это ведь прибыль, получаемая почетным способом, то есть через захват и обращение в свою пользу. Такие занятия суть хищнические, они не относятся к производительному промыслу. Нечто подобное можно сказать и об охоте, но с одним отличием: когда общество перерастает собственно охотническую стадию развития, сама охота постепенно разделяется на два направления. С одной стороны, это ремесло, которым занимаются преимущественно ради прибыли, и потому элемент доблести в нем практически отсутствует (либо присутствует в малой степени, как бы избавляя занятие от «тени» прибыльного промысла). С другой стороны, охота есть развлечение, попросту говоря, проявление хищнического побуждения. Как таковая она лишена каких-либо заметных денежных стимулов, зато содержит более или менее явные элементы подвига. Подобное преображение охоты, избавление от неблаговидного «ярлыка» ремесла, делает ее достойным занятием и причисляет к деятельности, допустимой для развитого праздного класса.
Воздержание от труда становится не просто почетным или похвальным делом; подобного поведения требуют соображения приличия. Настаивать на владении собственностью как на основе уважения – вот отличительная наивная черта ранних стадий накопления богатства. Воздержание от труда видится обыденным доказательством достатка и, следовательно, выступает общепризнанным мерилом положения в обществе, а настойчивые призывы к поощрению состоятельности неуклонно ведут к поощрению праздности. Nota notae est nota rei ipsius[8]. По надежно установленным законам человеческого бытия общественная мораль подмечает эти свидетельства обладания богатством и закрепляет их в образе мышления как нечто такое, что достойно само по себе и облагораживает человека, тогда как производительный труд в то же самое время и по той же причине признается недостойным – как бы сразу с двух сторон. Кроме того, труд не только делается постыдным в глазах членов общества, он отныне морально невозможен для благородных и свободных по праву рождения людей, несовместим с достойной жизнью.
Этот запрет на труд имел последствия для дальнейшей производственной дифференциации классов. С ростом плотности населения хищническая группа превращается в оседлое производящее сообщество, а действия законных властей и обычаи по поводу собственности получают больший масштаб и согласованность. Вскоре уже становится непрактичным накапливать богатство посредством захвата, и вполне логично, что приобретать богатство посредством производственной деятельности мыслится одинаково невозможным для людей неимущих, но гордых. Перед ними открываются иные пути – жизнь в нужде или нищете. Везде, где утверждается канон нарочитой праздности, складывается «вторичный» и в некотором смысле незаконнорожденный праздный класс – крайне бедный, влачащий жалкое существование в нужде и неудобствах, но морально неспособный снизойти до прибыльных занятий. Опустившийся господин или дама, видавшая лучшие времена, встречаются довольно часто даже в наши дни. Это распространенное неприятие труда, ощущение унижения при малейшем намеке на физическую работу хорошо знакомо всем цивилизованным народам, а также народам с менее развитой денежной культурой. Для людей повышенной чувствительности, которым давно прививались благородные манеры, ощущение постыдности физического труда может усилиться настолько, что в критический момент оно возобладает даже над инстинктом самосохранения. Например, рассказывают о полинезийских вождях, которые, соблюдая хорошие манеры, предпочитали голодать, но не подносить пищу ко рту собственными руками. Не исключено, впрочем, что хотя бы отчасти такое поведение обусловлено чрезмерной святостью фигуры вождя или каким-то табу, связанным с его личностью. Быть может, подразумевалось, что через прикосновение пальцев вождь проклинает, а тем самым все, чего он касался, делалось непригодным в качестве пищи. Но само это табу есть производное от представления о недостойности или моральной неуместности труда, а потому даже истолкованное в указанном смысле поведение полинезийских вождей ближе к канону почтенной праздности, чем может показаться на первый взгляд. Лучшим примером (по крайней мере, более очевидным) будет случай с одним из французских королей, который, как говорят, лишился жизни вследствие избытка моральной стойкости при соблюдении правил хорошего тона. В отсутствие придворного, в обязанности которого входило перемещение кресла господина, король безропотно сидел у огня и позволил своей королевской особе поджариться до смерти. Так он спас свое «Наихристианнейшее величество»[9] от осквернения повседневным трудом.
Summum crede nefas animam præferre pudori,
Et propter vitam vivendi perdere causas[10].
Уже отмечалось, что определение «праздный» в том значении, в котором оно употребляется здесь, не означает лени или блаженного ничегонеделания. Оно подразумевает непроизводительное потребление времени. Время потребляется непроизводительно, во-первых, под влиянием представления о недостойности производительного труда и, во-вторых, как доказательство возможности позволить себе жизнь в безделье благодаря денежному успеху. Но далеко не вся жизнь праздного господина открыта глазам зрителей, которых нужно поражать зрелищем почтенного досуга, по идеальной схеме эту жизнь и составляющего. Отдельные части его жизни по необходимости скрываются от взоров публики, и об этом времени, проводимом в уединении, праздный господин должен ради своего доброго имени уметь дать убедительный отчет. Ему нужно отыскать какое-либо очевидное свидетельство досуга, проводимого не на виду у зрителей. Это можно сделать лишь косвенно, посредством осязаемых и наглядных результатов такого досуга, как было ранее с предъявлением осязаемых плодов труда, выполняемого для праздного господина ремесленниками или слугами у него на содержании.
Наглядным свидетельством производительного труда выступает материальный результат: обыкновенно это какой-либо предмет потребления. В героических свершениях тоже возможно и принято обеспечивать какой-то осязаемый результат, который может служить для предъявления в виде трофея или добычи. На более поздней стадии развития общества входит в обычай придумывать какие-нибудь отличительные знаки и почетные регалии, которые призваны служить общепринятыми доказательствами доблести и которые одновременно указывают на качество или степень доблести, ими символизируемой. По мере роста плотности населения и по мере усугубления многообразия человеческих отношений все частности жизни подвергаются пересмотру и уточнению; использование трофеев развивается в систему рангов, титулов, степеней и знаков отличия, типичные примеры которых суть геральдические знаки, медали и почетные украшения.
С экономической точки зрения праздность, рассматриваемая как вид занятости, состоит в близком родстве с доблестной деятельностью; достижения, характерные для праздной жизни и предъявляемые в качестве ее внешних признаков, имеют много общего с трофеями героических свершений. Но праздность в более узком смысле слова, отличная от доблестной деятельности и от всякого будто бы производительного употребления сил на что-либо, по существу, бесполезное, обычно не приводит к появлению каких-то материальных следов. Поэтому оценивать былые свершения при праздной жизни обыкновенно приходится посредством «нематериальных» ценностей. Такими нематериальными свидетельствами былой праздности выступают квазинаучные или квазихудожественные достижения, а также осведомленность о событиях и случаях, не имеющих непосредственного отношения к улучшению человеческой жизни. Так, к примеру, в наше время бытует знание о мертвых языках и об оккультных науках, о правописании, синтаксисе и просодии, о различного рода домашнем музицировании и прочих семейных развлечениях, о свежайших поветриях в одежде, обстановке жилья и способах выезда[11], об играх и развлечениях, о ценимых домашних питомцах, будь то собаки или скаковые лошади. Во всех этих отраслях знаний изначальным мотивом к их приобретению (благодаря чему они, собственно, когда-то вошли в моду), могло быть что-то, никак не связанное с желанием показать, что досуг тратится отнюдь не на производственное занятие; однако, не служи эти достижения оправданием непроизводительной траты времени, они бы довольно быстро исчезли, вместо того чтобы сделаться привычными свидетельствами жизни праздного класса.
В известном смысле эти достижения возможно причислить к области ученого знания. Помимо и кроме них, имеются иные общественные явления, которые постепенно переходят из области учености в область физического навыка и ремесла. Сюда относятся совокупности правил, известные как воспитанность и умение держать себя, вежливое обхождение, этикет, а также вообще соблюдение приличий и церемоний. Эта категория явлений более явно и непосредственно предстает наблюдению, а потому их все шире и настоятельнее признают необходимыми свидетельствами почтенной степени праздности. Нужно отметить, что все соблюдение церемоний, попадающее под определение хороших манер, занимает важное место в оценке людей на той стадии общественного развития, когда нарочитая праздность становится основным признаком уважения, а не на более поздних стадиях. Варвар условно-мирного этапа развития производства куда более благовоспитан в том, что касается соблюдения правил, нежели любой из людей, кроме самых изысканных, пожалуй, живших в поздние века. Общеизвестно (по крайней мере, так принято теперь считать), что хорошие манеры приходят в упадок тем заметнее, чем дальше общество отходит от патриархальной стадии развития. Немало джентльменов старой школы вынужденно высказывали свои сожаления по поводу недостойных манер и недостаточной обходительности даже среди высших слоев современного индустриального общества; а забвение церемониального кодекса – иначе говоря, вульгаризация жизни – среди самих промышленных слоев сделалось в глазах всех утонченных натур одной из главных аномалий цивилизации поздних времен. Забвение, от которого страдает этот кодекс у деловых людей, свидетельствует (никакого осуждения!) в пользу того факта, что внешние приличия суть плод жизни праздного класса и ее показатель, в полной мере соблюдаемый лишь при режиме строгого соблюдения положения в обществе.
Источник или, лучше сказать, происхождение хороших манер следует, конечно, искать в чем-то другом, а не в сознательных усилиях со стороны благовоспитанных людей показать, сколько времени они потратили на освоение этих манер. Конечная цель их придумывания и внедрения, когда они были новыми, заключалась в том, что они были красивее и выразительнее. Во многом своим появлением и развитием церемониальный кодекс пристойного поведения обязан желанию вызвать к себе доверие или выказать добрую волю, как утверждают социологи и антропологи, и этот исходный мотив за редкими исключениями (если таковые вообще случаются) присутствует почти всегда в поведении благовоспитанных людей на любой более поздней стадии развития общества. Хорошие манеры, как нам говорят, суть отчасти уточнение жестов, а отчасти суть символические и общепринятые пережитки прошлого, выражающие былые проявления господства, личного услужения или личного контакта. В значительной мере они являются выражением отношений статуса, символической пантомимой господства, с одной стороны, и подчиненности, с другой стороны. Везде, где в настоящее время хищнический склад и проистекающие из него отношения господства и подчиненности передает свои воззрения общепринятому укладу жизни, щепетильное соблюдение всевозможных особенностей поведения имеет крайне важное значение, а упорство, с которым скрупулезно блюдутся ранги и титулы, вплотную приближается к идеалу, установленному когда-то варварами условно-миролюбивых кочевых сообществ. Хорошими примерами таких духовных пережитков являются некоторых страны континентальной Европы. В этих сообществах налицо стремление к архаичному идеалу хороших манер, которые словно признаются как наделенные самостоятельной ценностью.
Внешние приличия, будучи символами и пантомимой, вначале были полезными исключительно для замещения символизируемых ими фактов и качеств, но затем претерпели превращение, какое обыкновенно случается в человеческом общении со всеми символическими фактами. По общему представлению, манеры приобрели значимость сами по себе, усвоили сакраментальный характер, в значительной мере не зависимый от тех фактов, которые первоначально за ними стояли. Отклонения от кодекса внешних приличий делались все более одиозными в глазах окружающих, а хорошее воспитание считалось и считается, по досужему суждению, не просто случайным признаком превосходства, а неотъемлемым свойством достойной личности. Немногое способно внушить нам инстинктивное отвращение сильнее, чем нарушение правил приличия, и мы так далеко зашли по пути приписывания общепринятому соблюдению этикета некой самоценности, что мало кто в состоянии отделить нарушение этикета от ощущения недостатка достоинства у нарушителя. Можно примириться с изменой вере, но нельзя смириться с нарушением правил поведения. «Манеры делают человека»[12].
Тем не менее, пусть хорошие манеры в представлении их носителя и в глазах наблюдающего обладают некоей внутренней значимостью, ощущение присущей им правильности является лишь условным источником моды на манеры и воспитанность. Скрытые экономические основания хороших манер надлежит искать в почетном характере того праздного или непроизводительного потребления времени и сил, без которого не обходится их приобретение. Знание хороших манер и обладание ими усваиваются только после продолжительной практики. Утонченный вкус, изысканные манеры и образ жизни выступают приемлемыми доказательствами благородного происхождения, потому что хорошее воспитание требует времени, сил и расходов, то есть, следовательно, невозможно для тех, чьи силы и время поглощаются работой. Знание правил приличия есть prima facie свидетельство того, что часть жизни благовоспитанного человека, проводимая им в уединении от публики, потрачена с пользой на достижения, лишенные какой-либо материальной прибыльности. В конечном счете значение хороших манер заключается в том факте, что они представляют собой своего рода расписку в праздном образе жизни. Значит, если идти от обратного, раз уж праздность есть общепринятое средство обретения денежной репутации, получение навыка в соблюдении внешних приличий необходимо всем, кто домогается малой толики денежного достоинства.
Та часть почтенной праздной жизни, которую проводят втайне от взоров публики, может служить поддержанию репутации лишь в той мере, в какой она обеспечивает осязаемые, наглядные результаты, каковые возможно предъявить и соизмерить с результатами такого же рода, предъявляемыми зрителям прочими соискателями почета. Подобные образчики праздного поведения, умение себя держать и подавать, проистекают естественным образом из постоянного воздержания от труда, даже когда субъект не задумывается о сути происходящего, просто усердно впитывает дух праздной власти и состоятельности. Особенно значимым видится то обстоятельство, что праздная жизнь, ведущаяся таким образом на протяжении нескольких поколений, будет оказывать постоянное и ощутимое воздействие на личность, а тем более на его привычное поведение и облик. Но всему тому, что указывает на совокупный опыт праздной жизни, наряду с опытом в соблюдении приличий, который приходит в результате пассивного привыкания, можно придать еще больше совершенства через заботливое и ревностное стремление приобретать признаки почтенной праздности, а затем деятельно и систематически демонстрировать прилюдно эти дополнительные признаки освобождения от работы. Попросту говоря, в этой точке развития прилежные усилия и денежные расходы могут существенно содействовать успешному приобщению к достойным повадкам праздного класса. Напротив, чем выше степень опытности и чем очевиднее усвоенное стремление следовать тому, что не служит никакой прибыльной или какой-то другой полезной цели, тем значительнее потребление времени и денег, потраченное на приобретение нужных навыков, и тем весомее получаемая репутация. В условиях соперничества за совершенное овладение хорошими манерами это занятие отнимает немало сил; далее отдельные правила благопристойности складываются во всеохватывающий порядок, соответствие которому требуется от всех, кто желает считаться безупречным с точки зрения репутации. А нарочитая праздность, признаком которой служит соблюдение хороших манер, мало-помалу подменяется изнурительными упражнениями по умению держать себя, превращается в воспитание вкуса, в старательное изучение того, какие предметы потребления отвечают приличиям и каковы отвечающие приличиям способы их потребления.
В этой связи следует присмотреться к тому обстоятельству, что возможность продуцирования патологических и иных идиосинкразических особенностей поведения в личных качествах и манерах через стойкое подражание и систематические тренировки превратилась для культурного класса в преднамеренное производство, причем зачастую приносила крайне благоприятный результат. Тем самым посредством того, что попросту именуется снобизмом, «синкопированное» благородное происхождение и воспитание во множестве случаев обеспечиваются в семьях и аристократических родах. Такое «синкопированное» благородное происхождение приводит к тому, что среди факторов, определяющих положение праздного класса в обществе, происхождение никоим образом не уступает всем остальным факторам, каковые, быть может, требовали более долгой, но не столь прилежной подготовки к соблюдению денежных приличий.
Также наблюдается соизмеримая степень соответствия кодексу скрупулезных действий, признаваемому в текущий момент обществом, в отношении подобающих способов и средств потребления. Здесь можно сопоставить между собой различия между двумя людьми в степени соответствия идеалу, а далее распределить людей с некоторой степенью точности по шкале хороших манер и воспитанности. Выказывание почтения в данном случае происходит искренне, на основании соответствия принятым канонам вкуса и без осознаваемого внимания к денежному положению или степени праздности, в которой живет тот или иной кандидат на уважение; впрочем, каноны благовоспитанности, согласно которым производится указанная оценка, постоянно подправляются законом нарочитой праздности, постоянно претерпевают изменения и подвергаются пересмотру, призванному совместить их с требованиями этого закона. Непосредственное основание для различения людей может быть каким угодно, однако преобладающим принципом благовоспитанности и ее испытанной пробой является требование существенного и очевидного расхода времени. В пределах этого принципа возможны разнообразные колебания и отклонения, но в целом это именно видоизменения формы выражения, а не содержания.
Разумеется, во многом учтивость в повседневном общении представляет собой прямое выражение внимания и искренней доброжелательности; этот элемент поведения как таковой не побуждает нас, в общем-то, искать какие-либо скрытые основания почтения, объясняющие как его наличие, так и одобрительное к нему отношение. Но того же самого нельзя сказать о кодексе приличий. Последние, то есть приличия, суть выражение общественного положения. Конечно, совершенно очевидно для всякого, кто даст себе труд приглядеться, что наше отношение к прислуге и к людям, занимающим, если рассуждать денежно, более низкое и зависимое положение, есть поведение вышестоящего члена общества, пусть внешние проявления статуса нередко сильно видоизменяются и смягчаются по сравнению с первоначальным выражением неприкрытого господства. Подобным же образом наше поведение по отношению к тем, кто стоит выше по положению, а в немалой степени и по отношению к тем, кого мы считаем ровней себе, выражает более или менее общепринятое отношение подчиненности. Любой аристократический господин или госпожа всем своим видом сообщает нам о доминировании и независимости своего экономического положения, а одновременно и столь же убедительно внушает нам ощущение правоты и справедливости. Именно среди представителей высших слоев праздного класса, которые никому не подчиняются и с которыми мало кто может сравниться, соблюдение приличий выполняется наиболее последовательно и строго; их усилия вдобавок обеспечивают правилами приличия ту окончательную формулировку, которая превращает эти правила в канон поведения для нижестоящих. Вновь мы видим, что кодекс поведения, очевидно является кодексом положения в обществе, что он наглядно показывает несовместимость высокого положения со всякой грубой производительной работой. Вселяемая свыше самоуверенность и властное самодовольство, присущие тем, кто привык требовать подчинения и кто не беспокоится о дне грядущем, обретаются по праву рождения и становятся мерилом благородства происхождения; по общему представлению, такая манера поведения воспринимается как врожденный признак превосходящего достоинства, перед которым низкорожденный простолюдин счастлив склониться и уступить.


