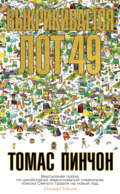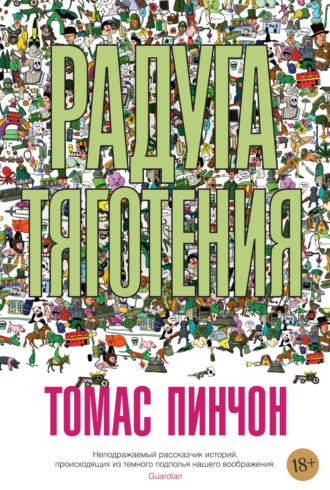
Томас Пинчон
Радуга тяготения
– Пьер Жанэ – этот человек иногда изъяснялся, как восточный мистик. На самом деле, противоположения он не постигал. «Акты оскорблять и быть оскорбляемым объединены в общей процедуре оскорбления». Обсуждающий и обсуждаемый, хозяин и раб, девственница и соблазнитель – всякая пара весьма удобно соединена и неразделима… Эта инь-янская ерунда – последнее прибежище неисправимых лентяев, Мехико. Избегаешь всяческой малоприятной работы в лаборатории, но что ты при этом сказал?
– Мне бы не хотелось углубляться с вами в религиозные споры, – от недосыпа Мехико сегодня раздраженнее обычного, – но я вот думаю – может, вы все чуток… как бы слишком напираете на достоинства анализа. Ну то есть – когда всё разберете на детальки – отлично, я первый зааплодирую вашему ремеслу. Но помимо кучи обломков и обрывков, что сказали вы?
Стрелману такой спор тоже душу не греет. Однако он пронзительно взирает на этого молодого анархиста в красном шарфе.
– Павлов считал, что идеал, финал, ради которого мы бьемся в науке, – истинное механическое объяснение. Он был реалист и не ожидал увидеть такое при жизни. Или при еще нескольких жизнях. Но надеялся на долгую цепь приближений, все лучше и лучше. В конечном счете он верил в чисто физиологическую основу жизни духа. Без причины не бывает следствия, ясная последовательность связей.
– Это, конечно, не мой конек, – Мехико правда хочет не обидеть, но честное слово, – однако есть такая мысль, что эти причина-следствие не бесконечно растяжимы. Что если наука вообще хочет двигаться дальше, ей следует искать не такой узкий, не такой… стерильный набор допущений. Может, следующий великий прорыв случится, когда нам хватит смелости вообще выкинуть причину-следствие и пальнуть под каким-нибудь другим углом.
– Нет – не «пальнуть». Регресс. Вам же 30 лет, ну. Нет никаких «других углов». Можно только вперед, раз ввязался, – внутрь – или назад.
Мехико наблюдает, как ветер дергает Стрелмана за полы шинели. Чайка с воплем рушится боком вдоль замерзшей бермы. Меловой обрыв над головою встал на дыбы, холодный и невозмутимый, будто смерть. Давние европейские варвары, рискнувшие приблизиться к этому берегу, сквозь туман узрели сии белые заставы и постигли, куда забрали их мертвецов.
Вот Стрелман повернулся и… о господи. Он улыбается. В притворном этом братстве сквозит нечто столь древнее, что – не теперь, но несколько месяцев спустя, когда расцветет весна и Война в Европе завершится, – Роджер вспомнит эту улыбку – она станет преследовать его – как злобнейшую гримасу, какую только видел на человеческом лице.
Прогулка застопорилась. Роджер смотрит на Стрелмана. Антимехико. Воплощенные «понятия противоположения», но на какой коре, на каком зимнем полушарии? Что за разрушительная мозаика, оборотившаяся наружу, к Бесплодной Пустоши… прочь от городского покрова… внятная лишь тем, кто путешествует вовне… глаза вдаль… варвары… ездоки…
– У нас обоих есть Ленитроп, – вот что произнес сейчас Стрелман.
– Стрелман – чего вы хотите? Ну – помимо славы.
– Не больше, чем Павлов. Физиологической основы для очень странного, казалось бы, поведения. Мне все равно, в какую из ваших ПОИшных[31] категорий оно попадет, – странно, что ни один из вас не вспомнил о телепатии: может, Ленитроп на кого-нибудь там настроен – на того, кто заранее знает расписание германских пусков. А? И мне плевать, что это – может, какая-то зверская фрейдистская месть матери за то, что пыталась его кастрировать, я не знаю. У меня нет претензий, Мехико. Я непритязателен, методичен…
– Скромен.
– Я себе назначил границы. У меня есть только реверсирование шума ракеты… клиническая история выработки сексуальных рефлексов – возможно, на слуховой раздражитель, и, судя по всему, реверсирование причинно-следственной связи. Я менее вашего готов выкинуть причину и следствие вообще, но если их надо видоизменять – что ж, пусть.
– Но чего вы добиваетесь?
– Вы же видели его ММИЛ. Его шкалу F? Фальсификации, искаженные мыслительные процессы… Из оценок ясно как божий день: у него психопатические отклонения, мании, латентная паранойя… так вот Павлов считал, что мании и параноидальный бред – продукт неких… считайте, клеток, нейронов в мозаике мозга, которые до того возбуждены, что через взаимную индукцию подавляют весь участок коры вокруг. Один ярко горящий пункт, окруженный темнотой. Темнотой, которую пункт этот некоторым образом и создал. И он отрезан, этот яркий пункт, – может, до конца жизни пациента, – от всех прочих идей, ощущений, самокритики, которые умеряют, нормализуют пламя. Павлов это называл «пункт патологической инертности». Мы вот сейчас работаем с псом… он прошел «уравнительную» фазу, когда любой раздражитель, сильный или слабый, вызывает в точности одно и то же количество капель слюны… затем перешли на «парадоксальную» – сильные раздражители вызывают слабые отклики и наоборот. Вчера вывели его на ультрапарадоксальную. За пределы. Теперь, когда включаем метроном, который прежде обозначал еду – и прежде у Собаки Вани вызывал фонтаны слюны, – собака отворачивается. А когда выключаем метроном – ну, вот тогда Собака Ваня к нему поворачивается, нюхает, пытается лизать, кусать – в тишине ищет раздражитель, которого нет. Павлов считал, что все душевные заболевания в конце концов объясняются ультрапарадоксальной фазой, патологически инертными пунктами коры, путаницей понятий противоположения. Уже совсем было собравшись перейти к экспериментам, он умер. Но я-то живу. У меня есть финансирование, и время, и воля. Ленитроп – уравновешенный и сильный. Его непросто будет перевести в любую из трех фаз. Может, в итоге нам придется морить его голодом, запугивать, не знаю… не обязательно до этого доводить. Но я найду его пункты инертности, я выясню, каковы они, даже если мне, черт возьми, придется вскрыть ему череп, и пойму, как они изолированы, и, может быть, решу эту загадку – почему так падают ракеты, – хотя, признаюсь, это лишь взятка, чтобы уговорить вас мне помочь.
– Зачем? – Чутка не по себе, а, Мехико? – Зачем вам нужен я?
– Не знаю. Однако нужны.
– Это вы маньяк.
– Мехико. – Стоит очень неподвижно, пол-лица, повернутые к морю, словно вмиг постарели на полвека, смотрит, как прибой целых три раза оставляет за собою стерильную пленку льда. – Помогите мне.
Да никому я не могу помочь, думает Роджер. И откуда такой соблазн? Это опасно, это извращение. Он и впрямь хочет помочь, он, как и Джессика, сверхъестественно боится Ленитропа. А как же девушки? Может, это все одиночество его в Отделе Пси, в убеждении, которое сердцем своим он не может ни разделить, ни забросить… их вера, даже неулыбчивого Мракинга, в то, что возможно большее, за чувствами, за смертью, за Вероятностями, в которые Роджер только и вынужден верить… Ой, Джесси, – его лицо тычется в ее голую, замысловато костяную и сухожильную спину, – я тут совсем заплутал…
На полпути меж водой и жестким солеросом звенит на ветру долгая полоса трубопровода и колючей проволоки. Черная сетка держится на длинных косых скобах, в море торчат копья. Картина заброшенная и математическая: ободрано до силовых векторов, что удерживают конструкцию на месте, кое-где удвоено, один ряд за другим, движется вспять – это Стрелман и Мехико опять идут – толстым муаром, на фоне повторяющихся диагоналей повторяется вертикально параллаксом, а ниже путаница проволоки скрещивается случайнее. Вдалеке, где конструкция сворачивает в дымку, ажурная стена сереет. После ночного снегопада всякий штрих черных каракулей был вытравлен белым. Но сегодня ветер и песок вновь оголили темное железо – просолили, тут и там обнажив краткие мазки ржавчины… а местами лед и солнце обращают конструкцию в добела напряженные потоки энергии.
Еще дальше, выше, на полпути к обрыву, за похороненными фугасами и противотанковыми надолбами из разъедаемого бетона, в ДОСе[32], крытом стальной сеткой и дерном, после сложной лоботомии расслабляются д-р Блэх и его медсестра Айви. Его оттертые упорядоченные пальцы ныряют под ее подвязки, оттягивают вбок, отпускают с внезапным громким чпоком и хо-хо-хо Блэха, Айви же подпрыгивает и тоже смеется, выворачиваясь не слишком настойчиво. Они лежат на постели из старых выцветших навигационных карт, руководств по эксплуатации, лопнувших мешков с песком и рассыпанного песка, жженых спичек и растрепанных пробковых фильтров давно разложившихся сигарет, что утешали ночами 41-го, когда при малейшем отсвете в море вдруг екало сердце.
– Ты псих, – шепчет она.
– Я распутник, – улыбается он и снова щелкает ее подвязкой – мальчик с рогаткой.
В нагорьях линия цилиндрических блоков, которым надлежало переломать траки безмолвным «королевским тиграм», что никогда не взроют эту землю, цепью пшеничных кексов тянется вдаль по мышастым пастбищам, среди плоских снежных заплат и бледных обнажений извести. На прудике чернокожий – прибыл из Лондона, катается на коньках, невероятный, как зуав, скользит на лезвиях, высокий и горделивый, словно рожден для них и льда, не для пустыни. Городские детишки бросаются перед ним врассыпную, и все равно слишком близко – всякий раз, когда он разворачивается, щеки их обжигает изогнутый кильватер ледяной крошки. Пока не улыбнется, они не посмеют заговорить, станут лишь ходить хвостом, следить, кокетничать, желая улыбки, страшась ее, желая… Лицо у него волшебное – они знают такое лицо. На берегу Мирон Ворчен и Эдвин Паток курят одну за другой, размышляют об Операции «Черное крыло» и репутации «Шварцкоммандо», наблюдают за волшебным своим негром, своим прототипом, оба не хотят рисковать и на лед не ступают – скакать или еще как выделываться на коньках перед этими детьми.
Зима застыла; небо – сплошь тусклый светящийся гель. Внизу на пляже Стрелман выуживает из кармана рулон туалетной бумаги – каждый листик размечен по трафарету «Собственность Правительства Е. В.», – дабы высморкаться. Роджер то и дело запихивает волосы под шапку. Оба молчат. Итак, вот они двое: бредут, руки в карманах, руки из карманов, силуэты тончают, желто-коричневый и серый, и еще мазок алого, очень резкие контуры, их следы позади – долгий морозный путь обессиленных звезд, тучи отражаются от глазурованного пляжа почти белым… Мы потеряли их из виду. Никто не слышал этих первых бесед – даже праздного снимка не сохранилось. Они шли, пока их не сокрыла эта зима, и казалось, сам жестокий Канал вот-вот перемерзнет, и никто, ни один из нас, больше не найдет их вполне. Следы наполнились льдом, а чуть позже их слизнуло море.
* * *
В тишине, втайне от нее камера следит, как она движется подчеркнуто никуда по комнатам, длинноногая, плечи юношески широки и ссутулены, волосы вовсе не резко голландские, а модно забраны вверх под старую корону тусклого серебра, вчерашняя свежая завивка заморозила эти ее очень светлые волосы на макушке сотнями вихрей, сияющих сквозь темную скань. Диафрагму сегодня полностью открыть, подбавить вольфрамового света – такого дождя на памяти не было, ракетные взрывы далеко к югу и востоку время от времени долетают к домику, грохоча отнюдь не запотевшими окнами, но лишь дверьми – медленно трех-четырехкратно сотрясая их, словно бедные духи, стосковавшиеся по обществу, просятся внутрь, на минутку, чуть коснуться…
Она в доме одна, если не считать тайного кинооператора и Осби Щипчона – этот на кухне, творит нечто таинственное с грибами, каковых урожай собран на крыше. У них блестящие красно-оранжевые чашечки шляпок с выпуклыми лоскутьями беловато-серого покрывала. Время от времени геометрия неугомонности подвигает ее бросить взгляд в дверной проем: там Осби мальчишески увлеченно возится с Amanita muscaria[33] (ибо именно сия своеобычная разновидность ядовитого «ангела-разрушителя» не отпускает от себя внимания Осби – либо того, что у него считается вниманием), – сверкнуть ему улыбкой, коя ей представляется дружелюбной, а Осби мнится до ужаса многоопытной, искушенной, порочной. Первая голландская девушка, с которой он общался, и ему удивительно видеть не деревянные башмаки, а каблучки, его, считай, до мозгового расстройства поражает ее лощеный и (как он полагает) континентальный стиль, ум, светящийся под светлыми ресницами либо темными очками, в которых она щеголяет на улице, в следах детского жирка, в ямочках, противозалегающих по углам ее рта. (Крупным планом видно, что кожа ее, хоть почти идеальная, слегка припудрена и подрумянена, ресницы чуть подтемнены, брови изогнуты на два-три пустых фолликула…)
А что ж у юного Осби может быть на уме? Он тщательно выскребает каждую грибную чашечку цвета хурмы и шинкует остальное. Выселенные эльфы бегают по крыше, тараторят. У него все растет груда оранжево-серых грибов, затем он горстями сыплет их в кастрюлю с кипящей водой. Предыдущая партия тоже кипит на медленном огне – уже густая каша, вся в желтой пене; Осби снимает пену и мелет кашу в Пиратовом смесителе. Затем размазывает фунгоидное месиво по жестяному противню для печенья. Открывает печь, асбестовыми чапельниками извлекает еще один лист, покрытый темной пропеченной пылью, заменяет его только что приготовленным. Пестиком в ступе толчет вещество и ссыпает в старую жестяную коробку от печенья «Хантли-и-Палмерз», оставляя лишь чуть-чуть – умело свертывает эти остатки в лакричную папиросную бумагу «Ризла», затем подкуривает и дым их вдыхает.
Однако ей случается заглянуть как раз в тот миг, когда Осби открыл гулкую печь. Камера не фиксирует в ее лице никакой перемены, но отчего ж она застыла в дверях столь бездвижно? словно кадру этому надлежит быть остановлену и растянуту именно в такой продольный миг злата, свежего и потускневшего, микроскопически закамуфлированной невинности, локоть присогнут, рука упирается в стену, пальцы веером на бледно-оранжевых обоях, словно касается она собственной кожи, задумчивое касанье… Снаружи долгий дождь кремниевым ледяным потоком шлепает безутешно в средневековые окна, медленно разъедая их, словно дымом занавешивая дальний берег реки. Этот город – всеми его милями, что прошиты бомбами: эта нескончаемо в узел завязанная жертва… кожа поблескивающей черепицы, закопченный кирпич, затопленный выше каждого окна, темного иль освещенного, и всякое из миллиона отверстий беззащитно пред сумраком зимнего дня. Дождь омывает, промачивает, журча песенкой, наполняет канавы, город принимает его, приподымаясь с неизменным пожатьем плеч… Со скрежетом и металлическим лязгом печь закрыта опять, но для Катье она никогда не закроется. Катье слишком много сегодня красовалась перед зеркалами, знает, что прическа и макияж у нее безупречны, ее восхищает платье, привезенное ей из «Харви Николса»: прозрачный шелк, стекающий от подкладных плечиков к глубокой ложбинке меж грудей, густого оттенка какао, что в этой стране известен как «негритосский», многие ярды этого аппетитного шелка скручены и наброшены, свободно подвязаны на талии, а к коленям опускаются мягкими складками. Кинооператор доволен неожиданным эффектом такого количества текучего шелка, в особенности – когда Катье проходит перед окном и проникающий внутрь дождесвет на несколько кратких ахов диафрагмы меняет ткань на темное стекло, пропитанное темно-серым древесным углем, антикварное и обветренное, платье, лицо, волосы, руки, стройные икры, все обратилось в стекло и глазурь, на замершее целлулоидное мгновенье – полупрозрачный хранитель дождя, сотрясаемого весь день ракетными взрывами вдали и вблизи, устремленного вниз, темна и гибельна за нею земля, что в протяженьи кадра ее очерчивает.
Глядя в зеркало, Катье тоже чувствует, как доволен оператор, однако ей ведомо то, чего не может знать он: в себе самой, заключенная в soignée[34] поверхность милой ткани и мерлых клеток, она – разложенье и прах, ей место в Печи – жестоко, им тут и не снилось… место ей в Der Kinderofen…[35] стоит вспомнить его зубы, длинные, жуткие, прошитые ярко-бурой гнилью, когда он произносит эти слова, желтые зубы капитана Бликеро, сеть испятнанных трещин, а в глубине ночного его дыханья, в темной печи его самого – вечно скрученные шепотки распада… Зубы она припоминает прежде прочих его черт, от Печи зубам должно стать лучше прежде всего прочего – от того, что предназначено ей и Готтфриду. Он никогда не высказывал этого явной угрозой, непосредственно ни к кому из них даже не обращался, скорее говорил с гостями вечера поперек ее вышколенных атласных бедер либо вдоль Готтфридова покорного позвоночника («оси Рим – Берлин», как он назвал его в ту ночь, когда пришел итальянец, а они все расположились на круглой кровати, и капитан Бликеро вонзился во вздыбленный анус Готтфрида, а итальянец одновременно – в его хорошенький ротик), сама же Катье пассивна, связана, с кляпом и в накладных ресницах, сегодня служит живой подушкой белеющим надушенным кудрям итальянца (розы и жир, еще чуть-чуть – и прогоркнет)… всякое высказывание – закрытый бутон, способный расслаиваться и бесконечно являть (она припоминает математическую функцию, какая расцветет ради нее в степенной ряд без общего члена, бесконечно, мрачно, хоть и ни в единый миг не врасплох)… его фраза Падре Игнасио развертывается в испанского инквизитора, черную сутану, смуглый нос с горбинкой, удушающую вонь фимиама + духовник/палач + Катье и Готтфрид оба на коленях, бок о бок в темной исповедальне + + дети из старой Märchen[36] на коленях, а коленкам холодно и больно, пред Печью, шепчут ей секреты, кои никому больше не могут поведать + охота на ведьм, параноидальная мания капитана Бликеро, и он подозревает их обоих, несмотря на мандат NSB[37] у Катье + Печь как слушатель/мститель + Катье на коленях перед Бликеро, разряженным в черный бархат и кубинские каблуки, пенис его сплющен под телесного цвета кожаным бандажом, к которому сверху он прицепил искусственную пизду и лохматку из соболя, и то, и другое изготовлено вручную в Берлине прискорбно известной мадам Офир, фальшивые губы и ярко-лиловый клитор отлиты из – мадам покорно просила прощенья, ссылаясь на дефицит, – синтетической резины и миполама, нового поливинилхлорида… жизнеподобная розовая влажность топорщится крохотными лезвиями из нержавейки, их сотни, и Катье на коленях вынуждена резать себе губы и язык о них, а затем поцелуями рисовать кровавые абстракции на золотой незагрунтованной спине своего «брата» Готтфрида. Брата по игре, по рабству… она никогда его не видела, пока не пришла в реквизированный домик возле пусковых площадок, запрятанных в рощах и парковых насаждениях этого заселенного клина мелких ферм и поместий, что тянется к востоку от королевского города меж двумя просторами польдера к Вассенару, – однако лицо его в тот первый раз, в осеннем свете сквозь огромное западное окно гостиной, когда он стоял на коленях голый, если не считать шипастого ошейника, метрономно мастурбируя под выкрики приказов капитана Бликеро, вся его светлая кожа, испятнанная предвечерним солнцем до светящегося синтетически-оранжевого оттенка, который она прежде никогда не связывала с кожей, его пенис – монолит крови, чей густо задышливый голос отчетливо слышен в тиши ковров, его лицо, подъятое отнюдь не к ним самим, но будто бы к чему-то на потолке или в небесах, которые потолок может его взгляду заменять, а глаза опущены долу, в каковом состоянии он, похоже, проводит бо́льшую часть времени, – его лицо, воздетое, напряженное все больше, кончающее, так близко к тому, что она всю свою жизнь видела в зеркалах, к ее собственному продуманному взору манекена, что она затаивает дух, на миг ощущает ускорившуюся дробь сердца и лишь затем обращает помянутый взор на Бликеро. Тот в восторге.
– Быть может, – говорит он, – я обрежу тебе волосы. – Улыбается Готтфриду. – Быть может, его заставлю отрастить.
Унижение мальчику будет полезно каждое утро в казармах, выстроившихся в ряд за его батареей у Schußstelle[38] 3, где некогда с громом неслись лошади перед неистовыми, проигрывающими завсегдатаями скачек прежнего мира, – смотров он раз за разом не проходит, однако его капитан прикрывает от армейской дисциплины. Вместо этого между стрельбами, днем ли, ночью, недосыпая, в самое неурочное время он претерпевает собственную Hexeszüchtigung[39] капитана. Но ей-то Бликеро обрезал волосы? Этого она уже не помнит. Знает, что раз или два надевала мундиры Готтфрида (волосы, да, подбирала под его пилотку), при этом легко могла бы сойти за его двойника, такие ночи проводила «в клетке», поскольку правила устанавливал Бликеро, а Готтфриду следовало носить ее шелковые чулки, кружевной передник и колпак, весь ее атлас и органди с лентами. Но после он всегда должен возвращаться в клетку. Так положено. Их капитан не дозволяет никаких сомнений, кто из них, брат или сестра, на самом деле горничная, а кто – гусь на откорме.
Всерьез ли она играет? В завоеванной стране, в собственной оккупированной стране лучше, полагает она, вступить в некую формальную, осмысленную разновидность того, что снаружи происходит без всякой формы или пристойных ограничений днем и ночью, казни без суда и следствия, облавы, избиения, уловки, паранойя, стыд… они между собой никогда открыто этого не обсуждают, но, похоже, Катье, Готтфрид и капитан Бликеро уговорились, что такая северная и древняя форма, та, с которой они знакомы и им удобно, – заблудившиеся детишки, лесная ведьма в пряничном домике, пленение, откорм, Печь – будет их охранительной практикой, их убежищем от того снаружи, чего никто из них вынести не в силах: Войны, абсолютной власти случая, их собственных жалких обстоятельств здесь, посреди всего…
Даже внутри, в домике – небезопасно… почти каждый день ракета дает осечку. В конце октября недалеко от этого поместья одна рухнула обратно и взорвалась, унеся жизни 12 человек из бригады наземного обслуживания, выбив стекла в домах на сотни метров вокруг, включая западное окно гостиной, где Катье впервые увидела своего золотого брата по игре. Официальные слухи утверждали, что взорвались одно лишь топливо и окислитель. Но капитан Бликеро с трепетом – надо сказать, нигилистического – удовольствия сообщил, что аматоловый заряд боеголовки тоже взорвался, поэтому для них что пусковая площадка, что мишень – все едино… И все они обречены. Домик стоит к западу от ипподрома Дёйндигт, совсем в другую от Лондона сторону, только никакой пеленг не спасает – ракеты, сбрендив, часто поворачивают произвольно, кошмарно ржут в небесах, разворачиваются и падают по прихоти собственного безумия, столь недоступного и, есть опасения, неизлечимого. Если время есть, хозяева их уничтожают – по радио, посреди судороги. Между ракетными запусками – английские налеты. Когда приходит пора ужинать, низко над темным морем с ревом проносятся «спитфайры», запинаясь, включаются городские прожекторы, высоко в небе над мокрыми железными скамейками в парках повисает послеплач сирен, орудия ПВО пыхтят, шарят, а бомбы падают в рощи, на польдер, среди низин, где, как считают, расквартированы ракетные войска.
Этим к игре прибавляется оттенок, слегка меняющий тембр. Это она, Катье, в некий неопределенный миг будущего должна впихнуть Ведьму в Печь, уготованную Готтфриду. Поэтому капитану не следует исключать возможности того, что Катье – взаправду английская шпионка или голландская подпольщица. Несмотря на все старания немцев, из Голландии прямо в Командование бомбардировочной авиации Королевских ВВС по-прежнему неубывающим потоком текут разведданные, повествующие о развертывании частей, путях снабжения, о том, в какой темно-зеленой древесной куще может располагаться установка А4: данные меняются с каждым часом, настолько мобильны ракеты и их вспомогательное оборудование. Но «спитфайрам» хватит и электростанции, и склада жидкого кислорода, и квартиры командира батареи… вот занимательный вопрос. Сочтет ли Катье свои обязательства недействительными, однажды вызвав английские истребители-бомбардировщики на этот самый домик, свою тюрьму понарошку, хоть это и значит смерть? Капитан Бликеро в сем вовсе не уверен. До некоторого предела эта му́ка восхищает его. Само собой, послужной список Катье у людей Муссерта безупречен, у нее на счету минимум три вынюханных криптоеврейских семейства, она преданно ходит на собрания, работает на курорте люфтваффе под Схевенингеном, где начальство хвалит ее за исполнительность и бодрость духа, от работы не увиливает. Да и не пользуется, как многие сейчас, партийным рвением, дабы прикрыть нехватку способностей. Быть может, лишь одна тень сомненья: преданность ее холодна. Похоже, у нее какая-то своя причина состоять в Партии. Женщина с математическим образованием – и с причинами… «Жди Превращенья, – говорил Рильке, – О, пусть увлечет тебя Пламя!»[40] Лавру, соловью, ветру – желая его, отдаться, объять, пасть в пламя, что растет, заполняя собою все чувства и… не любить, ибо уже невозможно действовать… но беспомощно пребывать в состояньи любви…
Но не Катье – тут никакого рывка мотылька. Бликеро вынужден заключить, что втайне она страшится Превращенья, вместо него предпочитая лишь банально подправлять наималейшие пустяки, узоры и покровы, не заходя далее расчетливого трансвестизма – не только в одежде Готтфрида, но и в обычной мазохистской униформе, наряде французской горничной, столь не подобающем ее высокой, длинноногой походке, ее светлым волосам, ее ищущим плечам, что как крылья, – она в это играет только… играет в игру.
Он ничего не может сделать. Посреди умирающего Рейха, с приказами, недействительными до бумажного бессилья, – она так ему нужна, нужен Готтфрид, ремни и хлысты из кожи, ощутимые в руках, что еще способны ощущать, ее вскрики, красные рубцы на ягодицах мальчика, их рты, его пенис, пальцы на руках и ногах – за всю зиму лишь в них уверенность, лишь на них можно рассчитывать: причин он вам не приведет, но в душе верит – хоть теперь, наверное, лишь формально – в эту, из всех Märchen und Sagen[41], верит, что сохранится заколдованный домик в лесу, ни одна бомба не упадет на него случайно, а лишь по предательству, только если Катье и впрямь наводчица англичан и подманит их, – а он знает, что она так не может; что неким волшебством, под костным резонансом любых слов британский налет – единственный запретный из всех возможных толчков сзади, в железное и окончательное лето Печи. Она придет, придет, эта Судьба… не так – но придет… Und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem tonlosen Los…[42] Из всей поэзии Рильке «Десятую элегию» он любит особенно, чувствует, как горькое пиво Томленья начинает пощипывать в глазах и носу при воспоминаньи о любом отрывке из… юный мертвец, обнявшись со своею Жалобой, своим последним связующим звеном, отринув ныне даже ее условно человеческое касанье навеки, взбирается совершенно один, смертельно один все выше и выше в горы первобытного Страданья, а над головой – неистово чуждые созвездья… «Шаг беззвучен его. И не слышно Судьбы…» Это он, Бликеро, взбирается в гору, взбирается уже почти 20 лет, с тех пор, когда еще не возжег в себе пламя Рейха, еще с Зюдвеста… один. Какая бы плоть ни утоляла Ведьму, каннибала и колдуна, какие бы цветущие орудия Страданья – один, один. Ведьму он даже не знает, не способен постичь тот голод, что определяет его/ее, только в минуты слабости его ошеломляет, как голод сей может существовать с ним в одном теле. Атлет и его уменье, отдельные осознанья… Молодой Раухандль, по крайней мере, так сказал… за столько лет до войны… Бликеро наблюдал за своим молодым другом (даже тогда уже столь вопиюще, столь жалко обреченным на некую разновидность Восточного фронта) в баре, на улице, как бы плохо ни сидел на том узкий костюм, как преходящи б ни были башмаки: он красиво реагировал на футбольный мяч, который шутники, признав его, вбрасывали откуда ни попадя, – бессмертные фортели! импровизированный пинок, так невозможно высоко, такой совершенной параболой, мяч взмывает на мили, чтобы пролететь в аккурат меж двух высоких фаллических электрических пилонов кинотеатра «Уфа» на Фридрихштрассе… головой он мог держать его кварталами, часами, а ноги красноречивы, как поэзия… Однако он лишь качал головой, раз спрашивают – надо уважить, но не в состоянии из себя выдавить… «Это… так бывает… мускулы сами… – затем припомнив слова старого тренера: – Это мускульное, – очаровательно улыбнувшись и уже самим этим действием мобилизован, уже пушечное мясо, бледный барный свет в дифракционной решетке его бритой головы: – Рефлексы, видите ли… Это не я… Это всего лишь рефлексы». Когда же среди тех дней для Бликеро все стало превращаться из похоти в простое сожаленье, тупое, как изумление Раухандля собственному таланту? Он повидал уже столько этих Раухандлей, особенно после 39-го, они укрывали таких же таинственных гостей, посторонних, часто не диковиннее дара всегда оказываться не там, где снаряды… кто-нибудь из них, из этого сырья, «ждет Превращенья»? Они вообще в курсе? Что-то сомнительно… Пользуются лишь их рефлексами, по сотне тысяч за раз, другие пользуются – королевские мотыльки, увлеченные Пламенем. Уж много лет назад Бликеро утратил всякую невинность по этому вопросу. Итак, Судьба его – Печь; а заблудившиеся детишки, которые так ничего и не поняли и ничего у них ни во что не превратится, кроме мундиров и удостоверений личности, будут жить они и процветать еще долго после газов его и угольков, после вылета его в трубу. Так, так. Вандерфогель[43] в горах Страданья. Длится уж очень долго, он выбрал игру, считай, лишь ради того конца, какой она ему принесет, nicht wahr?[44] нынче слишком стар, гриппы все больше затягиваются, желудок слишком часто мучается днями напролет, глаза ощутимо слепнут с каждым медосмотром, он слишком «реалист» и вряд ли предпочтет геройскую смерть или даже солдатскую. Ему сейчас хочется одного – выйти из зимы, оказаться в тепле Печи, в ее тьме, в ее стальном укрытии, чтоб дверь за ним – сужающимся прямоугольником кухонного света, что лязгает гонгом, закрываясь навеки. Дальнейшее – прелюдия к акту.
Однако ему не все равно – небезразличнее, чем следует, и ему это удивительно, – как там с детьми, как с их мотивами. Они ищут свободы, соображает он, томясь, как он по Печи, – и такая извращенность преследует его и угнетает… он вновь и вновь возвращается к опустению и бессмысленному образу того, что было домиком в лесу, а ныне обратилось в крошки и потеки сахара, осталась лишь черная неукротимая Печь да двое детей, рывок приятной энергии уже позади, вновь голодно, убредают в зеленую черноту дерев… Куда пойдут они, где укроют ночи? Детская недальновидность… и гражданский парадокс этого их Маленького Государства, коего основания – в той же Печи, что неизбежно его уничтожит…