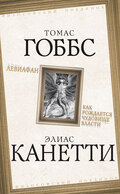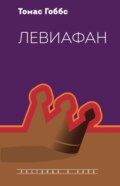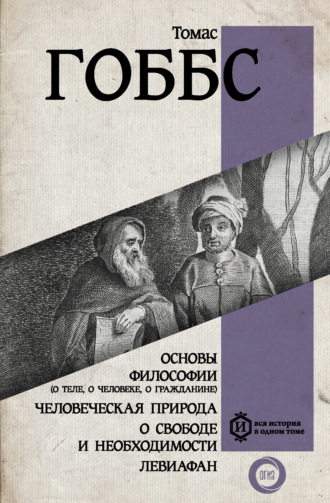
Томас Гоббс
Основы философии (о теле, о человеке, о гражданине). Человеческая природа. О свободе и необходимости. Левиафан
10. Гуманитарные знания (literae), и особенно в области языков и истории, также являются благом, ибо они радуют дух. Они также полезны, особенно история: ведь последняя дает нам тот опыт, на который опирается наше знание причин. Как естественная история она представляет собой основу физики, как гражданская история – основу науки о государстве и морали, причем это не зависит от ее истинности или ложности, если только она не является невозможной. Ибо в науках мы ищем причин не столько того, что было, сколько того, что могло бы быть. Полезно также знание языков, на которых говорят соседние народы, так как оно облегчает общение с ними и торговлю. Точно так же полезно знание латинского и греческого зыков как языков науки, и именно ради этой последней.
11. Деятельность – благо, ибо это движение жизни. Если человеку абсолютно нечего делать, то и прогулка для него служит занятием. Куда мне идти, что мне делать? – спрашивают несчастные, которые не знают, за что взяться. Безделье мучит человека. Природа не любит ни пустого пространства, ни незаполненного времени.
12. Продвижение вперед – нечто приятное, так как это приближение к цели, т. е. к чему-то более приятному. Вид чужого несчастья – нечто приятное; при этом нам нравится не то, что налицо несчастье, а то, что это чужое не счастье. Вот почему люди сбегаются, чтобы увидеть смерть и опасное положение других. Точно так же вид чужого счастья неприятен, однако это происходит не потому, что налицо счастье, а потому, что это чужое счастье. Подражание (imitatio) – нечто приятное, ибо оно оживляет прошлое. Воспоминание же о прошлом приятно: о счастливом прошлом – потому, что оно было счастливо, о тяжелом прошлом – потому, что оно миновало. Следовательно, музыка, поэзия и живопись являются приятными искусствами.
Все новое приятно, ибо люди ищут его как пищу для духа. Иметь хорошее мнение о своем умении – по праву или без него – есть нечто приятное. Ибо если это мнение справедливо, то оно означает: ты имеешь опору в самом себе. Если это мнение несправедливо, то оно все же приятно, ибо если что-нибудь нравится, будучи действительным фактом, то оно нравится и тогда, когда является лишь предметом воображения.
Поэтому победа приятна, ибо она создает у человека хорошее мнение о себе. Приятны также игры и состязания всякого рода, ибо тот, кто состязается, вдохновляется мыслью о победе. Но больше всего нравятся состязания умов, так как каждый считает, что его ум является для него наилучшим средством защиты. Вот почему так неприятно потерпеть поражение в борьбе умов.
Снискать похвалу приятно, ибо это создает у нас хорошее мнение о самих себе.
13. Прекрасно то, что содержит в себе указание на нечто благое. Вот почему прекрасно всякое проявление необычайной силы. Прекрасно также выполнение благого и трудного дела, ибо это признаки необычайной мощи. Совершенная форма прекрасна, ибо она дает нам право ожидать также замечательных действий. Красивой является и форма, напоминающая форму вещи, которую мы познали как лучшую в своем роде.
Быть хвалимым, любимым и уважаемым прекрасно, ибо это свидетельство способности и силы. Занимать общественную должность прекрасно, ибо это публичное признание наших деловых способностей.
Новые изобретения в искусствах и ремеслах прекрасны, если они полезны, ибо тогда они свидетельствуют о необыкновенных способностях. Пустяки же, напротив, тем менее прекрасны, чем большего труда они стоили. Они, правда, являются признаком способностей, но способностей бесполезных; кроме того, они есть признак духа, неспособного предпринять что-либо великое.
Быть обученным каким-нибудь искусствам другими людьми, т. е. быть ученым, конечно, полезно, но отнюдь не прекрасно, так как в этом нет ничего необыкновенного. В конце концов очень мало таких людей, которых нельзя было бы чему-нибудь научить.
Предпринять что-нибудь рискованное в минуту опасности, когда этого требуют обстоятельства, – значит совершить нечто прекрасное, ибо это нечто необыкновенное. Если же обстоятельства не требуют предпринимать что-либо подобное, то это глупость, т. е. нечто безобразное.
Выдающиеся личности, всегда действующие в согласии со своими духовными склонностями и призванием, прекрасны, ибо такой образ действия – признак свободного духа. Выдающиеся же личности, действующие вопреки своим духовным наклонностям и призванию, безобразны, ибо такой образ действия обнаруживает рабски-трусливое умонастроение людей, вынужденных что-то скрывать. Но никто не скрывает того, что прекрасно. Порицать то, что правильно, – признак невежества и нечто постыдное, ибо знание есть сила (scire est posse). Поносить же то, что справедливо, еще более постыдно – это признак необразованности. Ошибаться не постыдно, ибо это свойственно всем людям. Ученому человеку (doctor!), однако, не подобает ошибаться слишком часто, так как это противоречит его профессии.
Вера в себя прекрасна, ибо это признак человека, сознающего свои способности. Бахвальство постыдно, так как оно свойственно людям, не встречающим одобрения со стороны других людей.
Презрение к не слишком большому богатству прекрасно, ибо это признак человека, не нуждающегося в малом. Любовь к деньгам постыдна, ибо она характеризует человека, готового за соответствующую мзду идти на что угодно. Кроме того, такая любовь к деньгам даже у богатых людей – признак нужды.
Простить человека, умоляющего о прощении, прекрасно, ибо это признак веры в себя. Оказывать благодеяние своим противникам, чтобы умилостивить их, постыдно, так как это выкуп за себя и покупка мира, а следовательно, признак нужды. Ибо люди обычно покупают лишь то, в чем они нуждаются.
14. Если мы сравним различные виды добра и зла, то при прочих равных условиях нам придется признать большим добром или злом то, которое имеет более продолжительное существование, подобно тому как целое больше своих частей.
На том же основании из нескольких благ или зол большим будет то, которое при прочих равных условиях окажется интенсивнее других. При прочих равных условиях благо, которое является таковым для большего числа людей, приходится признать большим, чем благо, которое является таковым для меньшего числа людей, ибо более общее и более частное различаются между собой как большее и меньшее.
Снова завладеть однажды потерянным благом лучше, чем никогда не утрачивать его. Ибо мы лучше ценим его благодаря воспоминанию о том времени, когда были лишены его. Поэтому лучше выздороветь, чем не быть больным.
15. О наслаждениях, которыми можно насытиться (каковы, например, телесные наслаждения), я не буду говорить, так как в них удовольствие нейтрализуется пресыщением и так как они всем знакомы, а некоторые из них нечисты. Высшего блага, именуемого блаженством, или конечной цели, в этой жизни достигнуть нельзя. Ибо, предположив, что конечная цель достигнута, мы предполагаем состояние, при котором нечего больше желать и не к чему стремиться. Отсюда следует, что с этого момента для человека не существует большего блага; более того, с этого момента человек уже больше не имеет никаких чувств. Ибо всякое ощущение связано с каким-нибудь влечением или отвращением и не испытывать никаких ощущений – значит не жить.
Величайшим же благом является беспрепятственное движение вперед ко все более отдаленным целям. Само наслаждение предметом влечения есть влечение, а именно движение наслаждающегося духа сквозь части вещи, которой он наслаждается. Ибо жизнь – это постоянное движение, которое становится круговым, если не может двигаться вперед по прямому пути.
Глава XII
Об аффектах, или Волнениях души
1. Что такое волнение души. 2. Радость и ненависть. 3. Надежда и страх. 4. Гнев. 5. Страх перед незримым. 6. Гордость и стыд. 7. Смех и плач. 8. Любовь к внешним вещам. 9. Самооценка. 10. Милосердие. 11. Соперничество и зависть. 12. Удивление.
1. Аффекты, или волнения (perturbationes) души, суть виды влечения или отвращения, различающиеся в зависимости от различия предметов нашего влечения или отвращения и обстоятельств. Аффекты называются волнениями потому, что в большинстве случаев они делают невозможным правильное размышление и вместо познанного блага борются за кажущееся и сиюминутное благо, которое при зрелом и всестороннем обдумывании обычно оказывается злом. Ведь связь духа с телом обусловливает то, что влечение стремится к непосредственному действию, разум же диктует осторожность и осмотрительность. Для достижения истинного благополучия нам необходима прозорливая осторожность, а последняя – дело разума. Влечение же устремляется ко всякому попадающемуся ему благу, не принимая во внимание тех скверных последствий, которые с ним необходимым образом связаны. Оно, следовательно, затрудняет и парализует деятельность разума; поэтому его вполне основательно называют волнением.
Аффекты коренятся в различных движениях крови и животных духов[37], причем последние то различным образом растекаются, то текут обратно к своему источнику. Причинами этих движений являются образы блага и зла, вызываемые в нашей душе вещами.
Представление о наличном благе, значение которого не уменьшает какое-либо зло, могущее последовать за ним, следовательно, наслаждение чем-то благим самим по себе есть аффект, называемый нами радостью (gaudium). Представление об угнетающем нас зле без представления о компенсирующем его благе составляет аффект, называемый нами ненавистью (odium), и всякое зло, которое нас угнетает, называется ненавистным. Зло, которого мы не можем ни преодолеть, ни избежать, мы ненавидим.
Но если к представлению о наличном зле присоединяется представление о таком обороте дела, при котором мы от этого зла в конце концов избавляемся, то возникает аффект, который мы называем надеждой. Наоборот, мы говорим о страхе, если, обладая каким-нибудь благом, представляем себе, что можем его каким-нибудь образом потерять, или думаем о том, что это благо влечет за собой какое-нибудь зло. Ясно, что надежда и страх так быстро следуют друг за другом, что смена одного из этих аффектов другим может произойти в течение кратчайшего промежутка времени. Надежду и страх называют волнениями в собственном смысле слова тогда, когда они вместе заполняют кратчайший промежуток времени; их называют просто надеждой или просто страхом лишь в зависимости от преобладающего аффекта.
Если при наличии или при появлении какого-нибудь зла внезапно появляется надежда, что это зло может быть преодолено посредством борьбы, или сопротивления, то возникает страсть, которую мы называем гневом. Чаще его эта страсть возникает при обнаружении того, что кто-то относится к нам с пренебрежением. Человек, охваченный гневом, стремится, насколько это – действительно или как он надеется – в его силах, сделать так, чтобы не казалось, будто он выставлен на посмешище другим и заслуживает этого. Такой человек постарается поэтому причинить своему обидчику столько зла, сколько ему кажется достаточным для того, чтобы тот раскаялся в своем несправедливом поведении. Однако гнев не всегда связан с предположением о чьем-либо пренебрежительном отношении. Ибо если кто-либо стремится к какой-нибудь поставленной им перед собой цели, то все вещи, мешающие его продвижению к этой цели, вызывают напряжение его сил и возбуждают страстный гнев, направленный на их устранение. И этот гнев возникает также в том случае, когда речь идет о вещах неодушевленных, неспособных относиться к кому-либо пренебрежительно, как только возникает надежда, что эти препятствия могут быть устранены.
Родственным гневу является аффект, который греки называют µήνις, т. е. страсть к мщению, беспрестанное и продолжительное желание причинить кому-нибудь зло для того, чтобы наказать его за какую-нибудь предполагаемую несправедливость, а также устрашить других и удержать их от совершения подобной несправедливости. Таков был гнев Ахиллеса против греков, вызванный несправедливостью, причиненной ему Агамемноном. Этот род гнева, однако, отличается от того, который был описан выше, тем, что он не возникает и не проходит внезапно подобно последнему, а продолжается столько, сколько, по мнению гневающегося, требуется для того, чтобы тот, против кого обращен его гнев, изменил свое намерение в желательном ему направлении. Поэтому смерть того, кто совершил несправедливость, не удовлетворяет чувства мести обиженного, ибо мертвый не может ни в чем раскаяться. Предметом гнева является, следовательно, неприятное, но поскольку оно может быть преодолено силой. Если ты станешь оскорблять кого-нибудь, будучи невооруженным, ты вызовешь его гнев; если же ты будешь оскорблять его, будучи вооруженным, ты его заставишь дрожать. Гнев усиливается благодаря надежде и умеряется под воздействием боязни. Если представления о надвигающемся зле гонят животные духи к нервам и побуждают нас к борьбе, то представления о еще большем зле гонят их обратно к сердцу, следствием чего бывает самозащита или бегство. Предметом надежды является то, что представляется нам благом, предметом боязни – соответствующее зло. Откуда должно прийти к нам ожидаемое благо, мы никогда точно не знаем. Ибо если бы мы знали это, то наше дело было бы обеспечено и наше ожидание называлось бы не надеждой, а радостью. Для надежды достаточно малейшего повода. Предметом надежды может быть даже нечто недоступное представлению, если только это можно выразить посредством речи. Точно так же предметом страха может быть все что угодно, даже нечто недоступное представлению, если только его вообще считают чем-то страшным или если мы видим, что многие в страхе бегут от него. Ибо мы пускаемся иногда в бегство, не зная даже, что нас побуждает к этому, как бывает при так называемой панике. Тот, кто первым пустился бежать, рассуждаем мы, вероятно, увидел какую-нибудь опасность, которая и побудила его к бегству. Вот почему такого рода аффекты нуждаются в руководстве разума. Ибо разум измеряет и сравнивает наши силы и силу предметов и в соответствии с этим определяет степень основательности нашей надежды или нашего страха, предохраняя нас, таким образом, от возможности обмануться в наших надеждах или от того, чтобы мы без всякого основания, из одного страха, отказались от благ, которыми обладаем. Если надежда так часто оказывается обманчивой, а страх – предательским, то причина этого кроется в одной лишь нашей неопытности.
5. Все люди убеждены в том, что существует некое незримое существо или многие незримые существа, от которого или от которых в зависимости от того, настроены ли они милостиво или враждебно, можно ожидать всяких благ или опасаться всяких несчастий. Ибо люди, сила которых столь незначительна, заметив такие колоссальные творения, как небо, земля, видимый мир, столь тонко задуманные движения и животное разумение (intellectum animalem), а также чудесное искусство в устройстве (ingeniosissimam fabricam) их органов, не могли не почувствовать пренебрежение к своему собственному уму (ingenium), который не в состоянии даже подражать всему этому. Равным образом они не могли не удивляться не постижимому источнику всех этих величественных творении и не ожидать от него всяких благ, когда он благожелателен, и всяких зол, когда он на них разгневан. Собственно говоря, именно этот аффект называется естественным благочестием (pictas naturalis) и является первой основой всех религий.
6. Если из беседы с другими людьми мы, к нашей радости, узнаем, что нас ценят, то иногда наши животные духи подымаются вверх, и возникает гордое чувство приподнятости. Основанием этого чувства является то обстоятельство, что у людей, чувствующих, что их слова и дела встречают одобрение, духи подымаются от сердца к лицу, как бы свидетельствуя о том, что человеку известно высокое мнение относительно его.
Этому ощущению противоположно ощущение стыда. Последнее обусловливается тем, что когда мы замечаем нечто недостойное или подозреваем, что оно случилось, то подымающиеся духи приходят в беспорядок и гонят кровь в мускулы лица, что мы обозначаем глаголом краснеть. Стыд есть, следовательно, неудовольствие, возникающее у людей, любящих похвалы, тогда, когда их уличают в том, что они делают или говорят нечто такое, что не подобает ни делать, ни говорить. Краска в лице есть, следовательно, признак человека, желающего быть достойным как в своих делах, так и в своих разговорах; поэтому способность краснеть похвальна у юношей, но не у людей зрелого возраста. Ибо от людей зрелого возраста мы требуем не только стремления к достойному, но и знания его.
7. Кроме того, при внезапной радости по поводу какого-нибудь собственного достойного или чужого недостойного слова, дела или мысли животные духи часто устремляются вверх, благодаря чему возникает смех. Тот, кто полагает, что он сделал или сказал нечто выдающееся, склонен к смеху. Точно так же человеку трудно удержаться от смеха, когда сравнение его слов или поступков с неподобающим словом или поступком другого ярче оттеняет для него его собственное превосходство. В общем смех представляет собой внезапное чувство собственного превосходства, вытекающего из недостойного поступка других. Внезапность является при этом безусловно необходимым условием. Вот почему нельзя дважды смеяться по поводу одной и той же шутки. Недостатки друзей или родственников не вызывают смеха, так как эти недостатки не считаются чужими. Для возникновения смеха требуются поэтому три предпосылки: недостойное деяние, то, что оно совершено другим, и его внезапность.
Плач появляется тогда, когда человек вдруг чувствует, что у него внезапно отнята какая-нибудь сильная надежда. Животные духи, расширившиеся благодаря надежде, будучи затем внезапно обмануты, сжимаются, задевают слезные железы и гонят жидкость в глаза, так что они переполняются. Чаще и больше всего плачут люди, которые меньше всего надеются на самих себя, а больше всего на друзей, например женщины и дети. Больше всего смеются люди, у которых чувство собственного достоинства основывается не столько на сознании собственных заслуг, сколько на восприятии чужих ошибок. Иногда плачут друзья, когда они мирятся после ссоры. Дело в том, что примирение означает внезапный отказ от мысли о мести. Они плачут поэтому, как мальчики, которым не удалось отомстить своим обидчикам.
8. Любовь, если она очевидна, охватывает столько разных чувств, сколько существует предметов любви; таковы, например, любовь к деньгам, любовь к власти, любовь к знанию и т. д. Любовь к деньгам, превышая определенную меру, становится алчностью, любовь к власти, будучи чрезмерной, называется честолюбием. Обе эти страсти туманят и парализуют ум.
Любовь же, которую один человек питает к другому, может иметь двоякий смысл. В обоих смыслах она есть желание добра. Но одно дело, когда любовь означает желание добра себе, и другое – когда она означает желание добра другим. Так, любовь к соседу – нечто другое, чем любовь к соседке. Испытывая любовь к соседу, мы желаем добра ему; испытывая любовь к соседке, мы ищем добра для самих себя.
Точно так же приходится считать страстью и любовь к славе, или известности, если она становится слишком сильной. Правильная же мера как любви к славе, так и стремления к другим вещам определяется их полезностью, т. е. тем, насколько они улучшают нашу жизнь. Ведь хотя мысль о славе после смерти нам, пожалуй, приятна, да и другим, может быть, полезна, однако мы ошибаемся, рассматривая будущее, которое не сможем ни ощутить, ни оценить как настоящее. С таким же основанием мы могли бы печалиться по поводу того, что не пользовались славой до нашего рождения.
9. Чрезмерно высокая самооценка является помехой разуму, поэтому является волнением духа, когда возникает некая надменность души из-за устремления вверх животных духов. Противоположность этому составляет чрезмерная неуверенность в себе, или духовная подавленность.
Первое чувство побуждает любить многочисленное общество, последнее – одиночество. Правильная же самооценка является не душевным волнением, или нарушением деятельности духа, а должным состоянием ума. Тот, кто правильно оценивает себя, выносит оценку на основании совершенных им раньше дел и обладает поэтому смелостью, необходимой, чтобы снова совершать то, что было совершено им раньше. Тот же, кто переоценивает себя, или воображает себя таким, каким он на деле не является, или верит льстецам, в момент опасности теряет мужество.
10. Страдание, испытываемое из-за чужого несчастья, мы обозначим словами милосердие или сострадание. Иначе говоря, мы называем состраданием представление о том, что чужое несчастье может постигнуть и нас. Вот почему наиболее сильное сострадание к несчастным чувствует тот, кто сам испытывал подобные несчастья, и, наоборот, менее всего чувствует сострадание тот, кто ничего подобного не испытывал. Ибо люди менее боятся тех несчастий, которых они не испытывали. Точно так же мы менее всего чувствуем сострадание к тем, кто наказан за совершенное им преступление, либо потому, что ненавидим злодеяние, либо потому, что уверены в том, что сами не дойдем до того, чтобы совершить подобное преступление. Поэтому если почти никто не чувствует сострадания к тем, кто осужден на страшные вечные муки в преисподней, то причина этого кроется или в нашей уверенности, что с нами ничего подобного случиться не может, или в том, что мы не в состоянии ясно и отчетливо представить себе такие муки, или в том, что люди, которые нам сообщают о таких муках, доказывают своим поведением, что они сами всерьез не верят тому, в чем стараются уверить нас.
Страдание, испытываемое из-за успехов другого и связанное со стремлением достичь первенства, есть чувство соперничества. Стремление же, связанное с желанием лишить преуспевающего его преимуществ, есть зависть.
Удивление есть чувство радости по поводу чего-то нового, ибо человеку от природы свойственно любить новое. Новым мы называем то, что происходит редко; к редкому же относится и то, что является великим среди вещей какого-нибудь класса.
Чувство это составляет особенность человека, ибо если и другие существа, встречаясь с чем-нибудь новым и необычным, испытывают удивление, то их удивление продолжается лишь до тех пор, пока они не решат, вредно ли для них самих это новое явление или нет. Люди же спрашивают, откуда происходит то новое, что они видят, и какое употребление из него можно сделать. Вот почему они радуются всему новому, дающему им повод познавать причины и следствия.
Отсюда следует, что если кто-либо более других склонен к изумлению, то он обладает или меньшими знаниями, или же более проницательным умом, чем другие. В самом деле, если для такого человека нечто более ново, чем для других, то это признак того, что он знает меньше их; если же он высказывает больше изумления по поводу того, что является одинаково новым как для него, так и для других, то это свидетельствует о более проницательном уме.
Если бы мы вздумали каждому оттенку чувства давать особое название, то число чувств было бы бесконечно. Но так как каждый из таких оттенков родствен какому-нибудь из описанных нами чувств, то мы и удовольствуемся ими.