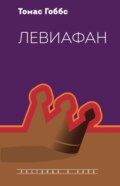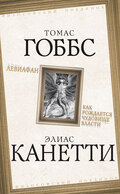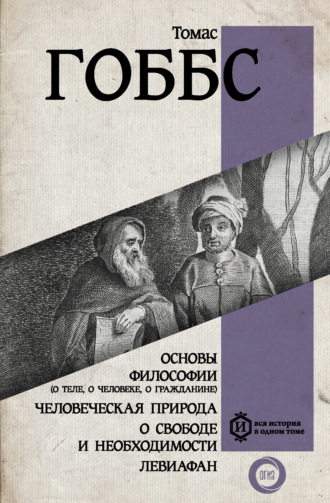
Томас Гоббс
Основы философии (о теле, о человеке, о гражданине). Человеческая природа. О свободе и необходимости. Левиафан
Поэтому ощущение всегда предполагает известное разнообразие образов, при наличии которого можно отличить одно от другого. Если мы возьмем в качестве примера человека, который не обладает никакими органами чувств, за исключением здоровых глаз (и у которого все остальные части органа зрения в здоровом состоянии), и предположим, что такой человек всегда воспринимает только глазами одну и ту же вещь одного и того же цвета и одной и той же формы, так что явление никогда не видоизменяется, то, что бы ни сказали другие, я буду утверждать, что этот человек видит не в большей мере, чем я посредством моих органов осязания ощущаю кости моей руки, хотя последние всегда окружены со всех сторон необычайно чувствительной кожей. Я бы мог, пожалуй, сказать, что этот человек поражен и иногда с удивлением смотрит на указанную вещь, но я бы не стал утверждать, что он ее видит. Ибо неизменно ощущать одно и то же означает в сущности не ощущать ничего.
6. Однако сущность ощущения не позволяет одновременно воспринимать несколько вещей. В самом деле, поскольку сущность ощущения состоит в движении, то органы чувств, подвергаясь воздействию одного предмета, не могут быть приведены в движение другим предметом так, чтобы оба движения вызвали в органах два ясных впечатления (образа). Таким образом, при совместном воздействии двух предметов на наши органы чувств в нас возникнут не два впечатления, соответствующие этим двум предметам, а одно смешанное впечатление, созданное их взаимодействием.
В главе VII было, кроме того, показано, что делению и счету тел соответствует деление и счет мест и наоборот. Точно так же обстоит дело с делением и счетом времени и движения: количества промежутков времени и отрезков движения при счете соответствуют друг другу. И если какой-нибудь видимый предмет представляется разноцветным, то все же это один и тот же предмет, а не различные предметы.
К сказанному следует прибавить, что органы, общие всем чувствам, а именно органы, части которых простираются от нервных корешков до сердца, менее способны к восприятию нового впечатления (какого бы то ни было предмета и посредством какого бы то ни было чувства) в случае сильного возбуждения, вызванного в них каким-нибудь объектом, так как уже существующее в них движение препятствует восприятию нового движения. Вот чем объясняется то обстоятельство, что человек, внимание которого совершенно поглощено каким-нибудь предметом, не способен воспринимать другие предметы, также находящиеся перед его глазами. Ибо когда человек поглощен каким-либо предметом, его душевные силы всецело заняты, т. е. его органы чувств находятся под влиянием происходящего в них сильного движения и, пока продолжается их возбуждение, остаются невосприимчивыми к другим раздражениям. Так, Теренций[27] в одном месте говорит: «Populus studio stupidus in funambulo animum occuparat» [ «Народ, поглощенный страстью, затаив дыхание, смотрит на канатного плясуна»]. А что такое оглушенность (stupor), если не άναίσϋησία, т. е. неспособность ощущать другие вещи. Следовательно, в один и тот же момент может быть воспринят только один-единственный предмет. Так что при чтении мы не видим всех букв одновременно, а воспринимаем их последовательно, друг за другом, хотя перед нашими глазами вся страница. Окидывая одним взглядом всю страницу, мы ничего не читаем, хотя все буквы четко написаны.
Все это показывает, что ощущением следует называть не всякий импульс органов чувств, направленный наружу, а только тот, который в данный момент сильнее других и преобладает над ними. Такой импульс оттесняет другие впечатления, подобно тому как свет солнца затемняет в силу своей яркости остальные звезды, хотя и не лишает их света.
7. Движение органа, благодаря которому возникает впечатление (образ), называется обычно ощущением (sensio) лишь в том случае, если предмет находится тут же. Если же предмета больше нет в наличии, а образ от него остается, то он называется фантазией или воображением (по-латыни imaginatio). Так как, однако, не все явления фантазии являются образами, то слово imaginatio не совсем совпадает с тем, что обыкновенно понимают под фантазией. Тем не менее его вполне можно употреблять для обозначения того, что греки обозначили словом φαντασία.
Следовательно, воображение в действительности является не чем иным, как ощущением, ослабленным благодаря удалению предмета. Где, однако, причина этого ослабления? Слабеет ли движение в силу удаления предмета? Если бы это было так, то образы воображения были бы всегда и по необходимости менее отчетливыми, чем образы, порождаемые ощущением. Но это неверно. Ибо сновидения, эти воображения спящих людей, не менее отчетливы, чем образы, созданные самим актом восприятия. Причина указанного явления кроется скорее в следующем: у бодрствующих людей образы прежде воспринятых вещей бледнее, чем образы вещей наличных, в силу того что возбуждение, вызываемое в органах чувств наличными предметами в то же самое время, когда возникают образы воображения, не допускает преобладания последних. Во сне же, когда закрыт доступ всякому идущему извне движению, никакое обусловленное внешними воздействиями возбуждение не препятствует внутреннему движению.
Если это так, то следует, далее, вскрыть причины того, почему во сне внешним предметам закрыт доступ к внутренним органам. Я предполагаю, что при продолжительном воздействии объектов, за которыми необходимо следует противодействие органа и преимущественно животных духов (spirituum), орган устает, т. е. его части не могут больше без боли испытывать возбуждение, вызываемое в них животными духами. Но, теряя энергию и слабея, нервы сокращаются и сосредоточиваются около того пункта, из которого они выходят, где бы этот пункт ни находился – в полости мозга или в полости сердца, что по необходимости прерывает процесс передачи внешних воздействий посредством нервов. Ибо влияние этих воздействий на того, кто их воспринимает, в условиях, когда последний все более и более удаляется от них, может становиться все меньше. Наконец, когда нервы совсем ослабевают, передача этих воздействий вообще прекращается. Следовательно, прекращается и противодействие им, т. е. ощущение. Последнее возникает вновь только тогда, когда после отдыха орган восстанавливается и в него вливаются новые жизненные силы. Так, по-видимому, происходит всегда, за исключением тех случаев, когда к обычным причинам присоединяется какая-нибудь другая, необычная причина, например внутренний жар вследствие усталости или болезни, необычайно возбуждающий животные духи и другие части какого-либо органа.
Но то обстоятельство, что в этом разнообразии образов фантазии есть связь и что за одними и теми же представлениями следуют то сходные, то совершенно не сходные с ними представления, имеет свою причину и не является случайностью, как, может быть, полагают многие. В движении всякого сплошного тела одна часть следует за другой в силу сцепления. Если мы последовательно направляем наши глаза и другие органы чувств на различные предметы, то при сохранении движения, произведенного каждым из этих предметов, у нас вновь и вновь возникают образы фантазии, характер которых обусловливается движением, получающим преобладание в соответствующий момент, и эти образы чередуются в нашем воображении в том же порядке, в каком они раньше чередовались в чувственном восприятии. Если с течением времени в процессе восприятия у нас возникает множество образов, то в конце концов почти любая мысль может быть вызвана другой, так что нам представляется совершенно случайным то, какие мысли следуют друг за другом. У бодрствующих людей эта последовательность бывает, однако, менее неопределенной, чем у людей спящих. Ведь мысль о вожделенной цели, или ее образ, вызывает у нас все те образы, которые служат средствами для достижения данной цели, причем они возникают в обратном порядке – от последнего к первому и снова от начала к концу. Но это предполагает влечение и оценку средств, ведущих к цели, чему нас учит опыт. Опыт есть запас образов, накопленный путем восприятия многих вещей.
Ибо φαντάζεσϋαι и помнить означают не одно и то же лишь в том отношении, что воспоминание предполагает в качестве своего предмета прошедшее, φαντάζεσθαι же нет. В воспоминании образы выступают как бы изношенными под влиянием времени, в фантазии же – так, как они есть, причем это различие относится не к самим вещам, а к способам их представления в голове представляющего субъекта. Воспоминание похоже на созерцание отдаленных предметов. Подобно тому как при таком созерцании в силу большой отдаленности в пространстве мы не видим мелких частей тел, в воспоминании в силу отдаленности во времени исчезают многие свойства, пространственные и временные определения вещей, воспринятых когда-то органами чувств.
Беспрестанное формирование образов в чувственных восприятиях и в мыслях воображения есть то, что обычно понимают под ходом рассуждения (animi discursus), которое свойственно как людям, так и животным. Тот, кто мыслит, сравнивает проносящиеся в его голове образы, т. е. воспринимает сходство и несходство между ними. Умение быстро схватывать сходство между разнородными вещами, или вещами, которые далеки друг от друга, есть признак быстрой фантазии; умение же отыскивать различия между сходными вещами есть преимущество способности суждения. Восприятие различий не есть какое-то особенное ощущение, отличное от чувственного ощущения, или восприятия в собственном смысле слова. Это – воспоминание различий, всплывающее тогда, когда отдельные образы сохраняются в течение некоторого времени. Различие между светлым и теплым есть не что иное, как одновременное воспоминание о двух объектах – светящем и греющем.
9. Образы, возникающие у спящих, суть сновидения. Опыт показывает нам, что последние характеризуются следующими пятью особенностями. Во-первых, они в большинстве случаев беспорядочны и бессвязны. Во-вторых, не бывает сновидений, которые не представляли бы собой соединения образов, воспринятых некогда органами чувств. В-третьих, сновидения иногда овладевают усталыми людьми в силу постепенного замедления и изменения течения их представлений или в силу одолевающей их сонливости, иногда же, однако, они появляются во время глубокого сна. В-четвертых, сновидения более ярки, чем образы бодрствующих людей, если оставить в стороне образы, возникающие в акте восприятия, с которыми сновидения могут сравниться по яркости. В-пятых, во сне ни место, ни вид вещей не возбуждают нашего удивления. Из сказанного нетрудно понять, каковы могут быть причины этих явлений. Так как, во-первых, всякий порядок и всякая связь обусловливаются беспрестанным сообразованием с какой-либо целью, т. е. планомерным обдумыванием, то во сне, когда мы не ставим перед собой никаких задач, последовательность образов не будет определяться никакой целью, и они будут чередоваться в нашем воображении как попало – примерно так, как представляются предметы нашим глазам тогда, когда мы безразлично смотрим на них и видим их не потому, что желаем их видеть, а лишь потому, что глаза у нас открыты. В этом случае все представляется нам лишенным всякого порядка. Вторая особенность сновидений обусловлена тем, что при исчезновении ощущения мы делаемся невосприимчивыми ко всякому новому движению, исходящему от объектов, в силу чего в нашем сознании не могут возникнуть никакие новые образы, если только не называть новым то, что представляет собой сочетание старых образов, как это имеет место в представлении химеры, золотой горы и т. д. В-третьих, сон иногда представляет собой как бы продолжение восприятия и возникает из распавшихся образов (например, у больных), и это, очевидно, имеет свое основание в том, что в подобных случаях ощущение в некоторых органах продолжает существовать, а в других прекращается. Весьма трудно объяснить тот факт, что определенные образы вообще могут возникать, когда все внешние органы скованы сном. Однако вышеизложенные соображения содержат объяснение и этого факта. Ибо если что-нибудь производит возбуждение в нежной мозговой оболочке, то оно пробуждает тем самым некоторые из образов, движение которых еще остается в мозгу. И если какое-нибудь внутреннее движение сердца достигает мозговой оболочки, то движение, преобладающее в мозгу, производит образ. Такими движениями сердца являются влечение и отвращение, о которых нам сейчас придется говорить. Но точно так же, как влечение и отвращение могут быть порождены соответствующими образами воображения, образы воображения могут быть произведены влечением и отвращением. Например, от гнева и ссоры в сердце возникает жар, и, наоборот, от жара, чем бы он ни был вызван, в сердце вспыхивает гнев, и во сне возникает образ врага. И подобно тому как любовь и красота производят теплоту в известных органах, теплота, каковы бы ни были причины ее возникновения, часто пробуждает в тех же органах вожделение и вызывает образ неотразимой красоты. Подобным же образом ощущение холода возбуждает в спящих страх и вызывает у них образы привидений, ужасов и опасностей; наоборот, страх у бодрствующих людей порождает ощущение холода. Так сильно связаны друг с другом движения сердца и мозга. Четвертая особенность сновидений, а именно что вещи, которые мы как будто видим и чувствуем во сне, представляются нам так же отчетливо, как и при действительном восприятии, обусловлена двумя причинами. Во-первых, поскольку во сне мы не получаем никаких чувственных восприятий внешних вещей, то внутреннее движение, которое вызывает образ, преобладает, поскольку оно существует. Во-вторых, стертые временем части образа замещаются другими, вымышленными частями. В сновидениях нас не поражает, наконец, ни странный характер места, ни странный характер появления незнакомых вещей, ибо изумление предполагает, что вещи представляются нам новыми и необычными, предпосылкой чего в свою очередь является воспоминание и сравнение с прежними ощущениями. Во сне же все представляется непосредственно существующим.
Здесь следует заметить, что сны известного рода, особенно такие, которые видят люди, находящиеся в полудремотном состоянии, а также люди, незнакомые с сущностью снов и к тому же суеверные, не считались раньше, да и теперь не считаются снами. Некоторые принимают явления и голоса, которые они, как им представляется, видят и слышат во сне, не за образы воображения, а за предметы, существующие независимо от них. Ибо воображению некоторых не только спящих, но и бодрствующих людей, в особенности таких, которые виновны в каком-либо преступлении, страх, отчасти поддерживаемый рассказами о подобных явлениях, рисует ночью в святых местах страшные видения, которые они принимают за реальные вещи и называют духами, или бестелесными субстанциями.
У большинства живых существ насчитывается пять чувств, различающихся как по соответствующим органам, так и по характеру воспринимаемых посредством этих органов впечатлений, а именно: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Органы чувств являются отчасти специфическими, а отчасти общими. Орган зрения состоит из живых и неживых частей. Неживыми частями являются три рода влаги: во-первых, водянистая влага, которая вместе с прилегающей к ней увеальной плевой (membrana uvea), снабженной посредине отверстием (называемым зрачком), ограничена с одной стороны выпуклой внешней поверхностью глаза, а с другой – ресничными отростками и сумкой хрусталика; во-вторых, хрусталик, который, свешиваясь между ресничными отростками, представляет собой более плотную массу и ограничен со всех сторон собственной прозрачной оболочкой; и, в-третьих, стекловидное тело, наполняющее остальную полость глаза и представляющее собой массу более плотную, чем водянистая влага, но более тонкую, чем хрусталик. Живой частью органа зрения является прежде всего сосудистая оболочка, часть нежной мозговой оболочки (menix). От нее следует отличать ту часть menix, которая покрыта плевой, идущей из сердцевины оптического нерва, и называется сетчатой оболочкой. Эта сосудистая оболочка, будучи частью menix tenera, доходит до начала спинного мозга, находящегося внутри черепа, где сходятся корешки всех нервов. Здесь нервы черпают все те животные духи, которыми они обладают, ибо трудно себе представить, чтобы они могли черпать их из какого-нибудь другого места. Так как ощущение есть не что иное, как переданное до последних частей органа действие объектов, а животные духи (spiritus animales) – не что иное, как очищенные в сердце и распространенные при помощи артерий жизненные духи (spiritus vitales), то отсюда следует, что процесс возбуждения распространяется от сердца до корешков нервов, находящихся в голове, при помощи каких-либо артерий, таких, как plexus retiformis или другие артерии, углубляющиеся в вещество мозга. Указанные артерии представляют собой дополнение, или другую половину, всего зрительного органа. Эта часть его есть орган, общий всем чувствам, между тем как первая его часть, простирающаяся от глаза до корешков нервов, специфична для чувства зрения. Орган слуха есть барабанная перепонка и относящийся к ней нерв. Другая часть его, простирающаяся до сердца, является общей ему и остальным органам. Специфические органы обоняния и вкуса представляют собой нервные оболочки в нёбе и на языке, что касается вкуса, в ноздрях, что касается обоняния; та их часть, которая простирается от корешков нервов, является общей им и остальным органам. Органами осязания, наконец, являются нервы и кожицы, разветвленные по всему телу и имеющие начало в корешках. Другая их часть, будучи общей им и остальным чувствам, заключается, по-видимому, не в нервах, а в артериях.
Впечатление, свойственное чувству зрения, есть свет. Под светом понимают также и цвет, который есть не что иное, как смешанный свет. Образ от светящегося тела есть свет, а от тела цветного – цвет. Но объектом зрения, собственно говоря, является не свет и не цвет, но светящееся, освещенное или цветное тело. Ибо свет и цвет, как субъективные впечатления ощущающего, не могут быть акциденциями предмета. Последнее явствует уже из того обстоятельства, что мы часто представляем видимые вещи в таких местах, где они, согласно нашим достоверным сведениям, не находятся, и что эти вещи в разных местах могут казаться обладающими разными цветами и даже одновременно находящимися в нескольких местах. Движение, покой, величина и форма общи чувству зрения и чувству осязания. Но ни свет, ни цвет не могут существовать без формы. Целое же явление, т. е. форму вместе со светом или цветом, греки обычно называли είδος или εΐόωλον и ιδέα, а римляне – species и imago (эти слова означают то же, что и слова aspectus – внешний вид).
Впечатление, возникшее в органе слуха, есть звук, в органе обоняния – запах, в органе вкуса – вкус. Посредством осязания мы получаем ощущения твердости, мягкости, теплоты и холода, влажности, маслянистости и многого другого, что легче различить чувством, чем определить словами. Гладкость, шероховатость, разреженность, плотность относятся к форме и общи поэтому как осязанию, так и зрению. Объектами слуха, обоняния, вкуса, осязания точно так же являются не звук, запах, вкус, твердость и т. д., а тела, от которых исходит звук, запах, вкус, твердость и т. д. О причинах и способе возникновения соответствующих ощущений мы будем говорить дальше.
Все эти образы суть действия, произведенные в ощущающем субъекте предметами, действующими на его органы. Но те же самые предметы производят и другие действия на эти органы. Это сказывается в известных движениях, возникающих в органах чувств и именуемых животными движениями (motus animales). Так как в каждом ощущении, обусловленном существующими вне нас вещами, действие и противодействие взаимно связаны, т. е. два импульса противостоят друг другу, то очевидно, что движение, одновременно произведенное двумя телами, будет распространяться по всем направлениям, однако преимущественно по направлению к границе обоих тел. Всякий раз, когда это имеет место во внутреннем органе, возникает импульс, стремящийся наружу. Этот импульс распространяется по телесному углу, и он (а с ним и соответствующая идея) тем больше, чем сильнее впечатление (impressio).
11. Отсюда ясна физическая причина, во-первых, того факта, что вещи, которые мы видим под большим углом, при прочих равных условиях кажутся нам большими; во-вторых, того, что в ясную, безлунную холодную ночь мы видим больше неподвижных звезд, чем в другое время. Ибо благодаря прозрачности воздуха действие звезд не встречает тогда никаких препятствий, а свет их не затмевается луной, которая отсутствует. Холод, делающий воздух более ясным, поддерживает или усиливает действие звезд на глаза, так что невидимые в иное время звезды становятся заметными.
Этих общих замечаний об ощущении, возникающем в силу противодействия внутреннего органа, пока достаточно. О месте же образа, обманах чувств и других вещах, которые узнают благодаря ощущению, нам придется рассказать там, где мы будем подробно говорить о человеке, ибо это по большей части связано со структурой человеческого глаза.
12. Существует, однако, другого рода ощущение, о котором здесь кое-что нужно теперь сказать, а именно ощущение удовольствия и страдания. Оно возникает не из противодействия сердца, направленного наружу, а из движения, направляющегося от самой внешней части органа к сердцу. Так как источник жизни находится в сердце, то всякое движение в ощущающем органе, доведенное до сердца, должно в каком-либо отношении изменять и отклонять жизненные движения, ускоряя или замедляя последние, поддерживая их или противодействуя им. Если эти движения встречают поддержку в новом движении, то возникает удовольствие; если же они встречают противодействие с его стороны, то возникают боль, страдание, огорчение. И как образы, в силу того что связанные с ними импульсы направлены наружу, кажутся существующими вне ощущающего субъекта, так удовольствие и страдание, в силу того что связанные с ними импульсы направлены внутрь, кажутся чем-то внутренним и существующим там, где находится первая причина этих ощущений. Так, боль, которую нам причиняет рана, кажется нам находящейся в самой ране.
Жизненное движение есть беспрестанное круговое движение крови по венам и артериям, как это неопровержимо доказано первым наблюдателем этого факта моим земляком Гарвеем[28]. Будучи задержано каким-нибудь другим движением, вызванным действием чувственных вещей, оно может быть восстановлено посредством сгибания или растягивания частей тела, т. е. посредством процесса, с помощью которого жизненные духи вгоняются то в те, то в другие нервы, пока не будет устранено все, что вызывает страдание. Если же жизненное движение, напротив, встречает поддержку в каком-нибудь процессе восприятия, то тем самым создается предрасположение к такому распределению животных духов, при котором движение с помощью нервов по возможности сохраняется и усиливается. Так возникает первый импульс животного движения. Мы находим этот импульс уже у зародыша, который, стремясь избежать неприятного и ища приятного, во чреве матери уже двигает свои члены произвольно. Это стремление, поскольку оно направлено на то, что уже испытано как приятное, называется влечением; поскольку же оно клонится к тому, чтобы избежать неприятного, – отвращением, или желанием уклониться (fuga).
В раннем возрасте как влечение, так и отвращение направлены на очень немногие вещи, ибо тогда люди лишены опыта и воспоминания. Поэтому маленькие дети еще не обладают большим разнообразием животных движений, которые мы замечаем у взрослых. Без опыта мы не можем знать, какие вещи нам доставят удовольствие, а какие – страдание. На основании внешнего вида вещей можно лишь делать предположения. Поэтому дети наобум хватаются за вещи или отворачиваются от них, совершенно не зная, полезны ли они им или вредны. Лишь постепенно они узнают, чего следует желать, а чего – избегать, и обучаются управлять своими нервами и органами, для того чтобы достигнуть одного и избежать другого. Влечение и отвращение – первые импульсы животного движения. Благодаря им нервы получают импульс, и жизненные духи соответственно оттягиваются назад (а именно к пункту, лежащему поблизости от начала нервов). Результатом этого является напряжение и расслабление мускулов, за которыми следует сокращение и растяжение членов. В этом заключается животное движение.
13. Влечение и отвращение могут быть, однако, рассмотрены и с другой точки зрения. К одной и той же вещи можно испытывать то влечение, то отвращение в зависимости от того, считают ли ее полезной или вредной. Если в одном и том же субъекте происходит таким образом чередование влечения и отвращения, то возникает ряд представлений, которые мы называем размышлением (deliberatio). Последние остаются таковыми, пока существует возможность достигнуть то, что нравится, и избежать то, что не нравится. В том случае, когда такое размышление не имеет места, говорят просто о влечении и отвращении. Но если действию предшествует размышление, то последнее из сменяющих друг друга побуждений называется желанием, или волей (volitio), в том случае, когда этим побуждением является влечение, и нежеланием, когда этим побуждением является отвращение. Воля и влечение означают одно и то же и различаются только в нашем понимании в зависимости от того, учитываем ли мы предшествовавшее размышление или нет. То, что происходит в душе человека, желающего чего-нибудь, ничем не отличается от того, что происходит в душе других животных существ, когда они после предварительного размышления к чему-то стремятся.
Да и свобода желать или не желать в человеке не больше, чем во всех других животных. Там, где возникает влечение, для него существует достаточная причина; поэтому влечение, как это было доказано (гл. IX, п. 5), не может не последовать, т. е. следует по необходимости. Следовательно, свободой, которая была бы свободой от необходимости, не обладает ни воля человека, ни воля животных. Если же мы под свободой понимаем не способность хотеть (volendi), а способность исполнять (faciendi) то, чего хочешь, то такой свободой, поскольку она вообще возможна, несомненно, одинаковым образом обладают как человек, так и животное.
Если влечение и отвращение быстро следуют друг за другом, то возникающий ряд меняющихся побуждений называется то по имени одного, то по имени другого из этих ощущений. Это именно то колеблющееся размышление, которое, поскольку в нем содержится влечение, называют надеждой, а поскольку в нем содержится отвращение, – опасением. При отсутствии надежды можно говорить не об опасении, а только о ненависти, а при отсутствии опасения – не о надежде, а только о желании. Одним словом, все так называемые страсти состоят из влечения (appetitus) и отвращения (fuga), за исключением чистого наслаждения и чистого страдания, которые являются только результатом познания добра и зла. Гнев, например, есть отвращение к угрожающему нам злу, связанное с желанием преодолеть это зло силой. Но так как существует бесчисленное множество страстей и душевных движений и многие из них знакомы только человеку, то мы подробнее расскажем о них во второй части нашей системы – в трактате «О человеке». Что касается тех предметов (если есть таковые), которые не вызывают в нас никакого душевного движения, то мы ими, как говорится, пренебрегаем. Вот все, что я хотел сказать об ощущении в целом. В ближайшей главе я буду говорить о чувственно воспринимаемых предметах.