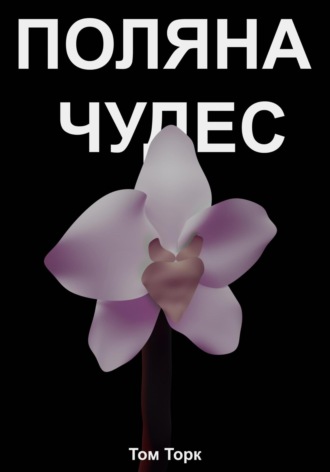
Том Торк
Поляна чудес
– И знаешь, – продолжала Полина, смотря по сторонам, – если этот чудо-цветок необычайной красоты существует… То он точно создан Богом как вершина всего прекрасного, как подарок человечеству, пускай и погрязшему сейчас в дрязгах и войнах.
– Мне кажется мы гонимся за призраком, всё что у нас есть – рассказ грибников, где-то тут повстречавших «чудо», – сказал я, поглядывая на часы, пора было возвращаться, а Полине как два часа необходимо было принять лекарство…
– И ты не веришь им? Я верю! Люди редко врут, говоря о красоте, – она споткнулась о корень дуба, я подхватил её. От этого ли события или верх взяло время, но Полина жутко закашлялась, вдруг выплюнула на траву багровую кровь. Взглянула на меня, резко побелев, извинялась за испорченный миг улыбкой:
– Похоже мы загулялись, достань лекарство, пора уже возвращаться назад… – произнесла она, быстро уставая, словно угасая, уселась обессиленно на землю.
Я полез в сумку, висящую на моём плече. Там не было шприца с препаратом, по моему лицу Полина быстро поняла, что происходит:
– Ладно, обойдёмся без этого…
Губы её, бывшие до того полны жизни, потеряли силу. Беспокойство моё начало быстро расти. Я перевернул сумку вверх дном – ничего. Неужели забыл? Как мог забыть? Я всегда следил за этим, неужто оставил лекарства в другой сумке?
Я взглянул на Полину, ей становилось холодно, она обхватила себя руками, смотрела немигающим взглядом в строну, было видно – прощалась.
– Наверное оставил в машине… – бросил я мёртвым голосом, исполненным отчаяния, – пойдём… вставай… мы ещё успеем дойти, – Полина посмотрела на меня, и этот взгляд – исполненный горечи и расставания – я не забуду никогда. Её болезнь не лечилась, лишь купировалась препаратами, но если пропустить их приём хоть раз – это означало неминуемую смерть. Я знал об этом с первого дня нашей с ней встречи, но не страшился этого, любил за неутомимое стремление к познанию нового и неизведанного – черта эта была невероятно редка и необходима в профессии геолога. До сих пор не могу простить себя за то, что забыл тогда чёртов шприц – чего не случалось со мною ни разу за два года наших с ней отношений.
Со сжимающимся от ужаса сердцем я помог Полине подняться. Было видно, как нелегко ей это давалось.
– Идти можешь?
Она утвердительно кивнула, но я видел, что идти не могла. Взял её, становившуюся будто бы меньше и меньше с каждой секундой, на руки и понёс, чуть не побежал назад под сгущающиеся сумерки…
Быстро запыхался, гораздо скорее, чем ожидал сам от себя, знал – останавливаться нельзя, брёл неутомимо дальше…
Полина вдруг вцепилась в меня мёртвой хваткой, тихо прошептав:
– Кажется, мы заблудились, опусти меня на землю, – её голос был очень слабым и давался явно нелегко.
Я не слушал, она предприняла ещё одну попытку остановить меня, к глазам которого начали подступать скупые мужские слёзы, Полина была права – похоже мы заблудились.
– Мне нужно тебе кое-что сказать…
Она усилием выпуталась из моих рук, упав в высокую траву. Облокотившись из последних сил, Полина произнесла слова, которые отпечатались в моей памяти, думается, навсегда:
– Бог даёт и забирает жизнь…
– При чём здесь Бог! Во всём виноват я! – вспылил, силясь вновь поднять её, но Полина сопротивлялась:
– Не кори себя… И вот что пообещай: ты найдёшь эти чудо-цветы, о которых говорили грибники, тогда, может быть, поймёшь и увидишь руку Бога, поймёшь, зачем я верю в него…
Закашлявшись кровью, она потеряла сознание, а я, в конце концов, потерял её…
Много и много раз за тем ходил в дышащую неизвестность – в этот проклятый Уральский лес в поисках чудо-цветов. Но всякий раз тщетно – всякий раз не находил что-то большее обычных одуванчиков. Наконец, разыскал тех грибников, утверждавших, что поляна существует, и якобы однажды видевших её. С ними я бродил днями, пока мы не наткнулись на то самое место, о котором они говорили – или они лишь убедили меня в том, что это именно оно. Там росли самые обыкновенные цветы, коих на земле миллионы, если не миллиарды: орхидеи и колокольчики. Красиво, но обычно. Глядя на них, я так и не увидел руку Бога, не понял, зачем ей был важен дядька, расквитавшийся с ней по моей вине, моими руками… очевидно, мне нужно было отыскать настоящие чудо-цветы, достойные памяти Полины…
С одержимостью я искал похожие сообщения о народных находках, пока судьба не свела меня с Мишей и предложившим отправиться в глухую Сибирь. Я был уверен – уж эти цветы с поляны чудес, растущие в январе на свежем воздухе – есть не только проявление божественной руки, они без сомнения достойны Полины, погибшей из-за моей ошибки и невнимательности…
5.
Меня разбудил Мишин голос:
– Федь, давай вставай.
Я кое-как протёр глаза, глядя на его усталое, немного обеспокоенное, лицо. Маски, несмотря на тяжёлый ночной мороз, на нём не было:
– Что… что-то случилось?.. – после сна я был сам не свой, кажется, на щеках сохли слёзы.
– Твоя очередь дежурить, – ответил он раздражённо, не смотря на меня, взгляд его блуждал где-то по округе.
Я не нашёлся что ответить, глянул на часы, действительно, было немногим больше трёх часов утра.
– Ты перевёл мои часы? – не поверил я своим глазам, вздрагивая от холода, пробравшегося в мою палатку, или так ощущались отголоски прошлого?
– Что? – устало и немного гневно переспросил Миша, посмотрев на меня немигающим взглядом, отчего-то чуть не плача.
– Ты перевёл мои часы? Я только что дежурил.
– Не дури, Федь, сейчас не время для шуток, давай быстрее, не представляешь, как я хочу сейчас уснуть, – на его лице стояла маска подступавшей паники, чуть ли не ужаса, уж не видел ли он тоже что-то, как и я? А может, ему также снился сон, от которого он ещё не отошёл?
Но в тот момент я не стал его расспрашивать, у меня тогда, кажется, душа блуждала в пятках и неприятный холодок гулял по спине. Когда же, кое-как собравшись с мыслями, выбрался из палатки к лампе-ночнику, Миша уже посапывал, недовольно и боязно хмурясь…
6.
Утро следующего дня выдалось на редкость гадким. Выспаться, похоже, удалось только Борису Николаевичу, дежурившим первым. Он старался поднять нам, бледным и заспанным, настроение, но выходило слабо.
Позавтракав и заметя следы своего пребывания, мы двинулись дальше в сердце Сибири. Наш командир, руководствуясь картой, нарисованной охотниками, бывшими до этого тут, и компасом, уверенно прокладывал дорогу вперёд. Мне трудно описать то утро и последующий за ним день – силы постепенно покидали меня. Думаю, так происходило во многом потому, что воспоминания недалёкого прошлого вновь возымели надо мной власть.
Природа вокруг сгущала краски: солнце почти не показывало свой лик, ветер старался порвать на нас куртки и, кажется, резал кости, которые не переставали ныть после ночи. Хуже того – Миша заболел. Его лающий кашель нарушал тишину, и похоже это и вызывало в природе необычайный гнев. Он, запинаясь, пытался зачитать нам свои новые стихи, которые написал этим утром, но чувствовалось, как тяжело ему давалось говорить:
Дышат мне в спину насмешки судьбы…
Люди Сибири смеются, кричат…
Знали, что будет всё так – и плетьми…
Крошат мой дух, заклинают страдать…
Спрятано что-то в поляне чудес…
Мы не должны узнавать, но идём…
Чёртовый холод – убийственный бес…
Он пожелал – и убьёт хоть сквозь сон…
Мы шли дальше молча. Старались и беречь силы, и лишний раз не докучать друг другу.
– Это не указано на карте, – остановил нас Борис Николаевич.
Перед нашей вереницей за деревьями предстала избушка, скорее всего, охотничий домик. Но их всегда отмечают на картах или, по крайней мере, говорят о наличии убежища от лютых январских морозов. Было по-настоящему невероятно найти строение здесь, бывшее далеко от городов и рек.
– Сегодня заночуем здесь, – решил наш командир, поглядывая преимущественно на Мишу, который от этого чуть ли не взорвался:
– Не нужно на меня так смотреть, я не якорь и в состоянии идти дальше! К чёрту дом, осталось немного, чуть что заночуем в лесу как в прошлый раз! – он с пеной у рта начал доказывать, почему именно ночёвка под открытым небом лучше, чем тратить драгоценное время в избе. Разорался на нас до того, что потерял голос и принялся хрипеть: – Или вы так хотите надо мной посмеяться?! Конечно, всё как всегда! Моё мнение заночевать в лесу, но пройти путь не за шесть дней, а за пять – безумие, а потому можно и не рассматривать вовсе! Пошли, – он начал чертить лыжами новый путь, – идёмте вперёд, чего встали?!
Борис Николаевич остановил его, схватив сзади за куртку и потрогав лоб:
– Ты весь горишь, мне теперь кажется, что мы должны будем вернуться, вся экспедиция под угрозой, если чья-то жизнь в опасности.
– Вот как? – шёпотом спросил Миша, исподлобья смотря на нашего командира сверкающими глазами, – вот значит как? Я, – он вдруг закричал во всё горло, голос его стал очень высоким, а связки на оголённом горле натянулись струной, – не позволю, чтобы из-за меня над всеми нами смеялись! Мне нужна эта поляна чудес, понял, старик? Только так я докажу, что чего-то стою в этой жизни, понятно? Теперь ясны мои мотивы? Всем ясно?! Мы с вами дойдём туда, возьмём образцы, и мне всё равно, находится «чья-то» жизнь в опасности или нет! Только попробуйте повернуть меня назад, и вы познаете мой гнев!..
Мы смотрели на его крики и последовавшие за тем ругань и мат во все глаза. Образ умного, интеллигентного парня улетучился, оставив душу неприкрытой, жуткой и грязной, исполненной детской обиды перед обществом, с которым он, по всей видимости, боролся с ранних лет. Но стоило только Борису Николаевичу, пришедшему первым в себя, раскрыть рот для возражений, как Миша яростно накинулся на него, повалив в снег:
– Слушайте меня!..
Мы с Гришей оттащили драчуна в сторону, держа за руки. Он как с цепи сорвался и продолжал кричать, чтобы мы непременно продолжили путь и дошли до поляны чудес. Мне остаётся до сих пор лишь догадываться об истинных мотивах, по которым он собрал команду в эту глухую Сибирь, почему так стремился дойти до конца. Только позднее, по возвращению в столицу, я узнал от его брата – именитого геолога – возможные причины такого поведения. С детства Миша не отличался какими-то выдающимися способностями, в отличие от всей его родни: братьев и сестёр, достигших непревзойдённых учёных высот. Конечно, все ожидали и от него подобного, но время шло, а никаких открытий им так и не было сделано. Он так и не стал ни популярным поэтом, коим грезил себя в юношестве, ни великим геологом. Наверное – и тут применимо именно такое слово – за это семья его недолюбливала, постоянно тыкала носом в более успешных родственников. Тогда мне и стало понятно, почему он с такой злобой и гневом шёл вперёд на практиках в дремучие леса или забирался на крутые склоны ради образцов, пока остальным необходима была или компания друг друга, или хотя бы некоторое время, чтобы прийти в себя.
Но в ту секунду, вдали от цивилизации для человека, находящегося, по всей видимости, в состоянии близком к лихорадке, мысли мои были лишь о том, как бы его так успокоить и занести в дом на ночёвку.
– Хорошо-хорошо, – поднялся Борис Николаевич на ноги как ни в чём не бывало, – мы дойдём до нашей цели, но сначала немного отдохнём в избе, ты ведь так устал, не так ли?
Дёргающийся, с мокрыми от пота волосами, изнывающий от жары Миша, кажется, действительно сильно устал, а потому, прекратив попытки выбраться из нашей стальной защиты, кивнул головой.
– Вот и славно! – заключил Борис Николаевич, снимая свои лыжи, – ребята, не держите его, отпустите-отпустите…
Видно, после выплеска бурных чувств человек всегда становится несколько опустошённым, так случилось и с Мишей, ставшим более податливым и спокойным, он молча проковылял с нами до избушки.
Охотничий дом был даже меньше, чем казался со стороны – четыре стены, кровать, угловой стол на одного – максимум на двоих, дощатый пол, местами прогнивший, местами прогрызенный насекомыми – всё внутри так и дышало тем, что он был давным-давно оставлен и заброшен. Лишь одна деталь говорила против этой теории – маленькая металлическая печь была тёплой. Мы, положившие начавшего стонать Мишу на промятую кровать, так и переглянулись. «Неужели кто-то сейчас вместе с нами тоже в лесу?», – проносилось у нас в головах. Но ни следов, ни какого-либо другого присутствия человека внутри не было. Не мог же огонь зажечься и потушиться сам собой? К тому же, ещё одна деталь никак не сходилась – дыма никто из нас не видел, может, так сказывалась на нас усталость, а может, мы попросту не смотрели на небо.







