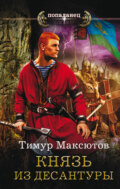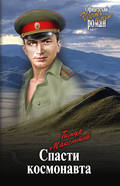Тимур Максютов
Нашествие
Нукер кивнул, нагнулся над телом.
Субэдэй занёс копию Орхонского Меча и обрушил её на затылок воина: хрустнул череп, второе тело распростёрлось поверх первого.
Темник осмотрел клинок, вытер от крови. Хмыкнул:
– Не такая уж и плохая работа.
Завернул клинок в приготовленный плат китайского шёлка, полученный от Чингисхана. Вышел, прикрыв скрипнувшую дверь. Подозвал начальника охраны:
– Кто-нибудь ещё заходил в кузницу?
– Нет, дарга, – удивился тот, – ты же запретил.
– Хорошо. Случилась беда: мастер и наш товарищ угорели. Сожгите эту несчастливую кузницу, чтобы и следа не осталось. Найдите вдову кузнеца и передайте ей золото и мои соболезнования, – Субэдэй протянул тугой тяжёлый кошель.
– Ясно. Приступать?
– Подожди. Отдашь нужные распоряжения, а сам поезжай к Бортэ-учжин и принеси ей этот свёрток. Скажешь, что Субэдэй-багатур покорно исполняет приказание и просит прощения, что не доставил свёрток лично: очень занят на подготовке штурма города.
– Будет исполнено, дарга.
Субэдэй поднялся в седло и поскакал в лагерь.
* * *
Темник лишь ненадолго заглянул в свой шатёр. Когда вышел, нукер почтительно спросил:
– Куда теперь, Субэдэй-багатур?
– Никуда. На сегодня хватит. Рассёдлывайте и поите лошадей. Я схожу к реке, хочу побыть один.
– Понял, дарга. Двух охранников хватит?
– Чего ты понял, тупой баран? – выругался темник. – Я же сказал – «один». Не хочу видеть ничьи рожи, и ваши – в первую очередь.
Похромал в сторону близкого берега.
Нукер посмотрел вслед, пробормотал:
– Что-то наш старик с утра сам не свой. Тяжёлый день.
* * *
Звёзды – это души воинов, навсегда ушедших на небесную охоту. Иногда они вспоминают и смотрят вниз: как там, на Земле? Не забыли ли о чести? Соблюдают ли обычаи? Помнят ли героев былых времён?
Одна из этих звёзд – урянхайский кузнец, мастер железа, отец великого полководца. Что думает он о сыне? Гордится его славой и доблестью или осуждающе качает головой, а мама гладит его по плечу, успокаивая?
Субэдэй вздохнул.
Тихо плескала вода неспешной реки, словно шептала слова утешения.
Темник достал Орхонский Меч: блеснуло лезвие в звёздном свете, будто вспомнило о своём небесном происхождении и обрадовалось старым друзьям. Задумчиво погладил пальцами клинок. Вздрогнул от нежданного голоса:
– И сидел багатур на берегу реки, и размышлял: что же делать ему с волшебным клинком?
Оглянулся. Разглядел в свете полной луны лицо, изуродованное страшными шрамами, кривой ухмыляющийся рот.
– Это ты, таёжный шаман? Зачем пришёл? Тебе удалось спасти свою жизнь, но везение иногда кончается.
– Не в моём случае, Субэдэй. Мне надо поговорить с тобой.
– Подожди, – спохватился темник, – ты же не знаешь нашего языка.
– Я понимаю речь птиц и зверей, слышу, о чём жалуется старый кедр, когда скрипит под ветром. Что мне язык монголов? Это нетрудно.
– У тебя странная особенность: просачиваться сквозь караулы, подобно ящерице, и появляться в неподходящее время. Как тебе это удаётся, таёжник?
– Для меня и моих друзей время всегда подходящее. Мир подобен столбу старой коновязи. Личинки древоточцев выедают невидимые снаружи ходы и могут высунуть свою голову в неожиданном месте. Можно, подобно этим личинкам, путешествовать во времени и пространстве, если умеешь найти прогрызенный ход.
– А не боитесь, что испорченный изнутри мир в конце концов рухнет, подобно подгнившим столбам коновязи? Так что тебе надо, колдун?
– Отдай мне Орхонский Меч. Ты всё равно не сумеешь им верно распорядиться.
Субэдэй усмехнулся:
– Сколько суеты вокруг него. Всем нужен кусок старого железа – гораздо больше, чем старый темник. Как тебя зовут?
– Называй меня Барсуком, багатур.
– Остроумно. Это потому, что твоё лицо разукрашено шрамами, как морда барсука – белыми полосами?
– Не поэтому. Неважно.
– И зачем таёжнику клинок? Подлесок сподручнее рубить топором. Или ты собираешься возглавить барсуков и покорить обидчиков-куниц? – рассмеялся темник. – Орхонский Меч – загадочная реликвия древней работы, дар богов.
– Да каких ещё богов, – разозлился вдруг шаман, – господи, как надоело это средневековое невежество! Ветер подул – это бог кашлянул, дождь полился – это бог поссал. Работа старая, да; подобные технологии, увы, давно утрачены. Но никакой это не меч, а анализатор вероятностей: золотой шарик навершия – аккумулятор, лезвие – приёмник сигналов. Рукоять… Да, вот самое загадочное – рукоять. В ней скрыт мощный компьютер, работающий на непонятных принципах. Прибор помогает выбирать из вероятностных линий, принимать верные решения, в том числе во время битвы. Его бы в хорошую лабораторию, да погонять на тестах!
Субэдэй не стал показывать изумления. Пробурчал:
– Ещё одно непонятное слово, Барсук, и я укорочу тебе язык этим самым клинком. Найди другого слушателя для своих неведомых заклинаний.
– Дремучий идиот.
– Не знаю, что означает последнее слово, но чувствую, что ты пытаешься меня оскорбить, шаман. Моё терпение кончается.
– «И вскипело сердце Субэдэя, измученное виной за убийство несчастного кузнеца и верного нукера, и объял его несправедливый гнев».
– Что?! Откуда ты знаешь про кузнеца?
Субэдэй начал подниматься, готовя клинок к удару, но шаман исчез: растворился в ночной тьме, которая поглотила его так же неожиданно, как и породила пять минут назад.
Темник ошарашенно оглядел пустой берег, залитый лунным светом. Пробормотал:
– Слишком много соблазнов вокруг него. Слишком много тайн. Хватит.
Размахнулся и швырнул меч. В последний раз сверкнуло лезвие, раздался всплеск – и чёрная вода тангутской реки поглотила артефакт.
Темник поковылял на свет костров.
Когда его шаги стихли, таёжник в чёрном балахоне выбрался из кустов тальника. Хмыкнул:
– «Откуда знаешь про кузнеца, откуда знаешь». Книжки надо читать, лапоть безграмотный. Бхогта-лама, «Сокровенные беседы», Жёлтая глава, «Про то, как темник Субэдэй утопил Орхонский Меч».
Достал из-за пазухи моток проволоки, смастерил рамку. Присоединил концы к чёрному кругляшу, надел на лоб обруч с фонариком, вставил наушники.
Зашёл в воду и начал водить рамкой над тёмной поверхностью, вслушиваясь в писк анализатора. Буркнул:
– Чёрт, хватило бы аккумулятора. Вот псих, далеко закинул.
Глава вторая
Острог на Тихоне
Июнь 1229 г., рубеж Добришского княжества
Скрипели длинные двуручные пилы, разрезающие брёвна вдоль, – будто ругались на разный манер. Стучали наперегонки топоры. Мужик обтёсывал бревно: из-под полукруглого лезвия курчавились стружки, обнажалась ярко-жёлтая древесина, а смолой пахло совершенно восхитительно.
Мальчик лет пяти переступил красными козловыми сапожками. Нагнулся, поднял жёлтый завиток, понюхал и улыбнулся.
– Ты чей будешь, богатырь? – подмигнул весёлый молодой парень в холщовой рубахе
– Тятин, – солидно ответил мальчонка.
– Что, хочешь на плотника выучиться, когда вырастешь?
– Не. Я как тятя буду.
– А чем отец занимается? Небось, по торговой части? Купец, богатый гость?
Мальчик наморщил лоб:
– Не. Он главный. На коне золотом, на Кояше.
И похвастался:
– Я Кояша кормил. Яблоком. Надо только на ладошке давать, а не в кулаке, а то он пальцы откусит.
– Так это княжич, что ли? – забеспокоился десятник. – Такой же рудый, будто костёр на головушке. Роман Дмитриевич, никак. А где няньки-мамки твои?
– Там, – мальчонка махнул в сторону княжеских шатров, – я от них убёг.
– Чего сбежал-то?
– Скучно. Тятя всё по крепости ходит, и дядька Жук с ним, и Сморода-боярин. А няньки глупые, ахают: «Надень овчину, от реки дует». Это летом-то! Дурные бабы. Будто я девчонка какая.
– Пойдем-ка, княжич, – строго сказал десятник и протянул широкую лапищу, – они там обыскались уже, небось.
Мальчик взял бородатого дядьку за руку и пошагал рядом. Дорога вышла долгая: то надо было сбить головку одуванчика, чтобы посмотреть, как ветер уносит лёгкие семена, то потрогать палкой отливающего синевой длинноусого жука.
Навстречу уже бежали две толстые тётки: раскрасневшиеся, хватающие воздух раззявленными ртами.
– Ваша потеря? – спросил десятник. – Что же так службу исполняете, полоротые.
Одна совсем запыхалась – только стояла, выпучив глаза да хлопая губами, будто рыба на берегу.
Вторая, помоложе да побойчее, упёрла руки в бока:
– Чего это «полоротые»? Иди ко мне, Ромушка, соколик наш ясный. Не обидели тебя?
– Не, – помотал головой мальчик, – я плотником теперь буду, чтобы стружки делать.
– Ты же князем хотел, как отец? – спросил десятник, улыбаясь в бороду.
– Ну, с утра побуду немножко князем, а потом плотником.
– Хватит болтать-то, – прикрикнула молодуха на десятника, – задурили ребятёнку голову.
Наклонилась, запричитала:
– Весь перемазался в смоле-то. Пошли, Ромушка, полдничать пора. Нечего с мужиками дружбу водить, с лапотниками.
– Эх, задрать бы тебе подол да всыпать, толстомясой, – усмехнулся десятник, – чтобы княжичей не теряла.
– Ишь ты, ловкий какой, подолы он задирать собрался. Иди, иди себе.
– До свидания, дяденька, – помахал ручонкой княжич, – я завтра приду.
* * *
Тихоня – речка скромная, это из прозвища ясно. Течёт себе, не спеша. Задумается о чём-то, запетляет. Потом очнётся – и вновь прямо бежит.
Гостеприимна и добра Тихоня: и юный ручей примет в свои прозрачные струи, и протоку из болота сарашей. Приходит на её берег всякий лесной зверь: и пугливый олень с грустными глазами, и гордый лось. Старая кабаниха приводит свой весёлый табор и внимательно вслушивается в шуршание камышей, пока полосатые малыши окунают пятачки в чистую воду – всем Тихоня рада, всех напоит, жажду утолит.
А в конце пути ждёт мать-река, имя которой Итиль, или Волга. Наша скромница присоединится незаметно, вольётся в могучий поток – и понесётся на полдень, неразличимая уже среди остальных.
Но в этот раз ждало Тихоню в месте обычной встречи с Волгой такое, что она чуть не побежала вспять от испуга.
Торопливо стучали топоры, громоздились свеженасыпанные земляные стены, толпились лодки; качались на волне крутобокие струги, а на них – чужеземцы в пёстрых одеждах, с сожжёнными нездешним солнцем лицами.
Князь Добришский задумал здесь ставить острог, а в нём – мытницу, собирать плату с гостей за проход по Тихоне вверх по течению. Три дня пути, устроенный стараниями князя волок, другие реки – и струги вновь окажутся в волжских водах, но уже за пределами земель Владимирского княжества. А там и до седого Волхова недалеко, до Великого Новгорода. И дальше купеческим кораблям дорога: через Нево-озеро – в море Варяжское, в богатые города.
Ох, хитёр Дмитрий! Многие новым путём пойдут: жаден великий князь Юрий Всеволодович, мыто втрое дерёт против добришского да иных иноземных купцов на запад не пускает, заставляет в Нижнем Новгороде товар продавать за бесценок и восвояси возвращаться. Многие ропщут: и персы, и булгары, и гости из Господина Великого Новгорода. Вот теперь наступит торговле облегчение, а казне Добриша – добрый прибыток!
Хитёр Дмитрий! И смел, да полководец знатный: в самых медвежьих углах земли русской слыхали про храброго Солнечного Витязя, что на Калке чести не уронил, а потом вместе с булгарами, черемисами да башкирами поганых татаровей в степь прогнал. Самого Субэдэя в плен взял, а с ним четыре тысячи захватчиков, что от двух туменов всего и уцелело, и на баранов их выменял – голова на голову. Вот смеху-то было!
И хитёр, и в воинском деле искушён. А дальновиден ли?
Грозен великий князь владимирский, обиду не простит. Да и рязанцам Добриш поперёк горла. Выстоит ли один маленький город против многих сильных?
Тихоня о том не знает. Её дело – гладкую спину под струги подставлять да княжеских коней чистой водой поить…
* * *
– Говорил же – в две сажени вал насыпать. Слышишь, боярин? – сердито сказал князь.
Ближний боярин Сморода у старшего брата, погибшего в битве на Калке, унаследовал и прозвище, и острый ум, и могучее чрево на толстых, как дубовые столбы, ногах, и должность. Только старший брат покойному князю Тимофею служил, а младший при Дмитрии подвизается.
– Сам мерял, княже. Две и есть.
– Смотри у меня. И с тыном отчего задержка?
– Я велел лес, что получше, на стройку причала отправлять. Вон кораблики толкутся, некоторые по три дня ждут.
– Вот это верно, – одобрил князь, – первым делом купцам удобство надо обеспечить, не обижать.
Жук скептически заметил:
– И две сажени низковато будет. Меня бы не остановило, коли взялся бы острог ваш брать. Да с доброй дружиной – враз бы взял.
– Развоевался он, ишь. Такой же твой острог, как наш. Чего это низковато? – набычился Сморода. – Со стороны реки – в самый раз. А с береговой стороны в будущем году ров выроем, как Дмитрий Тимофеевич велел. Хорошо выйдет, крепко.
– Ну, не киевские стены, прямо скажем.
– Слышь, умник, – взорвался боярин, – ты ещё скажи – не Царьград. Что можем, то и строим, по молодцу и меч: кому харалужный, кому ржавый, а тебе, трепло, лыковый. Иди вон, делом своим займись. Княжича нянчи.
– Чего расшумелся? Князь велел глянуть, как опытному воину, а ты бухтишь. Гляди, чрево своё не растряси, а то через край польётся.
Сморода побагровел и набрал было воздуха для ответа, но князь остановил:
– Но-но, хватит тут мне. Чисто петухи, сейчас бросятся. В одной лодке гребём. Что толкового скажешь, Жук?
– Вот туда, в угол, надо башенку поставить. Для лучников и караульных. Там река как на ладони, оттуда обзор хороший.
– Дело, – согласился князь, – заметь себе, боярин. Вечером в чертёж впиши.
Сморода хотел было возразить. Поглядел на место схождения крепостных фасов со стороны Волги и Тихони, про которое указал Жук. Крякнул и не стал спорить.
– Что там дальше у нас? – спросил Дмитрий.
– Новгородские купцы встречи просят. Ещё там чудак один, папежник, чернец фряжский. Пешком из самого Рима будто идёт. Ну, и просители всякие, – объяснил Сморода.
– Нигде от них не спрятаться, – вздохнул князь, – чего сюда припёрлись? Пусть в Добрише сидят, ждут. Или к княгине обращаются, если загорелось посерёдке, раз она на хозяйстве осталась, пока мы тут строимся. Анастасия их быстро образумит.
Жук засмеялся было, но прикрыл рот ладонью и сделал вид, что закашлялся. Сморода смущаться не стал, согласился:
– Это да. Анастасия Тимофеевна рассусоливать не будет – враз с княжеского двора погонит, если кто с пустым разговором придёт. Строга она, матушка наша. Вот бы и ты, князь…
Сказал – и осёкся: Жук так хлопнул боярина по спине, что тот чуть язык не прикусил. Сморода хотел было возмутиться на фамильярность, но передумал. И вправду, не стоит: и так уж сколько лет говорят, что в роду Тимоши Добришского все – блаженные да мягкие, один мужчина, и тот – княжна Анастасия… То есть, конечно, теперь уже княгиня. И Дмитрий, хоть покойному Тимофею не родной сын, а приёмный – тоже таков. В битве храбрый, да сердце доброе, не умеет просителям отказывать; а среди них всякие попадаются: есть и мошенники, и хитрецы, да и просто дураки.
– Тятя!
Прерывая неудобный разговор, подбежал княжич – так спешил, что уронил шапку. Дмитрий схватил первенца, поднял на руки. Улыбнулся счастливо:
– Ты откуда взялся, Роман Дмитрич?
– Как откуда? – удивился мальчонка. – Или ты не знаешь? Меня маманя родила.
Князь рассмеялся. Запыхавшаяся нянька виновато сказала:
– Прости, князь-батюшка, не удержать его. Всё к тебе просится, скучает. Не вели казнить, поддалася я на уговоры сыночка твоего, привела сюда.
Князь кивнул: всё нормально, мол. Поцеловал сына в розовую щёчку, спросил:
– Ну, чем занимался сегодня?
– Я с плотниками знаюсь теперь, – похвастался княжич, – сказали – возьмут меня в артель, только чуток подрасти надо. Буду тесать, и пилить, и топориком махать! Всё буду.
– Как же так? – удивился отец. – Ты же собирался витязем стать, чтобы змею горынычу головы срубить. Сколько у него голов, ну-ка? Вспоминай. Загибай пальчики. Один…
– Два, три, – быстро сказал Ромка, – четыре, шесть.
– Не спеши, торопыга. Пять-то пропустил.
Княжич нахмурился. Снова начал загибать пальцы, шептать про себя. Согласился:
– Да, тятя, пять-то первее будет, чем шесть. А потом семь. Семь голов у змея!
Наклонился, зашептал на ухо:
– Только можно я не буду ему все головы рубить? Вдруг у него детки есть, будут по отцу скучать. Оставлю немного, хорошо?
– Ладно, – согласился Дмитрий, – парочку голов оставь. Только строго накажи, чтобы он избы огнём не жёг, коров не ел, красных девиц не обижал.
– Он не будет! – пообещал княжич. – А ты тут крепость строишь?
– Острог.
– От ворогов?
– И от них тоже. И чтобы к нам гости со всех стран приезжали.
– Гости – это хорошо, – одобрил Роман, – гости всегда с гостинцами, потому их так и прозывают. А вот там что?
– Это река. Волга. Видишь, какая широкая?
– А за рекой?
– А за рекой Булгарское царство. Большое-большое. И сильное. Мастера у них хорошие, умелые. Вот сапожки твои они сшили.
– Молодцы. Сапожки у меня добрые, быстро бегают. А там кто живёт?
– Там мордва. Сарашам нашим дальние родственники. А вот там – рязанская земля. А выше по реке – владимирская, у них Юрий Всеволодович князем.
– Поедем к нему в гости? На Кояше верхом?
– Поедем, – сказал Дмитрий.
Усмехнулся невесело:
– Хорошо бы, конечно, верхом, а не с мешком на голове, лёжа в телеге.
– Витязи – они на конях скачут, – назидательно сказал Рома, – в телегах только бабы ездят.
– Это верно, княжич. Ну что, пойдём в шатёр? Только давай своими ножками, ты же большой уже.
– Был бы большой – плотники взяли бы в артель, а пока не берут, – вздохнул Роман.
И пошагал, сунув свою ладошку в тёплую отцовскую.
* * *
Распрощались с новгородскими купцами ласково: гости не поскупились на щедрые дары, особое восхищение добришевцев вызвал меч немецкой работы. Дмитрий не удержался, вытащил подарок из ножен. Встал посреди шатра, чтобы не задеть кого – и пошёл чертить круги и восьмёрки сверкающим лезвием.
– Добрый меч, по руке, – сказал довольно.
Так что деловой разговор прошёл легко: князь согласился дать скидку на добришевские товары – воск и пеньку, а новгородцы обещали увеличить число кораблей, идущих по новому пути, рекой Тихоней.
Сморода прикинул в уме, сколько монет это принесёт в казну, и аж зарумянился. Вопреки привычке, налил не медовухи, а дорогого заморского вина, махом осушил кубок и с удовольствием заел пирогом с вязигой. Наклонился к князю и прошептал:
– Понял, княже, зачем они про силу твоей дружины спрашивали?
– Чтобы разговор поддержать, – беззаботно ответил Дмитрий.
– А вот и нет. Присматриваются к тебе. Вот увидишь – пригласят на новгородское княжение. Ох, и заживём тогда!
– Скажешь тоже, – рассмеялся князь, – куда нам, у нас вся дружина – две сотни конных, да половцев полсотни.
– Им важнее, чтобы князь умный был да воинской доблестью прославленный. А дружину на их-то деньги можно любую собрать. Ты уж меня не забудь с собой взять, когда на стол в Великий Новгород поедешь.
– Так и быть, возьму, – улыбнулся Дмитрий, – чтобы они тебе в брюхо вместо вечевого колокола били. Звук-то не хуже выйдет, как думаешь?
– Смейся, смейся. Попомнишь ещё мои мудрые слова.
Дмитрий довольно поглаживал отделанные серебром ножны новенького меча, потому легко согласился принять фряжского чернеца. Переводить с латыни взялся иеромонах Филарет, постоянный спутник князя и будущий учитель княжича: сам Дмитрий язык порядочно подзабыл и не надеялся, что всё поймёт из сказанного гостем.
Папежник говорил долго и пространно, закатывал глаза и помогал руками; Филарет переводил, стараясь максимально передать интонацию; Сморода быстро задремал, лишь изредка всхрапывая и кивая – мол, согласен с оратором.
И Жук утерял нить длинной речи; зато его очень развлекало сходство двух служителей божьих, от чего дружинник прыскал в чёрную бороду. Монахи были похожи, словно единоутробные близнецы: оба в ветхих, но аккуратно заштопанных рясах; оба тощие, длинные, с желтоватой кожей, будто тонкие церковные свечки; только Филарет обладал редкой бородёнкой и сальными волосиками, а папежник был выбрит и сиял тонзурой, как блюдцем, на макушке.
Дмитрий тоже с трудом боролся с дремотой: из долгого повествования понял лишь, что итальянец не является официальным лицом, а путешествует для собственного развития и познания; он прочитал немало книг – все в своей монастырской библиотеке, и решил, что теперь настало время ему, вооружённому знаниями, сделать свой вклад в улучшение мира. Цель его – дойти до самого края мира, неся свет истинной веры дикарям…
– Смельчак этот папежник, – хмыкнул Жук, – до самого края он собрался. А если по дороге вогулы съедят? Они, говорят, любят мяском чужаков побаловаться. Если, конечно, булгары его раньше не выловят и в рабство не продадут.
Фрязин тем временем продолжал: он восторгается недавно избранным папой римским Григорием, расхваливает его достоинства и всячески поносит императора Священной Римской империи Фридриха Штауфена, который должного уважения папе не оказывает, клятвы нарушает и вообще светскую власть ставит выше церковной. Папа неоднократно отлучал императора от церкви, но Фридриху всё как с гуся вода: недавно самовольно прекратил крестовый поход в Святую землю из-за смехотворного повода – желудочной эпидемии…
Тут Жук не выдержал:
– Я тебе так скажу, чернец: с больным брюхом много не навоюешь. Прав этот ваш Фридрих: какие уж тут воинские подвиги, когда только и ищешь, под каким кустом присесть, чтобы посра… Тьфу ты. То есть опростаться. От поноса сил-то не прибавится!
Монах недовольно покачал головой:
– Все болезни – кара божья. Значит, император и его войско богохульничали, либо грешили иным способом, не соблюдали пост или недостаточно горячо молились, не проявляли должного уважения римской церкви и слугам её…
– Ну-у, запели иерихонские дудки, – разочарованно протянул Жук, – я ему про жизнь, а он мне про молитвы. Ладно, мели, Емеля, твоя неделя.
Папежник продолжил нудную лекцию: мол, из-за этой свары по всей Европе разброд и шатания: люди делятся на партии сторонников папы и императора и режут друг друга почём зря…
– Это всё очень познавательно, – не выдержал князь, – но абсолютно непонятно: нам-то эта история зачем? Где мы – и где эта ваша Палестина с обделавшимися крестоносцами. От меня-то ты чего хочешь, слуга божий?
Монах поджал бледные губы:
– Русский дюк должен понимать: поношение Святого Престола оскорбляет всех христиан, будь они в лоне римской церкви, или греческой, как вы, жители глухой окраины Европы. Вы обязаны помочь одёрнуть императора и привести его к покорности.
– Да ни фига мы не обязаны, – не выдержал князь, – в смысле: ничего мы не должны. Сами со своими проблемами разбирайтесь, у нас и своих хватает. Да если нас это вдруг коснулось бы – и что? Отправим нашу дружину, она порядок в Европе наведёт? Ну, конечно, Жук у нас – боец знатный, дюжину Фридриховых рыцарей прибьёт – так ведь, Жук?
– Легко, – оскалился дружинник, – даже две.
– Ну ладно, две дюжины – а с остальными что делать?
– Мне известно, – сказал монах, – что дюк Дмитрий имеет в верных друзьях царя Болгарии, далёкой страны за дремучими лесами. Говорят, войско болгар насчитывает сто тысяч сильных воинов, закованных в стальные латы. Пусть же дюк убедит друга исполнить долг христианина и привести своё войско в Европу, дабы поставить на место зарвавшегося императора Фридриха.
В шатре повисла тишина: слышно стало, как звенят цветы-колокольчики под лёгким ветром за полотняной стенкой шатра.
Сморода проснулся и выпучил глаза.
Жук спросил:
– Может, за лекарем сбегать? Голову-то напекло гостю. Зря он макушку себе выбрил.
– Так, стоп, – сказал Дмитрий, – ну, предположим, эмир Булгарский мне друг, и войска у него сто тысяч – хотя, конечно, меньше втрое. Скажи-ка, гость: какую, по-твоему, веру исповедуют наши заволжские соседи, что они должны всё бросить и побежать, задрав портки, папу вашего выручать?
– Ну как же?
Латинян оглядел собрание, почесал переносицу.
– Общеизвестно же: болгары приняли свет христианства триста пятьдесят лет назад, при царе Борисе. Это прочёл я в исторических хрониках…
Сморода икнул и захохотал. Жук гыкал, пытаясь кулаком заткнуть себе рот.
Даже Филарет сморщил постное лицо и хихикал мелко, будто горох сыпал на деревянный пол.
– Что вас так обрадовало? – мрачно спросил фряжский чернец.
– Нас неимоверно обрадовало твоё знание о недалёких соседях, путаник, – ответил Дмитрий, – это разные народы, хотя и произошли от одного корня. Ты про задунайских болгар, которые от Византии веру переняли. А наши булгары, что живут на Каме и Волге, действительно, приняли свет веры триста лет назад. Только – вот незадача! – исламской веры. Они, конечно, охотно могут прийти в Европу. Но вряд ли для того, чтобы спасти Святой Престол – боюсь, как бы не наоборот. Заставят вам весь Рим минаретами, строители они умелые.
Монах ещё сильнее побледнел, скрючился, спрятал дрожащие руки в рукавах рясы и вышел из шатра.
* * *
– Ну что, покончили с делами на сегодня? – Жук потянулся, хрустнул косточками. – Трапезничать пора. Бряхимовцы барана подарили, я велел зажарить. Разговеемся, княже?
Вывалились из шатра. Веселились, вспоминая про монаха-путаника. Гридень поклонился Дмитрию:
– Княже, там к тебе караванщик какой-то. С утра ждёт. Говорит, с важным посланием.
Князь увидел высоченного здоровяка с огромным мечом на поясе, в кожаном потёртом доспехе. Лицо чужака было чёрным от загара, обветренным.
– Здравствуй, гость, – кивнул Дмитрий, – с чем пожаловал?
Здоровяк почтительно поклонился. Спросил:
– Не признал меня, бек? Я алан, караваны охраняю. Дрались мы как-то с тобой в Шарукани. Ты ещё тогда рабом был, и звали тебя Ярило.
– Вспомнил! – Дмитрий улыбнулся. – Славные времена были. Шесть лет минуло. И откуда теперь, из кыпчакской степи? Или из Корсуни?
– Дальше бери, бек. Я нынче хорезмийскому купцу служу. Вот, привёл караван из Самарканда. Передохнём чуток да дальше двинемся – до Новгорода.
– Как там, в Хорезме?
– Плохо, бек, – алан поморщился, – цветущий край пустыней стал. Города в развалинах, поля не пшеницей – костями засеяны. Монголы народишко вырезали, некому мёртвых было хоронить. Долго ещё улус сына Чингисова, Джучи, в себя приходить будет.
Дмитрий помрачнел. Вновь вспомнил про угрозу с Востока. Да и не забывал никогда.
– Я к тебе, считай, как посланник монгольский явился, – усмехнулся алан, – видал?
Оттянул край кожаной свитки, достал деревянную табличку, подвешенную на шнурке. А на ней – рисунок: сокол распростёр крылья, и неведомые знаки, сплетённые в столбик – будто змея пружиной свилась, готовясь к нападению.
Князь потёр левую сторону груди – защемило вдруг. И давняя татуировка с атакующей коброй словно раскалилась, обожгла кожу.
Алан пояснил:
– Это пайцза, и надпись по-уйгурски: мол, всем монгольским караулам пропускать меня беспрепятственно и оказывать помощь, коли понадобится.
– И за что тебе такая честь?
– Из-за тебя, бек. Вызвал меня начальник монгольский, когда прознал, что иду с караваном на север. Вручил пайцзу, велел разыскать Солнечного Багатура, бека русского города Добриша, и передать тебе подарок.
Алан протянул князю футляр необычной формы, обтянутый дорогим китайским шёлком.
– От кого подарок?
– Не знаю, – пожал плечами караванщик, – сказали: мол, Солнечный Багатур сам догадается, если память ему не отшибло.
Дмитрий сломал печать, изукрашенную невиданными буквицами, похожими на раскинувших лапки букашек. Взялся за крышку.
– Погоди, княже, – Сморода вдруг побледнел, схватил Дмитрия за рукав, – погоди, не открывай. Вдруг там гадость какая?
– В смысле?
– Ну, колдовство монгольское. Отрава. Либо сколопендра ядовитая притаилась.
– Выдумщик ты, боярин. Не замечал в тебе такого.
Князь решительно сорвал крышку. Заглянул в тёмное нутро.
– Ну, чего там? – спросил Жук.
– Ничего. Пусто.
Дмитрий перевернул футляр. На землю выпала какая-то ерунда, похожая на обрывок верёвки.
Поднял с земли, пригляделся. Верёвка и есть, кожаная. Один конец обмотан завитком бараньей шерсти, и посредине – узел завязан.
– Брось, князь! – крикнул Сморода испуганно. – Порча шаманская!
Схватил высоченного алана за грудки, затряс:
– Ты чего приволок, ирод? Извести батюшку-князя хочешь? Отвечай! Или пятки калёным железом прижечь, чтобы язык развязался?
– Что дали, то и приволок, – хмуро ответил караванщик, – с меня какой спрос?
– Дай-ка мне, княже, – вдруг сказал Жук, – видал я такую приблуду.
Взял обрывок, разглядел внимательно. Потрогал бараний завиток, понюхал зачем-то. Объяснил:
– У неграмотных степняков такая встречается. Берешь, например, у соседа в долг скотину – и отдаёшь взамен верёвку, как расписку. Сколько голов – столько узелков. Если коней брал, то волосом из лошадиной гривы обматываешь.
– И что это значит? – спросил Сморода.
– Это значит, что наш князь какому-то степняку барана должен. Одного. Вот и напоминание о том, что долг пора отдавать.
– И кто же такое прислать мог? – удивился боярин.
– Не знаю, – пожал плечами Жук.
– Зато я знаю, – сказал Дмитрий, – есть один такой. Я его из плена отпустил, обменяв на барана.
Сморода охнул. Жук схватил бороду в кулак, протянул:
– Ну, дела. Не успокоился, значит, темник. Вернуться надумал.
Алан крутил головой, глядя то на вздыхающего боярина, то на терзающего подбородок воеводу, то на мрачного князя. Не понимал.
* * *
Старая сосна вздрогнула. Закачала ветвями, будто прощаясь с миром, осыпалась бурыми иголками, как слезами – и со стоном начала валиться на головы завизжавших от ужаса монголов. А следом за древесным патриархом падали и другие – подрубленные заранее ели и берёзы.
Истреблённый наполовину полк пеших черемисов воспрял, когда из-за поваленных деревьев появились сараши в доспехах из спин осетров и засыпали монгольских всадников дождём камышовых стрел; болотников вёл в бой широкоплечий бродник в потрёпанной зелёной шапке с длинным назатыльником.
– Хорь, брат! – выдохнул Дмитрий.
Попавший в ловушку тумен Субэдэя погибал: растерянные монголы вертелись волчками, отбиваясь от свирепых черемисов, окружавших со всех сторон, размахивающих окровавленными топорами – и падали наземь, изрубленные. Сараши выдёргивали степняков из сёдел палками с крючьями на конце – словно рыбачили.
Сам темник еле выбрался из кровавой замятни, окружённый верными нукерами. Хлеща плетью и крича проклятия, привёл в порядок остатки расстроенного тумена и повёл в новую атаку. Усилив последним резервом – тяжёлой конницей и кыпчаками – бросился на правый фланг союзного войска, где монголов ждал булгарский ак-булюк, ударный корпус.
Скрежетала сталь, ржали кони, кричали раненые, смертоносным роем жалили стрелы; шаг за шагом, отбиваясь, умирая, но уступая силе, поддавались конные ряды булгар.