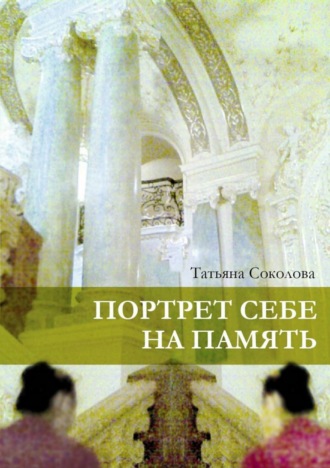
Татьяна Николаевна Соколова
Портрет себе на память
Старый двор
Утром, досматривая сон, в котором фигурируют незнакомые персонажи из услышанных вчера рассказов, я чувствую, что Тамара уже на ногах, но глаза не открываю. Потому что в моем сознании происходит процесс, похожий на повторение урока перед школой, а именно: совершенно спокойно и в полной сосредоточенности систематизирую свои представления о Тамариных котах. Сначала был потрясающий кот Мурзя, который играл на фортепиано (хорошо, что Тамара не преподавала виолончель); у дома сидел кот Кузя, которому я должна дать витамины, чтобы он снова стал персом; и уже открыв глаза, я понимаю, что в настоящий момент на кухне происходит кормление кота Матроси, подкинутого за Тамарины грехи.
Она кормит кота курицей с геркулесом, как советовал ветеринар. И ничего другого ему не полагается. Матрося иногда капризничает, требуя разнообразить меню, поэтому она по обыкновению лично стоит рядом и, как только кот отрывает морду от недоеденной каши, начинает назидательно, но ласково, вещать о пользе такого питания. Кот вроде как морщится, но перечить не смеет, и завтрак продолжается. После принятия пищи Матрося издает несколько громких горловых звуков, совершенно непохожих на мяуканье, и с поднятым хвостом проносится по периметру комнаты к своему стулу, покрытому накидкой, где он долго не задерживается, а обследовав местность вокруг, вылетает на лестницу через всегда приоткрытую кухонную дверь.
Мы так поздно легли, что я ещё немного повалялась бы в постели, но завтрак уже на столе, и мне приходится подниматься. Она пьет чай с бубликами, а для меня стоит миска творога, сметана и огромные ягоды чёрной смородины (как говорит Тамара, размером с вишню). Пока я думаю, как лучше смешать эти ингредиенты, она изучает меня, собираясь начать свой новый рассказ. Наконец, по её лицу я понимаю, что план утреннего рассказа готов, и на море я пойду позже, может даже значительно позже.
Немного приосанившись и набрав в легкие воздуха, она начинает.
– Тебе интересно, почему я переехала? Переехала я потому, что поменялась. Прежний дом стоял на углу Канатной. Перекресток стал очень шумным, и зачем мне эта их загазованность. Только здоровье портить.
– А Оля, кто такая Оля? Расскажите про неё, – спрашиваю с любопытством.
– Она из Прибалтики, – говорит Тамара с каменным лицом, – она сама меня нашла, и мы с ней несколько лет плодотворно работали. Она очень талантливый педагог; она хотела переехать в Одессу, потому что в Эстонии, где она жила, ей не давали творчески работать.
– Вы поменялись, чтобы купить ей квартиру?
– Ну да, я немного помогла, но ей все равно средств не хватило, залезла в долги. Квартиру она сдавала, а когда приезжала – жила у меня. Я ни о чем не жалею, – произносит она, резко вскинув голову и уставившись на меня широко раскрытыми глазами, словно показывая, что разговор закончен. Но я продолжаю своё наступление.
– А где сейчас Оля?
– Наверное, в своей Прибалтике, – неохотно отвечает Тамара, как будто вопрос ей неприятен и, слегка прищурив глаза, вытягивает шею, словно хочет вдохнуть проплывающую мимо струю волшебного эфира и перенестись в свой дом на углу Канатной и Малой Арнаутской.
«Я любила наш старый дом, – говорит она, как будто продолжая прерванную мысль. – В нашем дворе было шестеро соседей. Гриша и Яшка с первых дней войны ушли на фронт. Весельчак Гриша так и не вернулся. А Яша прошел всю войну, он был большой умница: у него тогда уже было техническое образование, и он-таки дослужился до командира взвода. Он отличился при обороне Одессы.
Говорят, что евреи не сражались, – продолжает она задумчиво с грустной улыбкой и, резко меняя тон, добавляет, – ещё как сражались! А куда им было деваться, когда пришли немцы и убивали их семьи? Это действительно была битва не на жизнь, а на смерть. Немцы после себя не оставляли ни одного еврея.
А ещё, дорогуша, в нашем дворе жила одна женщина, она была украинка или молдаванка. Её все звали Мадам Скарбон. Она была красива, не первой молодости, и очень следила за собой. Говорили, что она раньше пела, может даже в Одесском театре, но карьера певицы не сложилась, поэтому она иногда давала уроки музыки. Надо думать, что в то время мало кто мог платить деньги за уроки музыки.
По утрам кто только не заходил в наш двор: сначала молочница, потом булочник, мясник, продавец сладостей – мы покупали у него петушки на палочке, за ним сапожник, точильщик, лудильщик, который чинил старые кастрюли и чайники. Да ещё уйма всякого народу – не скучно было. Однажды летом у нас гостил кукольный театр. Кукольный театр ходил по дворам, а мы за ним – смотрели представление по пять раз в день. Мама давала деньги, и мы покупали леденцы или петушки.
И каждое утро эта женщина выходила на балкон в своём шелковом китайском халате и спускала со второго этажа в ведерке деньги, а молочница наливала ей свежей сметаны в крыночку, которая тоже была в ведерке, потом она точно так же брала бублики.
Муж мадам Скарбон, кажется, был румын, но он не жил здесь постоянно, а появлялся набегами. Поговаривали, что он был связан с контрабандой. А рядом во флигеле жила бедная девушка, которая убирала у певицы. Она была круглая сирота – мать её мы не знали, говорили, что она умерла давно, а отец допился до чёртиков и повесился. И в эту девушку влюбился сын мясника тоже с Малой Арнаутской. Мясник не мог допустить, чтобы его единственный сын женился на нищей. А девушка была неплохая – скромная и воспитанная. Мадам научила её петь, а голосок у неё был просто ангельский. Скарбон уговорила мясника и приготовила бедной девушке приданое: отрезы на платья и украшения, которые ей самой были не нужны»
– Добрая женщина? – спрашивает Тамара.
– Я думаю, что добрая, – отвечаю неуверенно, подозревая подвох в её вопросе.
– Так вот, – продолжает она, делая шумный вздох, – во время войны, когда в город пришли немцы, эта женщина специально пригласила их разместиться в её большой квартире, они заняли ещё и другие квартиры – тех, кто уехал в эвакуацию, например, нашу. Она рассказала, в каких квартирах остались евреи. Немцы всех нашли и всех расстреляли прямо в доме. Хорошая женщина! Видишь, как бывает!.. Это жизнь…
– Но вы же были в эвакуации, может, совсем и не так все было, – пробую возразить. Но возражения не принимаются. Тамара насупила брови и приготовилась к бою.
– Так, милочка, именно так всё и было! Евреев жестоко расстреливали, а оборону Одессы держали те же евреи, спасая свои семьи от полного уничтожения немцами и румынами. Бои были жестокие, хорошо, что Черноморский флот вступился за Одессу, им командовал адмирал Жуков, вот только имя его не помню, он потом возглавил оборону Одессы. На базе Одесского фронта был сформирован Южный Фронт, а потом Украинский. Я не могу вспомнить, кто командовал объединенным фронтом… ты, случайно, не помнишь?
Я случайно не помнила про войну и чувствовала неловкость за то, что не потрудилась хотя бы запомнить страницы из учебника истории, которые были страницами её жизни. Кроме того, что мы учили в школе, я в юности прочла несколько книг о войне, но с годами всё меньше и меньше интересовалась этой темой. Конечно, такие имена, как например, маршала Жукова и маршала Рокоссовского остались в памяти, но Тамара имела в виду другого Жукова – контр-адмирала. Она много знала про войну, помнила имена и даты, рассуждала о стратегии Сталина, оценивала его решения и даже цитировала, что писали в газетах в то время и что говорили люди. Эта тема её разволновала, она встала со своего кресла и, уставившись в неведомую даль, стала расхаживать по комнате. Она также складно излагала биографии политиков, как когда-то давала нам музыкальную литературу. Постепенно она дошла до Сталина. Сталин, в её понимании, был противоречивой фигурой, а Ленин, который отдал Донбасс, Харьков и Северное Причерноморье и которому было всё равно в какой стране делать революцию (главное – чужими руками), был последним негодяем, и, как она выражалась в подобных случаях: «его нужно было повесить сразу при рождении».
Хотя я уже давно поняла, что Ленин был страшным злом, неизвестно за какие грехи посланным России, меня удивило такое дикое высказывание. Я смотрела на неё с вытаращенными глазами и думала: «Что это? – непримиримость идеалистки, или это приходит с возрастом, когда уже кажется, что ты знаешь, как всё должно быть устроено; когда беспокойная совесть порождает желание объяснить людям свое мировосприятие, а попросту – как правильно жить. А может и вправду «блаженны нищие духом», то есть, те, кто никуда не суётся и никого не осуждает, а принимает естественный ход событий».
После небольшой паузы она вдруг вспоминает, что ещё не всё рассказала о своём доме. Осталась ещё одна история. Она подходит к окну, немного медлит, поворачивается к зрителям (то есть к нам с котом, которого ей пришлось скинуть с колен) и медленно выходит как бы из глубины сцены. Лицо её спокойно, на губах застыла улыбка.
«Ты говоришь, тяжелая женская доля. А что ты знаешь про женскую долю! Про женскую долю знала твоя мать, которая прошла войну и потеряла многих своих близких. Потеряла своего первенца. А у вашего поколения не доля тяжелая – а сплошной пир во время чумы!
Помнишь, я тебе говорила про Яшу, который жил у нас во дворе. Так вот слушай! В военные годы Яшу наградили орденом, – произносит она, замедляя темп речи, словно взвешивая в уме, как лучше преподнести мне эту историю. – У него была красавица жена, звали её Хана-Либа. Хана одевалась с очень большим вкусом, у неё был талант конструировать одежду, кроме того, она умела выбирать ткани и прекрасно шила. Я помню, как мой дядя шутил, когда мы приходили к ним в дом: «Сошьете мне трусы?» – спрашивал он. А Хана отвечала: «Только с двумя примерками». Яшка любил её больше всего на свете и ужасно ревновал. Он ведь рано лишился родителей.
В нашем доме ещё до революции жила семья его матери. Дед был портным старой закалки, он шил обмундирование для казаков и офицеров царской армии. Однажды он шил мундир для молодого есаула. Есаулу приглянулась дочь портного, и он стал захаживать в дом. Есаул был красавец, и девушка влюбилась в него. Прошло какое-то время, и они поняли, что жить друг без друга не могут. Как ни уговаривали девушку отказаться от есаула – она ни в какую. Тогда её стали запирать дома, но есаул похитил её, и родители смирились и дали благословение на их свадьбу. Потом родился Яшка. Это было как раз на стыке эпох, в революцию. Одесса долго не сдавалась большевикам – на Юге это был последний оплот царской армии, ну ещё Новороссийск, конечно. Кого здесь только не было: и Антанта, и Колчак, и красные, и зеленые, и всякий сброд. Город был полуразрушен, разграблен. Но, в конце концов, пришли красные и есаула забрали. Больше его никто не видел. Семья пережила голод и холод, уже наступили тридцатые годы, и вдруг забрали Яшину мать. Её расстреляли, как жену врага народа. В семье об этом не говорили, а говорили, что она просто умерла от болезни. Яшин дед не выдержал и вскоре ушёл вслед за дочерью; мальчишка остался только с престарелой, разбитой горем бабушкой.
Пока Яша воевал, жена его, Хана, оставалась в Одессе, помогала евреям скрываться от фашистов. А Одесса ведь всегда была многонациональным городом: тут и поляки, и словенцы, и греки, и среди них тоже могли быть евреи. И через несколько лет после войны, точно так же как Яшину мать, однажды ночью пришли и забрали Хану. Её обвинили в шпионаже и оказании помощи иностранным агентам. Ты не помнишь, а я помню послевоенный террор и шпиономанию!»
– Грустная история, – говорю ей, а сама мечтаю выбраться из нашей прохладной комнаты в самое пекло, чтобы, дойдя до Лермонтовского переулка, повернуть к морю и в тени деревьев, медленно спускаясь по ступенькам, любоваться крутым берегом, не думая ни о какой войне. В нашей семье о войне не говорили, а скорее, многозначительно молчали, вспоминать любили только победу. А сталинский террор нашей семьи вообще не коснулся; наверное, все те, кто мог быть посажен, погибли ещё в войну. Но вдруг неожиданно для самой себя добавляю заключительный аккорд.
– Вы немного романтизируете евреев, в сталинскую эпоху пострадали очень многие, независимо от национальности.
Это только раззадоривает Тамару, к ней словно приходит второе дыхание и, ехидно улыбаясь, она начинает новую тему.
– Мне вообще нравится, когда говорят, что Эйнштейн английский физик, а Ландау русский ученый. И что? Я тебя спрашиваю, и что?!
– Ну а чьи же они, по-вашему, раз они жили в этих странах? В глобальном смысле в России живут русские, в Испании – испанцы, а в Англии – англичане. И это никого не удивляет. Даже в Америке живет придуманная нация – американцы.
– Перестань болтать глупости! Все нормальные люди знают, что еврейский физик Ньютон, еврейские композиторы Бизе, Лист, Брамс, Барток, Дебюсси … и многие другие. И Нострадамус еврей! Все это знают…
– Нет, не все! – кричу ей в ответ. – Я, например, не знала, что Нострадамус еврей, хотя про Брамса догадывалась. А про Ньютона мне все равно, он для меня не имеет национальности, он просто Ньютон, также как Эйнштейн – просто сумасшедший и гениальный Эйнштейн. Смешно сказать, что Закон всемирного тяготения принадлежит евреям, что, по-вашему, он на других существ не распространяется, или распространяется с дозволения раввина?
Тамару мои доводы нисколько не трогают, она торжествует, раскачиваясь в кресле с гордо поднятой головой и снисходительной улыбкой на губах, что означает: один ноль в её пользу.
Я не сдаюсь и, собирая сумку на пляж, на ходу вспоминаю целую плеяду замечательных людей от Александра Невского и Суворова до Ломоносова и немки Екатерины Второй, потом бормочу про Льва Толстого и Вернадского – которые тоже не любознательности и славы ради, а ради земли Российской и всего человечества… Сама понимаю, что я просто отговариваюсь, но мне не нравится, когда она начинает расставлять акценты. Спорить не хочется, но и согласиться не могу.
Тамара так и сидит с гордо поднятой головой, делая вид, что не слышит меня. Она всегда была такая, я просто раньше не вела с ней подобные разговоры.
Пулей вылетаю на лестницу, где, споткнувшись о кота, сбежавшего из комнаты от нашего крика, и ящик с картошкой, ударяюсь в дверь, запертую на ключ (наверное, чтобы не украли велосипед). Услышав грохот, она, наконец, встаёт и, разглагольствуя о моей неловкости, а также о нежелании спросить по-человечески, как из этого дома-таки можно выбраться на улицу, то есть сначала во двор, а потом через запирающиеся ворота на Малую Арнаутскую, протискивается между мной и ящиками, чтобы открыть дверь огромным ключом. Я про себя его называю «ключ от собора».
На улице очень жарко, но, к счастью, до моря недалеко. Нужно пройти несколько домов, перейти трамвайную линию и вот уже Лермонтовский, который ведет к морю. Дальше сто двадцать ступенек, которые разделены на три секции террасами и зелеными зонами, где находятся спортивные площадки, теннисные корты или шикарные коттеджи; как мне потом поясняет Тамара – виллы богатых людей, которые пусть себе знают, что это с рук им не сойдет.
Сейчас июль, народу на пляже много. Наконец окунаюсь в прохладную воду целиком, с моей перегретой от умственного напряжения головой. Но выйдя на берег, опять думаю о ней, высчитываю в уме, сколько ей лет. Если когда началась война, ей было больше десяти, то сейчас должно быть около восьмидесяти. Потом пытаюсь вспомнить, когда я видела её в последний раз. Она закончила консерваторию, когда ей было глубоко за тридцать, и долгое время преподавала в Петербурге, то есть, в тогдашнем Ленинграде. Потом уехала в Одессу, и однажды, когда я уже была замужем, она позвонила мне по телефону и через час я уже встречала на пороге улыбающуюся женщину, одетую в яркое клетчатое пальто. Одной рукой она поправляла сбившуюся старомодную шляпку с пером, а в другой руке держала огромный торт из «Норда», то есть теперешнего магазина пирожных «Север».
После четырёх часов, когда кончается пекло, иду на поиски интернета, обязательно надо связаться с работодателями. На Малой Арнаутской недалеко от нашего дома кафе, где на стекле написано «WiFi», но уже второй день никто не может мне ничего прояснить.
– Да, – говорит официант, – вай-фай есть, а интернета нету, может, в следующем году сделают. Вы покушайте наши пирожные – таких больше нигде в Одесе не найдете. А шо там, на стекле нашкарябали, то все ж пишут.
Всё ясно. Иду искать дальше, и от Канатной до Пушкинской обнаруживаю несколько однотипных интернет-кафе с плотно задернутыми шторами на окнах. На шторах красуется эмблема в виде щита и скрещенных шпаг. Там у них интернет точно есть, но каждый раз меня выставляют более или менее вежливо, объясняя, что никаких интернет-услуг они не предоставляют. Из прихожей я вижу компьютеры в следующей комнате; объясняю, что мне нужна связь, хотя бы на десять минут, можно по тройному тарифу. Но из глубины комнат каждый раз выходят люди, смотрят на меня как на фининспектора, потом переглядываются, как бы соображая, имею ли я отношение к фискальным органам или, может быть, к каким-либо иным структурам. Они так переглядываются, что как будто взвешивают: «бить или не бить»; обстановка в каждом последующем кафе всё больше и больше накаляется. В четвёртом кафе я, наконец, догадываюсь, что все эти интернет-кафе, являются клубами для карточных игр, и поскольку чаша весов уже перевешивает на предмет «бить», медленно пятясь и извиняясь за причиненное беспокойство, спиной открываю дверь на улицу.
Возвращаюсь ни с чем, таща за спиной тяжелый ноутбук. Бреду по Малой Арнаутской. Четырехэтажных домов здесь не так уж много, в основном – двухэтажные, но попадаются и одноэтажные. Улица очень широкая, как и многие другие улицы Одессы. По обе стороны дороги на газонах растут акации и платаны с гладкими пятнистыми стволами. Из-за того что платан теряет огромные куски коры, обнажая ствол, его называют «бесстыдница». Дома здесь, хотя и невысокие, но отличаются какой-то особой статью, которая может быть присуща только большим городам, где серьёзно потрудились знаменитые архитекторы. Даже одноэтажные дома строго и гармонично вписываются в городской пейзаж, машинально пытаюсь сравнить их с домами в других городах, где я бывала. Так, в размышлениях, дохожу до ворот.
Двор наш неширокий, но очень уютный, выложен плиткой, и посередине двора между плитками растет дерево, кажется, персик. Под деревом сидит кот Кузя, шерсти на нем как на сильно поеденном молью старом пальто из кролика. Его хозяйка развешивает бельё на веревки, натянутые около её окон. Она производит впечатление приятной и вежливой женщины. Мы перекидываемся парой слов, но про витамины, которые я должна была отдать её мужу для Кузи, я не заикаюсь.
Мать Тамары
Моё общение с хозяйкой Кузи не осталось незамеченным. Тамара меня ждала и периодически посматривала в окно, ведь ключа от входной двери у меня нет. Она отварила молодой картофель и приготовила, как она говорит, мысочку салата из огурцов с помидорами.
– Ты отдала ему таблетки? – спрашивает она, когда мы уже заканчиваем трапезу.
– Кому ему? – недоумеваю.
– Когда ты разговаривала с этой отвратительной женщиной, там, рядом стоял мужчина, её муж Толя. Он тоже сначала, когда я сюда переехала, говорил со мной по-хамски, но что ты думаешь? Я своим упорством довела-таки его до вежливости. И теперь мы друзья, – улыбается она, довольная своей шуткой.
– Я никого не видела, может, вы имеете в виду человека, который прошел мимо в подъезд? Так он просто прошмыгнул. А эта женщина сказала мне, что она даёт витамины Кузе и что он облез от жары.
– И ты будешь слушать, что тебе говорит какая-то стерва! Я с котом разговариваю, а не со всякими стервозами, и я знаю, что ему дают и как ему дают! Кости куриные ему дают вместо витаминов, которые бедное животное даже разгрызть не может.
– Интересно, как вы разговариваете с котом? – ухмыляюсь я, не подумав о последствиях.
– Просто! Очень просто, если быть человечным, то и животные тебя понимают, и ты их понимаешь, для этого даже университетов кончать не нужно. Это просто жизнь! Вот слушай, что я тебе расскажу.
– Я бы хотела более подробно узнать про вашу Олю… – не успеваю я закончить фразу, как Тамара разражается громом:
– Ты когда-нибудь научишься слушать! Сиди и молчи! И слушай.
Она устраивается в своем кресле. Её раздражение моей неучтивостью, а может быть упоминанием об Оле, проходит, как только она набирает в легкие воздух, чтобы начать свое повествование. Я знаю, что это не воздух, а какой-то особый эфир, который струится из окружающего её пространства, и в котором растворено её прошлое.
«Моей мечтой всегда было играть на фортепиано, – говорит она, как будто со сцены в зал. – У меня был абсолютный музыкальный слух, и мама, я уже тебе говорила, хотя и не любила меня, но считала необходимым учить меня музыке с четырех лет.
Я очень любила мать. Я её всегда спасала. В первый раз я её спасла, будучи ещё совсем маленькой, даже в школу не ходила. У мамы случилось кровотечение после аборта, сделанного на большом сроке. После войны аборты были запрещены, а за незаконный аборт – была прямая дорога в тюрьму! Я пошла к врачу, который жил в нашем доме, конечно, он боялся даже зайти к нам. Он мне сказал, что это легочное кровотечение, но я знала, что это не от легких. И он мне объяснил что делать. Я сама пошла в аптеку, спросила нужное лекарство. Я сказала, что если не будет лекарства, моя мама умрет – и мне дали лекарство. Представляешь, как рисковал провизор? – дать ребёнку лекарство. Но ведь это Одесса! Понимаешь? – поднимает она на меня глаза, в которых застыли слезы. – Маму удалось спасти.
Мама была очень умной и интеллигентной, хотя не имела высшего образования. В начале двадцатых годов, когда разразился голод, бабушка и дед со своими тремя детьми приехали из деревни и поселились около Привоза, как и многие другие семьи в ту пору. Дедушке удалось найти работу на побегушках. Сначала они жили в какой-то каморке. Дед был исключительно трудолюбив, но что важно – он заработал себе такую репутацию, что люди не боялись доверять ему деньги или дорогие вещи. Благодаря своей честности, которая была непременной чертой всей нашей семьи, он стал быстро продвигаться на работе, и уже вскоре они стали снимать скромную квартирку у рынка. Бабушка для деревенской женщины была очень образованной, кроме того, она умела хорошо шить. Бабушка была из левитов – это колено от прародителей, считающихся потомками библейского Левия. Мама была очень красива, и мой будущий отец, который жил неподалеку, влюбился в неё, но она была ещё слишком юная. Он ждал целых пять лет, чтобы сделать ей предложение. Он тоже был из небогатой семьи, может быть даже беднее нашей. Одесса до революции жила совсем неплохо, здесь было много богатых людей, ты видела, какие дома они построили! В двадцатые годы, когда коммерсанты и промышленники поняли, что наступают репрессии и можно потерять не только деньги, но и голову, они благополучно отбыли пароходом в Стамбул. Экономика падала, город нищал. Моя бабушка со стороны моего отца пристроилась кухаркой к одному из «главарей» – это были такие люди, которые подбирали все, что осталось после бегства буржуазии, они и власть над людьми прибирали к рукам, в общем – бандиты. Платой за дневную работу была одна тарелка сваренного ею блюда: супа или второго. Бабушка была настолько честной, что сама около этих кастрюль чуть не падала в обморок от голода. Но худо-бедно ей удалось выкормить своих детей, у неё их было четверо. Сама она умерла от истощения. Отец тоже был очень худой, у него с детства была язва желудка. После того, как они с мамой поженились и только начали благоустраиваться, большевики в тридцатые годы организовали новый кризис. В это тяжелое время я и появилась на свет. Примерно за год до моего рождения с отцом произошло большое несчастье: его нашли на работе лежащим без сознания, он был избит до полусмерти. Кто это сделал, и как это случилось – мы так никогда и не узнали. Я думаю, что выяснять было бесполезно, а может, даже и опасно. Ему сделали трепанацию черепа, состояние было тяжелым, и мама несколько дней и ночей не отходила от него. Естественно, что после такой травмы он не мог устроиться на хорошо оплачиваемую работу; а у мамы после моего рождения начались страшные головные боли, да к тому же и я родилась с множеством проблем. Семье пришлось пройти через голод и холод, не хватало денег то на еду, то на керосин для лампы. Как ты понимаешь, я была нежеланным ребёнком, который появился в самое трудное время. Я считаю, что деторождение нужно планировать, меня вообще не нужно было производить на свет, мое появление только раздражало всех. Вот сестра родилась вовремя – положение семьи к тому моменту уже выровнялось, и она была здоровой и весёлой. Но, тем не менее, когда мне исполнилось четыре года, родители продали кое-что, ещё заняли денег и купили мне прекрасное пианино. Я очень старалась, и уже с шести лет, когда меня отдали в школу, я участвовала в концертах.
Когда началась война, и мы должны были покинуть наш дом, я больше всего страдала от того, что оставляю своё любимое пианино. Хотя, конечно, мы не думали, что это надолго, и если бы кто-то нам тогда сказал, что дорога бегства от войны доведет нас до Казахстана, мы бы ни за что не поверили. Ты читала мои воспоминания и знаешь, каким долгим и тяжелым был наш путь на Восток, как болел мой отец; сестра была маленькая и избалованная, и мне приходилось много работать. В конце сорок третьего сбылась моя мечта – я стала посещать занятия в музыкальной школе. Мы к тому времени переехали в районный центр. Когда мы вернулись, я чуть не заболела от счастья, что моё пианино в целостности и сохранности. А я была таким ребёнком, который от сильных впечатлений мог слечь с простудой или жаром.
После войны я продолжила своё музыкальное образование. В эвакуации у меня была прекрасная учительница, высокообразованная в музыкальном отношении. Она научила меня всему. Когда мы вернулись домой и я продолжила свои занятия музыкой, после такого педагога я часто попадала впросак. Настоящих учителей ведь не так много, а война растеряла людей. Однажды моя новая учительница по классу фортепиано наиграла мне фуги Баха, а я, будучи ещё наивной, совершенно искренне сказала: «Это неверно. Баха так не играют». Представляешь! Я этим дала ей повод ненавидеть меня до конца обучения.
Когда я окончила музыкальное училище, евреям путь в консерваторию был закрыт, да ещё с такой фамилией, как у меня. Я уехала от родителей и работала в музыкальной школе на Донбассе. Шахтеры тогда были очень богатыми людьми, в шахтёрском посёлке были такие продукты и такие импортные товары, которые вам в Ленинграде и не снились. Для музыкальной школы предоставили старинный особняк, на музыкальные инструменты и оснащение классов они денег не жалели.
Помню, когда я преподавала первый год в музыкальной школе, я очень сильно заболела. Была поздняя осень, резко ударили морозы, но хозяйственники, как ты понимаешь, не успели подготовиться к таким капризам природы. У нас в классе было одиннадцать градусов, и я простудилась, и ещё выяснилось, что у меня был ревматизм. Сказалось то, что во время войны не раз приходилось лежать на земле часами. Когда немцы подходили к Одессе, мы несколько дней не могли уехать: как только сформируют состав, начинается бомбёжка. Нас уводили подальше от вокзала, рядом была лесополоса, там мы и прятались. И по дороге нам приходилось ночевать на станциях. Во время бомбёжки мы убегали в поле или в лес, иногда на всю ночь. В Казахстане я помогала матери, особенно когда болел отец. Работая в поле до поздней ночи, чтобы нам дали продуктовые карточки, я иногда так уставала, что не могла дойти до дому. Однажды осенью, когда было уже холодно по ночам, я потерялась. Было темно, хоть глаз выколи, а кричать боялась, потому что собрала дрова на общественном поле, которые хотела тайком в темноте отнести домой. Я оказалась в каком-то овраге, где соорудила себе подстилку из кустарника, там и оставалась до рассвета, пока меня не нашли. Вот отсюда и ревматизм.
Так вот, я была настолько слаба, что почти не могла вставать с постели. Состояние было ужасным, у меня ещё начался невроз, я упрямилась, не хотела ехать в больницу. За мной ухаживала хозяйка. Я не давала адреса и не хотела, чтобы сообщали маме. И вот однажды: я не могу заснуть, у меня жар, и вдруг чувствую кожей, что мама рядом, но мамы нет. Засыпаю и вижу сон: мне снится умершая бабушка, я прошу её, чтобы она взяла меня с собой; она поцеловала меня и исчезла. Я даже проснулась от этого поцелуя, так ясно я его почувствовала. Она любила меня безумно, видела всё, но маму не упрекала, пыталась компенсировать её холодное ко мне отношение своей любовью. Я тоже любила бабушку. Знаешь, когда она была в гробу, у меня не было ни грамма страха. И ещё с мёртвой бабушкой случилась интересная вещь, думаю, не зря. Когда мы её помыли и переносили, я держала голову, и когда клали в гроб, рука её поднялась и как бы обняла меня. Представляешь, бабушка обняла меня на прощание!
Я немного отвлеклась, – говорит Тамара. И лицо её при воспоминании о бабушке вдруг осветилось таинственной улыбкой, которая как мотылек слетела с её губ и унеслась из нашей комнаты вместе с только что присутствующей здесь, невидимой мне бабушкой. И продолжает, – наутро просыпаюсь – мама сидит рядом. Она за мной ухаживала, она всегда на людях изображала, что любит меня. Мне нельзя было нервничать, и она обхаживала меня, выполняла все мои желания, правда, очень скромные. Потом она стала уговаривать меня вернуться домой, обещала дать отдельную комнату. Скажу тебе, что у нас квартира была сравнительно большая, но комнат было только две».
– И что, вы поехали?
– Поехала.
«Приезжаю, три дня все любят, на четвёртый устраивают чахотку. Мама говорит: «У меня нет отдельных апартаментов». В общем, началась Голгофа. Но чем меньше она меня любила, тем больше любила её я. Я её так любила, что когда ей было плохо, я это чувствовала и прилетала моментально.
В течение семи лет, пока я работала на Донбассе, я два раза приезжала в Ленинград с моими талантливыми учениками, которым я помогала поступать в консерваторию. И меня тоже прослушивали. Один раз у меня состоялось очень серьезное прослушивание – меня собирались взять на кафедру фортепиано. Профессор, который возглавлял кафедру, считал, что я стану отличной пианисткой. Уже почти обо всем договорились, я подала документы, и через день пришел ко мне мой знакомый, который устраивал это прослушивание, с поникшей головой. Когда профессор увидел на документах мою фамилию, он их чуть не выронил из рук. Хотя Сталин к тому времени уже умер, люди все ещё боялись принять в консерваторию девушку с такой фамилией. Но через пару лет, в начале шестидесятых, я все-таки поступила и переехала в Ленинград.



