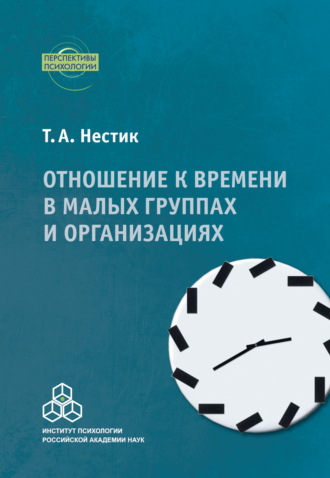
Т. А. Нестик
Отношение к времени в малых группах и организациях
Глава 2
Отношение личности к времени и социальная интеграция
Социальное конструирование времени: теоретический анализ[1]
Глобализация, разрыв между традиционным, индустриальным и постмодернистским отношением к времени, утрата веры в прогресс, в линейность и всеобщность истории поставили задачу возвращения человеку отчужденного от него времени, восстановления исторического оптимизма, выработки новых культурных навыков – умения объединять, а не противопоставлять друг другу различные этнокультурные и социально-политические концепции времени.
В российских условиях эта общая проблема встает особенно остро. Первоначальная ценностная дезориентация российского общества начала 1990-х выразилась в оценках настоящего как «безвременья», «смутного времени». Кризис идентификации сменился расколом общества на те социальные группы, которые не смогли адаптироваться к социально-экономическим трансформациям, ориентированы на прошлое, считают настоящее не своим временем («стремящиеся выжить»), и те группы, которые успешно адаптировались к переменам, приняли их как свое время («ориентированные на достижения»). Представления о прошлом и будущем также служат механизмам идентификации: для одних они выступают объектами компенсаторных проекций, а для других – навязанным, чужим временем (Дубин, 1996, 2001; Зборовский, Широкова, 2001). Различия во временной ориентации, в образах времени, в толковании анахроничности и современности между возрастными, классовыми, социально-политическими, религиозными и этническими группами затрудняют преодоление аномии, формирование единой системы ценностей и социальных норм не только в российском обществе, но и в других постсоциалистических странах (Наумова, 1997; Наумова и др., 2000; Попова, 1999; Tarkowska, 1989, 1993).
Это делает необходимым и актуальным изучение формирования групповых представлений о времени. По-видимому, построение такой концепции и ее эмпирическая проверка могут идти двумя путями: через исследование того, что сближает восприятие времени разными людьми и социальными группами, или через изучение социальных и психологических механизмов возникновения различий в восприятии времени.
В данной главе мы предлагаем пойти первым путем и рассмотреть способы построения единого образа времени в культуре, опираясь на теоретические положения современной социологии и культурной антропологии времени. Сделать это удобнее всего на примере конструирования образа «настоящего».
В основу нижеследующих рассуждений мы положим тезис, который можно считать общепринятым и не требующим специального обоснования: возникновение и развитие представлений о времени в культуре вызвано прежде всего необходимостью синхронизации деятельности индивида и человеческого сообщества в изменяющемся мире. Это положение стало общим местом социологических и культурно-антропологических исследований времени начиная с пионерских работ А. Юбера и М. Мосса и заканчивая последними обобщающими работами Б. Адам, Н. Мунн и А. Джелла (Adam, 1990, 1995; Munn, 1992; Gell, 1992). Речь пойдет о том, как мы конструируем отношение одновременности нашего функционирования в социальном взаимодействии и какова структура наших представлений о времени.
В общественных науках объективные отношения предшествования, следования и одновременности между действиями людей, социальными явлениями и процессами получили название «социального времени» (Фомичев, 1993)[2]. Согласно П. Сорокину и Р. Мертону, социальное время – это выражение «изменения или движения одних социальных явлений по отношению к другим социальным явлениям, взятым в качестве точки отсчета» (Sorokin, Merton, 1937, p. 618). Зачастую социальное время отождествляется с самими социальными изменениями. Так, с точки зрения Ж. Гурвича, это «время совпадения и рассогласования движений целостных социальных явлений, которые могут быть глобальными, групповыми и микросоциальными, независимо от того, выражены они в социальной структуре или нет» (Gurvitch, 1964, p. 27, 30).
Однако к социальному времени относится не только объективная его составляющая (длительность, последовательность, темп и периодичность социальных процессов), но и социальные представления о времени – т. е. общепринятые в рамках какой-либо социальной группы представления о временных отношениях между культурно значимыми процессами и явлениями, закрепляемые и воспроизводимые при помощи различных культурных кодов в актах коммуникации. К сожалению, причиной многих недоразумений, вызывающих жаркие споры вокруг самого понятия «социальное время», является отсутствие у большинства исследователей разграничения между объективными временными характеристиками социальных процессов и социальных групп, с одной стороны, и субъективным их отражением в групповом сознании – с другой.
Еще Э. Дюркгейм писал о том, что категория времени отображает ритмы коллективной деятельности той или иной социальной группы, т. е. представление о времени – это представление о социальном времени, общем для данного сообщества людей (Durkheim, 1912)[3]. Однако наиболее значительное влияние на формирование представлений о времени в социальных науках оказал Дж. Г. Мид.
Согласно Дж. Г. Миду, существование общества возможно именно потому, что люди способны к принятию временных перспектив друг друга. Предметы физического мира и животные объективно находятся в том или ином отношении к окружающей среде. Но только человек при помощи символической коммуникации способен разделять перспективы (отношения), в которых находятся другие, принимать на себя их пространство и время. Под перспективой он, в духе лейбницианской монадологии, понимает восприятие в одном событии всех остальных (Mead, 1932; 1965). Таким образом, здесь «нахождение объекта в одной системе предполагает его пребывание во многих других. Это то, что я называю социальностью настоящего», – пишет Дж. Г. Мид (Mead, 1932, p. 63). Интерсубъективность и обмен социальными ролями возможны благодаря способности личности вступать во временные (событийные) ряды других людей и социальных групп. Сама социальность есть способность одновременно находиться в нескольких отношениях к миру, быть несколькими вещами одновременно (Mead, 1932, p. 49). Таким образом, не только культура, но и человеческая деятельность не были бы возможны без нашей способности устанавливать отношения одновременности, в которых согласовано множество временных перспектив. Будущее и прошлое возникают в ходе коммуникации между членами сообщества, превращающей индивидуальное настоящее (specious present) в иерархию множества систем отсчета. Поэтому человеческое настоящее для Дж. Г. Мида представляет собой не момент, а скорее длящееся целое: это перспектива, в которой мы «прядем» свое время. Именно из настоящего мы строим и перестраиваем наши прошлое и будущее, именно здесь они обретают свою уникальность (Mead, 1965, p. 332, 335). Воспроизводство коллективных представлений о времени происходит в процессе социализации ребенка, т. е. обучения смотреть на себя (на свое hic et nunc) глазами обобщенного Другого (Tillman, 1965, p. 541). «В процессе коммуникации индивид должен стать другим прежде, чем становится собой… И тогда индивид способен стать обобщенным Другим, относясь к себе через отношение группы или сообщества. Так он становится определенным Я по отношению к социальному целому, частью которого он является. Это и есть общая перспектива» (Tillman, 1970, p. 168). На подтверждении избранной системы отсчета другими «наблюдателями» зиждется индивидуальность личности и события: постоянство, неизменность не даны нам изначально, они конструируются обществом для координации действий своих членов (Mead, 1965, p. 340–341). Возможность выбора существует благодаря относительности времени, т. е. неограниченному количеству возможных временных порядков, однако перспектива, избранная индивидом, объективируется только тогда, когда она совпадает с перспективой целого (Mead, 1932, p. 174–175).
Согласно феноменологическому подходу А. Шюца, переживание времени разными людьми схоже, поскольку их сближает жизненный мир, который они создают, соотнося себя друг с другом. Каждому человеку доступно переживание времени как «мирового» и как «принуждающего». Через повседневное соотнесение себя с другими приходит осознание «мирового» времени (die Weltzeit) как длительности, превосходящей «мое» время: я умру, а мир будет существовать дальше (Schütz, Luckmann, 1970, S. 62). Кроме того, человек сталкивается с принуждающей силой времени (die Zwangsläufigkeit) через существование в разных биологических и социальных временных порядках и переживание невозможности их полного согласования. Все мы вынуждены жить по принципу «сначала то, что нельзя отложить» (Schütz, Luckmann, 1970, S. 64).
Конструирование «своего» времени основано на ряде идеализаций, одни из которых позволяют нам удерживать целостность своего Я во времени, другие – встраивать себя в общую временную перспективу. К первым относится идеализация «и так далее», или «я могу снова и снова», позволяющая представлять наше «здесь» (сейчас) как наше «там» («как и раньше», «как будет потом») (Schütz, Luckmann, 1970, S. 66–67). Пользуясь этой идеализацией, мы поддерживаем непрерывность своей жизни и своего субъективного времени.
Следуя традициям философии жизни и феноменологии, А. Шюц полагает, что внутреннее время невозможно разбить на равные отрезки. Наш внутренний опыт сам по себе не имеет линейной структуры. Осознавая его, мы организуем его не политетически, а монотетически, т. е. выбираем при ретроспекции какой-то один способ прочтения. Таким образом, наша автобиография строится из истории наших попыток упорядочивания событий с опорой на биографические категории, разделяемые нашим сообществом: возрастные стадии, типичные жизненные траектории и т. п. (Schütz, Luckmann, 1970, S. 71–73). На этот факт обратил внимание еще Г. Зиммель: само временное единство социального явления или исторического события легко распадается на ряды, состоящие из «до» и «после». Следовательно, одновременность всегда символична, она конструируется культурой для того, чтобы придать длительности исторический смысл (Зиммель, 1996; Савельева, Полетаев, 1997).
Опираясь на Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, А. Шюц интерпретировал проблему человеческого взаимопонимания как проблему современности людей друг другу: понять друг друга – значит установить между потоками наших сознаний отношение одновременности. Но человек А не способен абсолютно точно «прочитать» смысл поступков человека В, поскольку он исходит из другой временной перспективы. Из чужого потока сознания можно выхватить только фрагмент, но схватить его в его непрерывности мы не можем, таким образом познание Другого всегда остается для нас неполным (Schütz, 1991).
Поэтому необходимо еще одно фундаментальное для всего «жизненного мира» предположение – о взаимности перспектив (Schütz, Luckmann, 1975, S. 74). Оно объединяет в себе две идеализации, с помощью которых повседневное мышление преодолевает различия индивидуальных перспектив и встраивает их в общую перспективу: взаимозаменяемости точек зрения и совпадения системы релевантностей (Schütz, Luckmann, 1975).
С точки зрения А. Шюца, непосредственное познание нами Другого – человека, находящегося в нашем ближайшем социальном окружении (Mitmenschen), – осуществляется через синхронизацию потоков сознания и содержательное их сближение (Schütz, Luckmann, 1975, S. 76–77). С людьми нашего ближнего круга взаимодействия (т. е. с теми, с кем мы поддерживаем, по терминологии А. Шюца, Мы-отношение) мы устанавливаем непосредственную, «телесную», одновременность: мы говорим друг с другом, изменяемся во времени на глазах друг у друга.
Опосредованное же познание Другого основано на приписывании ему одновременности в виде своего рода «ярлыка». Поэтому весь не переживаемый непосредственно нами социальный мир состоит из современников (Schütz, Luckmann, 1975, S. 81), сотоварищей по эпохе – людей, находящихся за рамками нашего непосредственного телесного настоящего. Только их типизация, или стереотипизация, дает нам одновременность с ними. Опосредованность опыта их познания позволяет нам мыслить социальное настоящее как набор типов, которым мы приписываем определенные атрибуты, функции и поведение (типичный почтальон, полицейский и т. д.) (Schütz, Luckmann, 1975, S. 88–89). Анонимных Других мы превращаем в современников только через предположение о том, что они такие же, как мы, т. е. понятны нам. Таким образом, согласно А. Шюцу, эта современность есть сконструированная нами типичность, понятность Другого.
С нашей точки зрения, следует согласиться с Т. Лукманном в том, что синхронизация – это не только установление отношения реальной или воображаемой одновременности между людьми, но и подобие тех мыслительных конструкций, в которых они осмысляют и оценивают время – социально объективированных, «готовых к использованию» временных категорий и систем отсчета времени (Luckmann, 1991, p. 157). Главными среди них он считает «биографические схемы» – формулы обязательного или возможного жизненного пути. Биографические схемы проявляются на самых низших уровнях повседневности в виде сплетен, анекдотов и житейских историй, в личной переписке. На более высоком уровне они встраиваются в произведения художественной литературы, в политические речи и законодательные документы. Посредством этих схем или формул не только описывается, но и предписывается определенная последовательность жизненных стадий, ролей и действий, а также скорость их прохождения. С их помощью культура задает «нормальное» видение личностью своего прошлого, настоящего и будущего, легитимирует образы времени, формирующиеся в сферах науки и политики. Но самая главная функция биографических схем – синхронизация индивидуальных временных перспектив через включение их в более широкий временной горизонт (Luckmann, 1991; Halbwachs, 1925; Lewis, Weigart, 1990; Hareven, 1991).
Включенность различных социальных длительностей друг в друга и соподчиненность ритмов поддерживает целостность нашей личности во времени. Иллюзия непрерывности и предсказуемости нашего перемещения в социальном пространстве предполагает наличие правил, которые позволяли бы индивиду избегать конфликта между различными временными порядками. Следовательно, социальное время представляет собой аксионормативный порядок. Исходя из этого предположения, Р. Мертон предложил называть социальные нормы, определяющие «временной компонент» социальных структур и межличностных отношений, «социально ожидаемыми длительностями» (Merton, 1984). Эти нормативные ожидания определяют не только длительность процессов в обществе, но также их ритм, скорость, надлежащие моменты принятия социальных статусов, ролей (Штомпка, 1996). Нормативную функцию временных представлений выделяют и другие социологи, говоря о нормализации жизненного пути и культурной памяти. М. Хальбвакс, например, предложил называть такие нормы «рамками социальной памяти», Дж. Льюис и Э. Вейгарт – «карьерными схемами», Т. Лукманн – «биографическими схемами», П. Бурдье – «нормализующими биографическими траекториями», Т. Харевен – «нормами жизненных переходов» (Luckmann, 1991; Halbwachs, 1925; Bourdieu, 1994; Bourdieu, 1997; Hareven, 1994). Совокупность этих представлений можно назвать «нормативной темпоральной картиной мира» (Рябцева, 1997, с. 83). Они воплощают отношение группы к тому, как заполняется и расходуется время, к своевременности и уместности происходящего, указывают, какие изменения в мире могут или должны происходить, а также фиксируют отклонения от «темпоральной нормы».
Тотализация временных представлений происходит в школах вместе с овладением метрическими категориями. Преобладание метрической, ньютонианской концепции однородного времени в западноевропейском самосознании невозможно объяснить ее удобством для физико-математических расчетов и ростом точности часовых механизмов. По-видимому, более важным является та культурная функция, которую данная концепция смогла успешно реализовать: идея управляемого однородного общества (как и представление об универсальности человеческой природы, единстве человечества) нуждалась в синхронизации и выравнивании временных перспектив, создании образа настоящего, равно распространяющегося на всех людей и все народы, независимо от индивидуального чувства времени (Szamosi, 1992). Кроме того, хронологизация жизни в эпоху модерна, ее подчинение линейному времени приводит к стандартизированному течению «нормальной жизни» в массовом обществе, когда увеличение социального возраста происходит по единой для всех шкале (Мещеркина, 2002).
Распространение единой системы счета времени предполагает централизацию власти, а утверждение единого стандарта отношения к времени для всего общества связано с насилием.
Впервые на роль отношений господства в нормализации временных перспектив обратил внимание М. Вебер (Segre, 2000). Однако наиболее последовательно насилие и социальное время связал М. Фуко. В книге «Надзирать и наказывать» он ввел понятие «дисциплинарного пространства», одна из форм которого – контроль за субъективным и социальным временем. Дисциплинирование тела и души в Новое время происходило через распорядок дня (монастыри, армия, тюрьмы, школа) и детализацию действий во времени (муштровка солдат, производство, конвейеры) (Фуко, 1999). В современной социологии появилось немало публикаций, в которых обсуждается принуждающая сторона социального времени[4].
Наиболее интересна в этом отношении теория П. Бурдье, согласно которой общество обладает институтами принудительной нормализации и тотализации биографических схем через семью, школу, институт и место работы (Bourdieu, 1994; 1997). Нормализация делает описания времени жизни понятными всем, а тотализация навязывает (например, через составление резюме и прохождение интервью при трудоустройстве) важные для общества биографические критерии и события.
Тотализация перспектив служит одним из механизмов, поддерживающих доминирующее представление о времени в той или иной культуре. Об их идеологическом характере свидетельствует тот факт, что «вменяемый» индивиду образ времени не является прямым отражением объективной организации общества во времени, он представляет собой лишь одну из сосуществующих в обществе систем временных представлений. Например, в капиталистическом обществе действительное время – это череда катастроф, революций и разрывов исторической ткани, тогда как его воображаемое время гомогенно, представляется в виде непрерывного прогресса и накопления (Гуревич, 1969; Castoriadis, 1975; Castoriadis, 1990).
Такое «выравнивание» переживания времени создает ложную иллюзию того, что в обществе не происходит никакого диалога между субъективными временными перспективами, что время всегда одно и то же и задано извне через следование тем схемам, планам и графикам, которые закреплены в социальных институтах и организациях. То есть, с этой точки зрения, мы находимся в одном и том же времени потому, что к нам предъявляются одни и те же требования, регулирующие своевременность наших действий и мыслей на данном этапе нашей деятельности и жизненного пути в целом.
Объединяющие нас нормы социального времени можно представить как культурную память, которая содержит только те представления о времени, которые помогают людям соотнести свои индивидуальные временные перспективы в актах коммуникации. Телевидение, Интернет и другие СМИ формируют у нас иллюзию универсальности и неизменности этих норм, мы принимаем наше общее «настоящее» за данность, однако в действительности мы выстраиваем его, постоянно влияя друг на друга.
Во-первых, с точки зрения хронемики – области теории коммуникации, в рамках которой изучается временная структура общения (Bruneau, 1990; Walther, Tidwell, 1995; Болотова, 1997), – мы соотносим себя с Другими во времени, подстраиваясь по темп, длительность, очередность высказываний и пауз друг друга. В связи с этим авторы первой работы по социальной психологии времени, Дж. Маграт и Дж. Келли, говорят о синхронизации циклов межличностного взаимодействия как основном механизме формирования социального времени. Можно согласиться с ними в том, что за этим подстраиванием (взаимным или односторонним) объективных ритмов деятельности индивидов и группы происходит выравнивание, уподобление субъективных представлений о времени («паттернов времени») (McGrath, Kelly, 1986; McGrath, 1991).
Во-вторых, нам помогает «точка отсчета», или «центр временного дейксиса» (Reichenbach, 1947; Бондарко, 1990), которая может быть помещена не только в настоящее, но и в прошлое или будущее. Она задается глагольными и именными показателями времени, которые ориентируют событие, действие или обладание свойством во времени относительно определенного момента или интервала (Яковлева, 1994, с. 84). В социологической литературе понятие «точка отсчета» не нашло своего применения, однако существующие исследования показывают, что счет времени основан на синхронизации событий с наиболее весомыми для данной личности или группы переживаниями (Munn, 1992, p. 103). В более широком смысле точкой отсчета является целый набор событий субъективного, социального и физического мира, которые служат для человека ориентирами во времени (Verschueren, 1999, p. 95–97). Хотя наши временные горизонты уникальны и никогда не совпадают полностью в акте коммуникации, посредством общего языкового кода и общих знаний нам удается без труда отыскать «область пересечения».
В-третьих, синхронизация с другими людьми происходит через включение их друг другом в свои жизненные истории. Чтобы ответить на вопрос о том, «кто я», следует сначала ответить на вопрос, «частью какой истории или историй я являюсь». То, что у Дж. Мида называлось перспективой, К. Джерджен и другие исследователи, работающие в рамках социальной психологии дискурса, называют «Я-нарративом» («временной траекторией», «хронотопом»). По их мнению, мы объединяем свое время с временем других людей через включенность в их рассказы о своем прошлом, настоящем и будущем, а также через использование характерного для той или иной социальной группы «набора нарративов» (прогрессивные, регрессивные, нарративы стабильности и др.) (Gergen, 1997, p. 193–199). Так наша идентичность переплетается с множеством других (Gergen, 1997, p. 207–209).
Следовательно, мы можем синхронизировать или десинхронизировать себя с другими, т. е. уподобить свою временную перспективу чужой или противопоставить их, применяя те или иные дискурсивные стратегии[5]. С нашей точки зрения, могут быть выделены: 1) стратегии синхронизации и десинхронизации с адресатом; 2) стратегии поддержания временной определенности/неопределенности (порядка и длительности); 3) стратегии временной иерархизации (включение краткосрочной перспективы в долгосрочную) и драматизации (сведение социально-исторического масштаба событий до обыденного, сакрального времени до профанного). Каждая из указанных стратегий строится из определенного набора риторических фигур и клише («Всем нам предстоит пройти через это», «Для меня это уже в прошлом», «Сейчас или никогда», «Как-нибудь в другой раз» и т. п.), а также предполагает особый риторический тезаурус временных категорий и метафор.
Сформулированные А. Шюцем идеализации взаимозаменяемости точек зрения и совпадения системы релевантностей позволяют нам верить в то, что, являясь «современниками», мы способны понять друг друга. В действительности сами эти идеализации являются результатом успешных и неуспешных попыток нащупать область пересечения наших временных горизонтов.
Формирующийся методом проб и ошибок общий код становится тем фильтром, который определяет способ «прочтения» увиденного: «выпуклость» и значимость того или иного события, возможность его описания в качестве «моего» или «нашего» исторического опыта. Постепенное изменение кода в актах коммуникации меняет набор событий, выделяемых в качестве прошлого, настоящего и будущего (Успенский, 1988). М. Хальбвакс назвал этот код «рамками социальной памяти», в которые люди вписывают свой субъективный опыт и свое переживание времени. Это реперные точки, в соответствии с которыми мы локализуем свои воспоминания (Halbwachs, 1925, p. 380). Они конституируются в семье, религиозном сообществе и социальном классе (Halbwachs, 1925, p. 382). Важную роль в воспроизводстве этих точек отсчета в традиционных и современных обществах играют праздники и ритуалы. Антрополог Ф. Барт выступил с гипотезой о распределенной (или частичной) культурной памяти: каждый из индивидов и каждая из групп (семья, клан, фратрия, класс), составляющих единое культурное сообщество, помнит что-то свое. Ритуал «собирает» и «нормализует» память, фиксируя определенные представления, и тем самым определяет избирательное восприятие новой информации (Barth, 1987). Не только ретроспективы, но и проспективы сливаются посредством обрядов в общее видение, чтобы сохранить единство сообщества в прошлом, настоящем и будущем.
Таким образом, устойчивый и вместе с тем постепенно меняющийся набор ориентиров позволяет индивидам на их собственном коммуникативном опыте убеждаться в том, что они находятся в одном и том же времени.
Эти ориентиры вырабатываются на всех уровнях репрезентации времени. Во-первых, на уровне биологических и нейрофизиологические ритмов: через подобие своего тела другим человеческим телам мы воспринимаем его ритмы как универсальные, единые для всех. Во-вторых, на уровне внутреннего, субъективного переживания времени: за счет согласования механизмов внимания и памяти, определяющих восприятие длительности; за счет рефлексии над собственным переживанием времени, которая осуществляется с помощью языковых категорий и образов, имеющих социальное происхождение и разделяемых коммуникантами. В-третьих, на уровне межличностного времени: за счет согласования длительности, последовательности и темпа взаимодействия. В-четвертых, на уровне институционального времени: через вписывание себя в общие биографические и карьерные схемы, графики, расписания и календарное время, ориентацию на одни и те же ориентиры при планировании и аллокации времени. И наконец, на уровне культурного времени: через общность представлений о природе времени, использование общих языковых средств выражения времени и метафор времени, созданных в искусстве, историографии и литературе[6].







