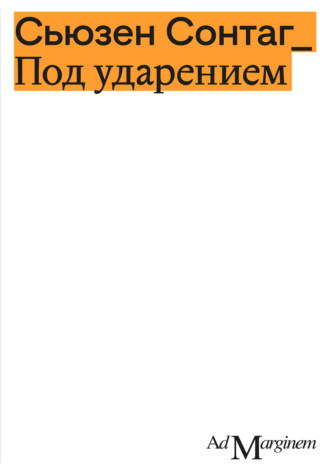
Сьюзен Сонтаг
Под ударением
Для достижения идеальной «дигрессивности» – искусства произвольных отступлений, а также максимальной насыщенности широко используются две стратегии. Одна заключается в отказе от некоторых или всех обычных демаркаций или членений дискурса, таких как главы, параграфы, даже пунктуация, то есть всех возможных формальных препятствий на пути непрерывного (авторского) речения, – к этому методу нередко прибегали авторы философской прозы, в частности Герман Брох, Джойс, Стайн, Беккет. Другая стратегия противоположна первой: умножать способы сегментирования дискурса, изобретать всё новые способы его разрушения. Этот метод использовали, в том числе, Джойс и Стайн. Виктор Шкловский в своих лучших книгах, начиная с 1920-х годов, часто писал абзацами в одну фразу. Многочисленные вступления и затворы, чередования условного «начала» и «конца» придают дискурсу качество большей дифференцированности, многогранности. Наиболее распространенной формой здесь представляется форма коротких, одно- или двухпараграфных единиц с отбивкой. «Заметки о…» – обычная для Барта форма заглавия, которую он использует в эссе о Жиде и к которой часто возвращается в последующих сочинениях. Значительная часть сочинений Барта следует методу прерывания, чередования – иногда в виде отрывков, чередующихся с дизъюнктивным комментарием, как в Мишле и S/Z. Письмо фрагментами, последовательностями или «заметками» влечет за собой новые, скорее серийные, чем линейные формы расположения на странице. Эти последовательности могут быть выполнены некоторым произвольным образом. Например, они могут быть пронумерованы (метод, достигший великолепной изощренности у Витгенштейна) или снабжены заголовками, иногда ироничными или избыточно эмфатическими – стратегия Барта в Ролане Барте. Заголовки предоставляют дополнительную возможность расположить элементы в алфавитном порядке, чтобы ярче подчеркнуть произвольный характер последовательности, – метод, используемый во Фрагментах речи влюбленного (1977), само название которых подразумевает разрозненность.
С формальной точки зрения поздние сочинения Барта – самые дерзновенные: все крупные вещи этого периода организованы в серийной, а не линейной форме. К стилю простой, непосредственной эссеистики Барт теперь прибегал только в целях литературной благотворительности (например предисловий, которые Барт написал во множестве) или публицистической прихоти. Однако эти сильные формы позднего письма лишь выявляют желание, подразумеваемое во всех его трудах, – желание Барта осознать высокое родство искусства и удовольствия. Такая концепция письма исключает страх противоречия. (Согласно Оскару Уайльду, «правда в искусстве – это правда, противоположность которой тоже истинна».) Барт неоднократно сравнивал обучение с игрой, чтение с эросом, письмо с соблазнением. Голос его становился всё более личным, более «зернистым», как он это называл; его интеллектуальное искусство всё в большей степени напоминало спектакль, как у других великих противников систематизации. Но если Ницше чаще обращается к читателю с агрессивной интонацией – посредством избыточных констатаций, уговоров, иронии, насмешек, приглашений к соучастию, – регистр Барта неизменно спокойный и дружелюбный. Здесь нет грубых или пророческих утверждений, состязания с читателем или усилий, чтобы автора не поняли. Это игра как соблазнение, никогда – как насилие. Все сочинения Барта суть исследования гистрионического, или игрового; во многом его оригинальность – это мольба о проницательности, праздничное (а не догматическое или доверчивое) отношение к идеям. Для Барта, как и для Ницше, задача не в том, чтобы научить читателя чему-то особенному. Задача – в том, чтобы сделать читателя смелым, гибким, тонким, умным, умеющим отстраниться. И еще в том, чтобы доставлять удовольствие.
Письмо, писательство – вечная тема Барта. Возможно, никто после Флобера (в его письмах) не думал о значении и роли письма так проницательно, так неистово, как Барт. Большая часть его творчества посвящена ипостасям призвания писателя: от ранних исследований «разоблачения», включенных в Мифологии (1957), в том числе о писателе, каким его видят другие, то есть о писателе как притворщике в эссе Писатель на отдыхе, до более амбициозных статей о писателе с пером в руке, то есть о писателе как герое и мученике, например, в эссе Флобер и фраза, о «муках стиля». Замечательные эссе Барта о писателях нужно рассматривать как версии большой апологии литературного призвания. При всём его восхищении безжалостными к себе нормами творческой цельности, установленными Флобером, Барт посмел увидеть в письме своего рода счастье: в этом тезис его эссе о Вольтере (Последний счастливый писатель) и портрета Фурье, нетронутого осознанием зла. В своем последнем тексте он непосредственно говорит о собственном методе, принципах, сомнениях, счастье.
Барт истолковывает письмо как идеально сложную форму сознания: способ быть пассивным и активным, социальным и асоциальным, присутствующим и отсутствующим в собственной жизни. Его идея о призвании писателя исключает самоизоляцию, которую считал неизбежной Флобер, и, казалось бы, отрицает любой конфликт между неизбежной самоуглубленностью писателя и удовольствиями светскости. Мы читаем, так сказать, Флобера, существенно измененного Жидом: благопристойная, более обыденная строгость, жадное отношение к идеям, исключающее фанатизм. Действительно, идеальный автопортрет – портрет самого себя как писателя, – который Барт творил на протяжении всего творчества, фактически закончен уже в первом сочинении, об «эгоистическом творении» Андре Жида, его Дневнике. Жид послужил Барту патрицианским образцом писателя, который гибок, многолик, напрочь лишен вычурности или вульгарного негодования, щедр и одновременно, должным образом, эгоистичен, не подвержен глубокому влиянию. Он отмечает, как мало изменил Жида его необычайно обширный круг чтения («беспрестанное самопознание»), как его «открытия» никогда не были «отрицаниями». Барт хвалит строгость принципов Жида, замечая, что позиция того «на пересечении больших и противоречивых течений вовсе не легкомысленна…» Барт разделяет идею Жида о письме, которое неуловимо и желает быть незначительным. Отношение Барта к политике также служит напоминанием о Жиде: готовность во времена идеологической мобилизации занять правую сторону, быть неравнодушным к политике – но в конце концов аполитичным и, таким образом, способным говорить правду, которую едва ли говорит кто-либо еще. (См. краткое эссе, которое Барт написал по следам поездки в Китай в 1974 году.) Барта многое роднит с Жидом, и многое из того, что он говорил о Жиде, безусловно относится к нему самому. Удивительно, что многие из этих мыслей – включая программу «постоянного самоисправления» – Барт выразил задолго до начала собственной карьеры. (Барт написал это эссе в 1942 году, двадцатисемилетним пациентом санатория для больных туберкулезом студентов, издававшего журнал; на парижскую литературную сцену он вышел только спустя пять лет).
Когда Барт, вступивший в литературу под эгидой доктрины Жида о совести, психической и нравственной ответственности, начал писать регулярно, литературная деятельность Жида давно уже клонилась к закату, а его влияние было пренебрежимо мало (Жид умер в 1951 году); Барт надел доспехи послевоенных дебатов об ответственности литературы, условия которых были определены Сартром – требование, чтобы писатель занимал воинственную позицию по защите добродетели, – Сартр тавтологически называет такую позицию «преданностью». Жид и Сартр были, несомненно, двумя самыми влиятельными авторами-моралистами XX века во Франции, причем труды двух сыновей французской протестантской культуры отражают их противоположные нравственные и эстетические позиции. Но именно такой поляризации стремился избежать Барт, еще один протестант, восставший против протестантского морализма. Последователь идеи гибкого мышления Жида, Барт признавал и модель Сартра. Пусть спор с взглядами Сартра на литературу находится в сердце первой книги Барта Нулевая степень письма (Сартр ни разу не упомянут в ней по имени), согласие с взглядами Сартра на проблему воображения и поразительную энергию воображения сквозит в последней книге Барта Camera Lucida (написана «в честь» раннего Сартра, автора Воображаемого). Даже в первой книге Барт во многом уступает взгляду Сартра на литературу и язык – например, помещая стихи в ряд с другими «искусствами» и отождествляя литературу с прозой, с аргументом. Взгляды Барта на литературу в его последующих сочинениях более изощрены. Хотя он никогда не писал о поэзии, его нормы относительно литературы приближались к нормам поэта: язык, претерпевший потрясения, смещен, освобожден от неблагодарного контекста – язык, так сказать, живет сам по себе. Барт согласен с Сартром, что в своем призвании писатель следует этическому императиву, но настаивает на его сложности и двусмысленности. Сартр апеллирует к моральному характеру целей. Барт ссылается на «мораль формы» – это делает литературу проблемой, а не решением; это творит литературу.
Однако воспринимать литературу как успешную «коммуникацию» и позицию – это чувство, которое неизбежно становится конформистским. Идеологический взгляд, изложенный в книге Сартра Что такое литература? (1948), делает литературу понятием вечно устаревшим – тщетной (и неуместной) борьбой между воинами этики и литературными пуристами, то есть модернистами. (Сравните подспудное мещанство этого взгляда на литературу с тонкостью и остроумием того же Сартра в отношении визуальных образов.) Раздираемый между любовью к литературе (любовью, выраженной в одной его совершенной книге, Слова) и евангельским презрением к литературе, один из великих литераторов века провел последние годы жизни, оскорбляя литературу и самого себя этой несчастной идеей, «неврозом литературы». Его аргументация в пользу преданности писателя делу не более убедительна. На упреки в том, что он тем самым сузил литературу (до рамок политики), Сартр возражал, что правильнее было бы обвинить его в преувеличении ее значения. «Если литература – это не всё на свете, на нее не стоит тратить и часа времени», – заявил он в интервью в 1960 году. «Вот что я подразумеваю под преданностью». Однако раздувание литературы до вселенских размеров, предпринятое Сартром, – это еще одна разновидность уничижительного к ней отношения.
Барта тоже можно упрекнуть в чрезмерном преувеличении значения литературы – готовности видеть в литературе «всё», – но Барт по крайней мере предлагал в защиту этого имплицитного тезиса сильную аргументацию. Ибо Барт понимал (как этого не понимал Сартр), что литература – в первую очередь (да и в последнюю очередь) язык. Именно язык есть всё. Это означает, что вся реальность предстает в виде языка – поэтическая мудрость, а также мудрость структуралиста. При этом Барт принимал как должное (этого не делал Сартр, с его понятием о письме как о коммуникации) так называемое «радикальное исследование письма», предпринятое Малларме, Джойсом, Прустом и их последователями. Пожалуй, сутью модернизма в современном понимании можно назвать утверждение, что никакое предприятие не будет значимым, если не задумано как разновидность радикализма – в отрыве от конкретного содержания. Творчество Барта относится к эстетической чувствительности модернизма в той мере, в какой приемлет необходимость состязательности: литература, основанная согласно модернистским нормам – но необязательно модернистская литература. Скорее, такой словесности присущи все мыслимые противоположные друг другу позиции.
Пожалуй, самое существенное различие между Сартром и Бартом – это глубокая разница темпераментов. Сартру был присущ интеллектуально брутальный, ясный взгляд на мир – взгляд, который ищет простоты, решения, прозрачности; взгляд Барта бесповоротно сложен, исполнен самосознания, рафинирован, нерешителен. Сартр жаждал конфронтации, и трагедия этой великой карьеры, его колоссального интеллекта состояла в готовности упростить себя. Барт предпочитал избегать конфронтации, уклоняться от поляризации. Он определял писателя как «наблюдателя, который стоит на перепутье всех возможных дискурсов» – в противоположность общественному деятелю или поклоннику доктрин.
Этическая природа бартовской утопии литературы почти противоположна Сартру. Она возникает в связях, которые Барт настойчиво устанавливает между желанием и чтением, желанием и письмом: дескать, его собственное письмо – это главным образом продукт аппетита. Слова «удовольствие», «блаженство», «счастье» повторяются в его творчестве с серьезностью, напоминающей о Жиде, то есть одновременно со сладострастием и бунтарством. Как моралист-пуританин (или не-пуританин) способен с торжественной серьезностью отличать секс для деторождения от секса для удовольствия, Барт делит писателей на тех, кто пишет что-то (писатель в понимании Сартра), и настоящих писателей, которые не пишут что-то а скорее пишут. Это непереходное значение глагола «писать» Барт отстаивает не только как источник непосредственности писателя, но и как модель свободы. Для Барта не преданность писателя чему-то внешнему (социальной или моральной цели) делает литературу инструментом противодействия миру и бунтарства, а некая практика письма как такового – избыточный, игривый, сокровенный, тонкий, изысканный, чувствительный язык, которым никогда бы не могла говорить власть.
Прославление Бартом письма как безвозмездной, свободной деятельности – это в известном смысле политический принцип. Литературу Барт рассматривает как вечное обновление права на утверждение личности; а все права – в конце концов права политические. Всё-таки Барт с большой уклончивостью относился к политике, и он – один из немногих великих современных авторов, игнорировавших историю. Барт начал публиковать и приобрел репутацию после Второй мировой войны, о которой он, как ни удивительно, не упоминает; действительно, во всех своих трудах он ни разу, насколько я помню, не произнес слово «война». Бартовский дружелюбный способ понимания вещей одомашнивает их в лучшем смысле. Ему вовсе не присуще трагическое сознание Вальтера Беньямина, будто каждое творение цивилизации – это и проявление варварства. Этическое бремя Беньямина было своего рода мученичеством – он не мог не связывать его с политикой. Барт рассматривает политику как своего рода сужение человеческого (и интеллектуального) субъекта, которое необходимо преодолеть; в Ролане Барте он заявляет, что ему нравятся «легкомысленные» политические позиции. Возможно, его не тревожил проект, центральный для Беньямина, а также для всех истинных модернистов, а именно попытка осмыслить природу «современного». Барт, который не мучился катастрофами современности и не искушался ее революционными иллюзиями, обладал посттрагической чувствительностью. К нынешней литературной эпохе он относился как к «мгновению мягкого апокалипсиса». Поистине, счастлив писатель, который в состоянии произнести такую фразу.
В значительной степени творчество Барта посвящено репертуару удовольствия – «великим приключениям желания», как он пишет в эссе о Физиологии вкуса Брийя-Саварена. Выстраивая хрупкий корабль счастья из каждой рассматриваемой вещи, он приспосабливает интеллектуальную практику к эротической. Жизнь разума Барт называл желанием и стремился защитить «множественность желания». Смысл никогда не моногамен. Его радостная мудрость или веселая наука предлагает идеал свободного и емкого, удовлетворенного сознания; состояния, в котором не приходится выбирать между хорошим и плохим, истинным и ложным, в котором нет необходимости оправдываться. Тексты и предприятия, которые занимали Барта, как правило, те, в которых он мог читать отрицание этих антитез. Например, моду Барт истолковывает как область, где, как и в мире эроса, отсутствуют противоположности («Мода находится в поисках тождества, ценности – не истины»); где можно почувствовать себя вознагражденным; где значение – и природа – щедры и обильны.
Преследуя цели такого истолкования, Барт испытывает нужду в некоей первичной категории, через которую может всё преломляться и которая делает возможным максимальное число интеллектуальных маневров. Эта всеобъемлющая категория – язык, самое широкое понимание языка, то есть сама форма. Таким образом, тема Системы моды (1967) не мода, а язык моды. Барт предполагает, конечно, что язык моды и есть мода; что, как он сказал в интервью, «мода существует только через дискурс о ней». Допущения такого рода (миф есть язык, мода есть язык) стали ведущей, часто редуктивной условностью современных интеллектуальных устремлений. В трудах Барта предпосылка выглядит менее редуктивной, чем распространенной – сказочное богатство критика-художника. Постулировать, что вне языка нет понимания – значит утверждать, что смысл присутствует везде.
Таким образом, предельно расширяя область смысла, Барт переваливает через вершину и приходит к таким триумфальным парадоксам, как пустой субъект, который содержит всё, – пустой знак, которому можно приписать всякое значение. Благодаря эйфорическому восприятию того, как распространяется значение, Барт читает «нулевую степень памятника», Эйфелеву башню как «чистый – фактически пустой – знак», который (его курсив) «означает всё». (Характерная черта парадоксальной аргументации Барта – реабилитировать субъекты, незатронутые «полезностью»: именно бесполезность Эйфелевой башни делает ее бесконечно полезной как знак, так же как бесполезность настоящей литературы – это то, что делает ее нравственно полезной.) Барт нашел мир такого раскрепощающего отсутствия смысла – как модернистского, так и просто «незападного» – в Японии; он отмечал, что Япония полна пустых знаков. Вместо моралистических антитез – истинное против ложного, хорошее против плохого – Барт предлагает комплементарные крайности. «Его форма пуста, но присутствует, а значение отсутствует, но полно», – пишет он о мифе в эссе 1950 годов. Подобной кульминации достигают его аргументы относительно многих субъектов: отсутствие есть присутствие, пустота – наполненность, безличность – величайшее достижение личного.
Подобно пылу религиозного откровения, который позволяет распознать сокровища смысла в вещах банальных и бессмысленных, обозначая богатейшим носителем смысла нечто лишенное смысла, блестящие описания в творениях Барта знаменуют экстатический опыт понимания; а экстаз – религиозный, эстетический или сексуальный – всегда описывался метафорами пустоты и полноты, нулевого состояния и состояния максимальной объемности, их чередования, их тождества. Само транспонирование субъектов в дискурс о них – такой же шаг: опустошить субъект, чтобы наполнить его заново. Это метод понимания, который, предполагая экстаз, способствует отстраненности. Идея языка у Барта также поддерживает оба аспекта его эстетической восприимчивости: поддерживая изобилие смысла, соссюровская теория (язык есть форма, а не субстанция) замечательно согласуется со вкусом к элегантному, то есть сдержанному, дискурсу. Созидая смысл через интеллектуальный эквивалент негативного пространства, метод Барта никогда не предполагает разговора о субъектах как таковых: мода – это язык моды, страна – «империя знаков» (вот величайшая похвала). Реальность, существующая как совокупность знаков, соответствует высочайшей идее декорума: всякое значение отсрочено, косвенно, элегантно.
Идеалы безличности, сдержанности, элегантности с наибольшей полнотой выражены Бартом в прекрасной книге о японской культуре, Империя знаков (1970), и в его эссе о марионетках театра бунраку. В этом эссе, Урок письма, Барт вспоминает эссе Генриха фон Клейста Театр марионеток, в котором также превозносятся безмятежность, легкость и грация существ, свободных от мысли, от значения – свободных от «болезней сознания». Подобно марионеткам фон Клейста куклы бунраку видятся воплощением идеала «невозмутимости, ясности, подвижности, изысканности». Холодность и фантастичность, бессодержательность и глубина, бессознательность и величайшая чувственность – качества, которые Барт различал в гранях японской цивилизации, – проецируют идеал вкуса и умения держать себя, идеал эстета в широком смысле, который получил распространение, в том числе благодаря денди конца XVIII века. Барт, конечно, не был первым западным наблюдателем, для которого Япония выглядела утопией, обществом, где эстетические взгляды распространены повсеместно и открыты для свободного истолкования. Культура, в которой эстетические цели имеют первостепенное значение, а не эксцентричны, как на Западе, конечно, вызывала сильные чувства. (Япония упоминается и в эссе Жида 1942 года.)
Если искать образцы эстетического восприятия мира, наиболее красноречивым, пожалуй, будет опыт Франции и Японии. Во Франции речь идет главным образом о литературной традиции, а также о ее ветвлениях в двух популярных областях – гастрономии и моде. Барт размышлял о предмете еды как об идеологии, классификации, вкусе – он часто пишет о гастрономическом смаковании; также представляется естественным, что ему была близка тема моды. Моду воспринимали серьезно многие французские авторы, от Бодлера до Кокто, а Стефан Малларме, один из основателей литературного модернизма, служил редактором журнала мод. Французская культура, в которой идеалы эстетизма всегда были влиятельнее, чем в любой другой европейской культуре, допускает связь между идеями авангардного искусства и моды. (Французы никогда не разделяли англо-американскую убежденность в том, что модное противоположно серьезному.) В Японии нормы эстетизма проницают целую культуру и на целые столетия предваряют современные ироничные воззрения; эти взгляды были сформулированы уже в X веке, в Записках у изголовья Сэй-Сёнагон, своеобразном требнике дендизма, обладающем ошеломительно современной формой – разрозненные записки, анекдотические случаи и перечисления. Интерес Барта к Японии служит выражением увлеченности менее консервативной, относительно невинной и гораздо более развитой, чем европейская, версией эстетической чувствительности; в этой культуре больше пустых пространств и красоты, чем во французской, больше прямоты (в безобразии нет красоты, как у Бодлера); это культура доапокалиптическая, изысканная, безмятежная.
В западной культуре, где дендизм занимает маргинальное положение, его природе свойственно преувеличение. В одной форме, относительно традиционной, эстет – это сознательный истребитель вкуса, придерживающийся установок, которые позволяют утешиться наименьшим количеством вещей; речь идет о сведении вещей к наименьшему их выражению. (Раздавая «плюсы» и «минусы», вкус предпочитает уютные прилагательные, такие как – в качестве похвалы – «счастливый», «забавный», «очаровательный», «приятный», «подходящий».) Элегантность равняется наибольшей мере отказа. В языке такое отношение находит выражение в горестной остроте, презрительном изречении. В другой форме эстет поддерживает нормы, которые позволяют удовлетвориться наибольшим числом вещей; речь идет о вовлечении новых, нетрадиционных, даже недозволенных источников удовольствия. Литературным приемом, который лучше всего проецирует это отношение, служит список (их множество в Ролане Барте) – прихотливая эстетическая полифония, где сопоставлены вещи и переживания резко отличающиеся друг от друга, часто несообразные. Посредством этого приема вещи превращаются в артефакты, эстетические объекты. Элегантность здесь равна остроумнейшему принятию мира. Позиция эстета балансирует между невозможностью достичь удовлетворенности и возможностью черпать удовольствие, удовлетворенность буквально во всём[8].
Хотя оба направления вкуса денди предполагают отстраненность, вариант, ориентированный на исключение (эксклюзию), более сдержан, холоден. Вариант вовлечения (инклюзии) может показаться восторженным, даже несдержанным; здесь эпитеты, используемые в целях похвалы, как правило, эмоционально завышены, а не занижены. Барт, обладавший высоким вкусом денди, стремящегося к исключению, был в большей степени склонен к его современной, демократической форме, то есть к эстетскому выравниванию, – отсюда его готовность находить обаяние, забавность, счастье, удовольствие во многих вещах. Например, его рассказ о Фурье – это, в конце концов, оценка эстета. Барт пишет о «маленьких деталях», из которых, по его словам, соткан «весь Фурье»: «Меня увлекает, ослепляет, убеждает своего рода обаяние его выражений… Фурье роится небольшими праздниками… Я не могу устоять перед этими удовольствиями; мне они кажутся истинными». Точно так же вид улиц в Токио, который для иного праздного прохожего, не слишком склонного искать удовольствие во всех вещах, может оставить впечатление угнетающей переполненности, для Барта означает «преобразование качества в количество», новый тип отношений, что есть «источник бесконечного празднования».
Многие суждения и интересы Барта косвенно подтверждают нормы эстетики. Его ранние эссе, отстаивающие ценность сочинений Роб-Грийе и снискавшие Барту не вполне оправданную репутацию поборника литературного модернизма, были фактически эстетической полемикой. «Объективное», «буквальное» – эти строгие, минималистские идеи литературы – на самом деле предлагаемый Бартом путь изобретательной переработки одного из основных тезисов эстета – поверхность так же показательна, как глубина. В 1950-е годы Барт разглядел в Роб-Грийе новое, «высокотехнологичное» воплощение писателя-денди; он приветствовал в Роб-Грийе желание «удержать роман на поверхности», тем самым расстраивая наше желание «погрузиться в глубины психологии». Идея о том, что глубины смутны, демагогичны, что человеческая сущность не движется на дне вещей и что свобода заключается в пребывании на поверхности, на большом стекле, где циркулирует желание, – таков центральный аргумент современной эстетической позиции, которая в различных образцовых формах существует уже сто лет. (Бодлер. Уайльд. Дюшан. Кейдж.)
Барт снова и снова выдвигает аргумент против «глубины», против идеи, будто всё самое настоящее, истинное – латентно, погружено на дно. Театр бунраку рассматривается как отказ от антиномии материи и духа, внутренней и внешней. «Миф ничего не скрывает», заявляет Барт в Мифе сегодня (1956). Эстетическая позиция не только подразумевает трактовку понятия глубины, скрытности как мистификацию, ложь, но и противостоит самой идее антитезы. Конечно, рассуждения о глубинах и поверхностях – это уже искажение эстетического взгляда на мир, умножение двойственности, подобно форме и содержанию, которую как раз отрицает эстет. Важнейшее формулирование этой позиции совершил Ницше, труды которого образуют критику фиксированных антитез (добро против зла, правое против неправого, правда против лжи).
Но если Ницше поносил «глубину», то и прославлял «высоты». В постницшевской традиции нет ни глубин, ни высот; здесь бытуют лишь разновидности поверхности, зрелищ. Ницше сказал, что каждая глубокая натура нуждается в маске, и вознес похвалу – с глубокой проницательностью – интеллектуальной хитрости; но говоря, что грядущий век, наш век, будет веком актера, он делал исключительно мрачное предсказание. Идеал серьезности, искренности лежит в основе всего творчества Ницше, что делает переплетение его идей с идеями истинного эстета (как Уайльд, как Барт) столь проблематичным. Ницше был гистрионическим мыслителем, но не любителем театрального. Его двойственность по отношению к зрелищам (в конце концов его критика Вагнера заключалась в том, что музыка Вагнера есть акт соблазнения), его желание настаивать на неподдельности зрелища означают, что здесь применимы критерии, отличные от гистрионических. В мировоззрении эстета представления о реальности и зрелище усиливают и проницают друг друга, и соблазнение всегда воспринимается как нечто позитивное. В этом отношении идеи Барта отличаются образцовой согласованностью. Представления о театре прямо или косвенно питают всё его творчество. (Раскрывая секрет, много позже, он заявил в Ролане Барте, что каждый без исключения его текст «соотносился с определенным театральным действом, а зрелище – универсальная категория, сквозь формы которой проглядывает мир».) Барт объясняет «антологическое» описание Роб-Грийе как технику театрального дистанцирования (преподнесение объекта таким, «как будто он сам по себе есть спектакль»). Мода – это, конечно, еще одна антология театрального. То же можно сказать об интересе Барта к фотографии, каковую он рассматривает исключительно как созерцательное наваждение. В рассуждениях о фотографии (Camera Lucida) едва ли упомянуты фотографы – речь именно о фотографиях (автор рассматривает снимки разве что не как случайно найденные объекты) и о тех, кто ими зачарован как объектами эротической фантазии, как напоминанием о смерти.
То, что Барт написал о Брехте, которого открыл для себя в 1954 году (когда «Берлинер Ансамбль» посетил Париж с постановкой Мамаши Кураж), и то, в какой мере он способствовал распространению известности Брехта во Франции, меньше говорит о театральном у Барта, чем о его отношении ко многим субъектам как формам театрального. Часто упоминая Брехта в семинарах 1970-х годов, Барт цитировал прозаические сочинения немца, которые воспринимал как образец критической остроты; в конце концов значение для Барта имел не Брехт как создатель дидактических зрелищ, а Брехт – дидактический интеллектуал. Напротив, в бунраку Барт ценил именно элемент театральности. В ранних вещах Барта театральное – это область свободы, место, где личности суть только роли, подлежащие изменению, область, в которой может быть отказано самому смыслу. (Барт говорил о привилегированном «освобождении от смысла» в театре бунраку.) Слова Барта о театральном, как и его евангелизм удовольствия, – это миссионерство во имя ослабления, осветления, смущения Логоса, самого смысла.
Утверждение понятия зрелища, спектакля есть торжество позиции эстета: распространение игрового, отказ от трагического. Все интеллектуальные ходы Барта ведут к устранению «содержания» из произведения, отрыву трагического от идеи конечности. Именно в этом смысле творчество Барта можно назвать бунтарским, несущим свободу – полным игры. Это «незаконный» дискурс в русле той большой эстетической традиции, которая возымела право отвергнуть «субстанцию», чтобы лучше оценить «форму»: этот дискурс вне закона будто бы стал респектабельным с помощью различных теорий, известных как разновидности формализма. В многочисленных сообщениях о своей интеллектуальной эволюции Барт описывал себя как вечного ученика – но, пожалуй, смысл, который он действительно хотел передать, заключался в собственной неподверженности влияниям. Он говорил о том, что творит под эгидой ряда теорий и мастеров. В действительности творчество Барта производит впечатление большой последовательности и двойственности. При всей его связи с хрестоматийными доктринами подчинение Барта доктрине было поверхностным. В конце концов ему предстояло отбросить вся интеллектуальные ухищрения. Его последние книги – своего рода распутывание клубка собственных идей. Ролан Барт, – говорил он, – это книга сопротивления своим идеям, демонтажа собственного авторитета. Во вступительной лекции, которая ознаменовала принятие им почетной кафедры литературной семиологии в Коллеж де Франс (Барт возглавил кафедру в 1977 году), он характерным образом привел доводы в пользу «мягкой интеллектуальной власти». Он хвалит ученость как разрешительное, а не принудительное пространство, где человек способен расслабиться, разоружиться, пуститься в свободное плавание.





