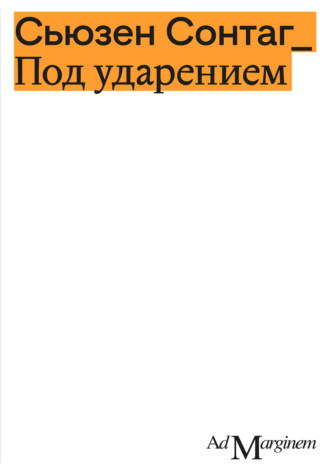
Сьюзен Сонтаг
Под ударением
Жизнь после жизни: казус Машаду де Ассиза
Вообразите себе писателя, который на протяжении своей относительно долгой жизни (он ни разу не путешествовал дальше, чем за семьдесят пять миль от столичного города, в котором родился) создал огромный корпус произведений… Это писатель XIX века, перебьет меня читатель. И окажется прав. Вообразите автора множества романов, новелл, рассказов, пьес, эссе, стихотворений, политических хроник, а также журналиста, издателя, правительственного чиновника, кандидата на выборную должность, основателя и первого президента Академии изящной словесности в своей родной стране; автора, многочисленные творения которого словно бросают вызов его социальному происхождению и физическим недугам (он был мулат и сын раба в стране, где рабство отменили, только когда ему исполнилось пятьдесят; он страдал эпилепсией); автора, который в течение своей невероятной карьеры на небосводе национальной литературы и общественной жизни создал значительное число романов и рассказов, относящихся к сокровищнице мировой литературы, причем его шедевры, высоко почитаемые на родине, где он считается величайшим писателем, мало известны и редко упоминаются за границей.
Вообразите себе такого писателя – памятуя о том, что многие его самые оригинальные книги читатели заново открывают для себя более чем через восемьдесят лет после его смерти. Как правило, оптика времени справедлива – модные и удачливые писатели нередко уходят в тень, исчезают, а забытые и недооцененные выступают на авансцену. Таинственные вопросы ценности и вечности находят разрешение в посмертной жизни великого писателя. Может быть, вполне уместно, что этот автор, посмертная жизнь которого пока не принесла ему заслуженной славы, сам обладал столь острым, ироничным и даже ласковым чувством загробного.
То, что справедливо в отношении репутации, справедливо – должно быть справедливо – и в отношении жизни. Поскольку свою форму и любое свое возможное значение раскрывает только завершенная жизнь, биография, претендующая на полноту, должна состояться только после смерти главного действующего лица. К сожалению, автобиографии не могут быть составлены в столь идеальных условиях. Подобным образом, практически во всех вымышленных автобиографиях соблюдаются ограничения реальных, причем автор стремится к озарениям, даровать которые может только смерть героя. Вымышленные автобиографии, даже чаще чем реальные, тяготеют к «закатным сочинениям»: пожилой (или, по крайней мере, потрепанный жизнью) рассказчик пишет, отдалившись от суеты мира. Но даже если старость обеспечила вымышленному автобиографу идеальную точку наблюдения, он всё еще пишет не на той стороне границы – границы, после пересечения которой жизнь, история жизни наконец обретает смысл.
Мне известен лишь один образец увлекательнейшего жанра вымышленной автобиографии, в котором замысел получил идеальное – как оказалось, комическое – воплощение, и этот шедевр называется Memorias postumas de Bras Cubas (1880) (Посмертные записки Браза Кубаса; первый перевод романа на английский язык вышел под бессмысленным названием: Эпитафия маленького триумфатора). В первом абзаце главы 1, «Кончина автора», Браз Кубас весело объявляет: «Я не покойный писатель, а писатель-покойник». Такова основополагающая шутка романа, и она соотносится со свободой литератора. Читателю предложено сыграть в игру, предположив, что раскрытая книга – это первый в своем роде литературный подвиг. Посмертные воспоминания от первого лица.
Конечно, пересказать целиком невозможно даже один день, а не то что жизнь. Жизнь – не сюжет. К повествованию, построенному от первого лица, применимы совершенно иные правила уместности и приличий, по сравнению с рассказом о персонаже в третьем лице. Замедлить темп, забежать вперед, пропуская целые отрезки; комментировать подробно, отказаться от комментариев – от имени «я» всякое действие или бездействие обладает другим весом, другим чувством, по сравнению с рассказом о третьем лице. Многое из того, что воздействует на читателя, или простительно, или нетерпимо в случае первого лица, меняет знак на противоположный в случае третьего лица, и наоборот: это наблюдение легко подтвердить прочтением вслух любой страницы из книги Машаду де Ассиза – во-первых, как есть и, во-вторых, заменив «я» на «он». (Дабы оценить яростную разницу в кодах, управляющих третьим лицом, попробуйте также заменить «он» на «она».) Существуют регистры чувств, таких как тревога, которые может вместить только голос от первого лица. То же относится к аспектам повествовательного исполнения: например, склонность к отступлениям представляется естественной в тексте, написанном от первого лица, но дилетантской – в случае безличного повествования. Так, если в повествовании присутствует осознание собственных художественных средств и методов, таковое дóлжно понимать как рассказ от первого лица, даже в отсутствие местоимения «я».
Писать о себе – изложить «истинную», то есть личную, историю – считалось самонадеянным предприятием, которое нуждается в оправдании. Опытам Монтеня, Исповеди Руссо, Уолдену Торо и многим другим классическим произведениям жанра духовной автобиографии предшествует пролог, в котором автор непосредственно обращается к читателю, признавая безрассудство своего предприятия, упоминая собственные сомнения или внутренние запреты (скромность, тревога), которые нужно преодолеть, заявляя о своей примерной искренности и откровенности, утверждая полезность авторского опыта погружения в себя для других. Подобно настоящим автобиографиям, большинство вымышленных автобиографий, превосходных по стилю или по глубине, также начинается с оборонительного или дерзкого по своей природе разъяснения причин, по которым написана книга, или по крайней мере с изъявлений грандиозного самоуничижения, оттеняющего авторский эгоизм привлекательной чувствительностью. Это не просто попытка прочистить горло, не только набор вежливых предложений, чтобы читатель мог усесться поудобнее. Это начальные па в кампании соблазнения, когда автобиограф молчаливо соглашается с тем, будто есть что-то неблаговидное и наглое в добровольном стремлении писать о себе – в желании рассказывать о себе незнакомцам без явной на то причины (великая карьера, великое преступление) или без уловки с документами, без попытки притвориться, будто книга только содержит некие личные бумаги, такие как дневник или письма, то есть заметки, изначально предназначавшиеся для самого узкого круга дружески настроенных читателей. Когда рассказ о жизни предлагается сразу от первого лица и адресуется неустановленному кругу лиц («публике»), автор, проявляя минимум благоразумия и учтивости, испрашивает соизволения начать. Чудесная затейливость романа, в котором написанное выдается за воспоминания мертвеца, лишь сообщает дополнительный момент вращения нормативной озабоченности писателя тем, что подумает читатель. С тем же успехом автор автобиографии мог бы настроениями читателя пренебречь.
Тем не менее замогильное творчество не избавило рассказчика от показного беспокойства по поводу откликов на свой труд. Его насмешливая тревога воплощена в самой форме, в отличительной скорости книги. Она сквозит в строении и монтаже повествования, в его ритмах: 160 глав, причем некоторые не длиннее двух фраз и лишь несколько – длиннее двух страниц. Тревога – в игривых указаниях, обычно в начале или конце главы, по предпочтительному использованию текста. («Эту главу следует вставить в предыдущую, между первой и второй фразами». «Эта глава вышла просто до неприличия легкомысленной». «Постараемся избежать психологических экскурсов» и так далее.) Тревога ощущается в пульсе ироничного внимания к изобразительным средствам, в отказе от посягательств на эмоции читателя («Люблю веселые главы – это моя слабость»). Просить читателя о снисходительности к фривольности повествователя – такая же уловка соблазнителя, как обещать читателю сильные переживания и новое знание. Изысканные причитания автобиографа о собственных приемах повествования звучат насмешкой над его поглощенностью самим собой.
Отступление – основной прием управления эмоциональным потоком книги. Рассказчик, голова которого полна мыслями о литературе, проявляет себя мастером экспертных описаний (такие описания льстиво называют «реалистичными»), живописуя, как сохраняются, меняются, эволюционируют, деградируют мучительные чувства. Повествовательным целям служат и выразительные средства: расчленение на короткие эпизоды, ироничные, дидактичные заметки. Странный, яростный, по собственным признаниям разочаровавшийся во всём голос (но чего еще ожидать от рассказчика, который мертв?) никогда не расскажет о событии, не предприняв попытки извлечь из него урок. Глава 133 называется «Принцип Гельвеция». Умоляя читателя о снисходительности, стремясь завоевать его внимание (понимает ли читатель текст? нравится ли ему рассказ? не скучно ли ему?), автобиограф постоянно выскакивает за пределы своей истории, чтобы сослаться на теорию, которую тщится иллюстрировать, сформулировать мнение о ней – как будто такие приемы могут сделать повесть более интересной. Социально привилегированное, самодовольное земное существование Браза Кубаса, как часто случается, было весьма скудным на события; основные события – это те, которые в действительности не имели места или признаны неутешительными. Изобилие остроумных мнений обнажает эмоциональную нищету жизни, заставляя рассказчика, кажется, обходить стороной выводы, которые он должен был бы сделать. Дигрессивный метод лежит в основе юмора книги и осознания самого неравенства между жизнью (бедной на события, тонко размеченной) и теориями (громоздкими, нелепыми), которые излагает рассказчик.
Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена, вне всяких сомнений, служит главным образцом для этих пряных рецептов повышения читательской осведомленности. Метод малых глав и некоторые типографские вольности, как в главе 55 («Диалог Адама и Евы») и главе 139 («О том, как я не стал министром»), вызывают к памяти прихотливый повествовательный ритм и пиктографические остроты в Тристраме Шенди. Браз Кубас начинает рассказ после собственной смерти, тогда как Тристрам Шенди, конечно, приступает к истории своего сознания еще до рождения (в момент зачатия) – это тоже звучит данью Стерну со стороны Машаду де Ассиза. Влияние Тристрама Шенди, изданного в нескольких выпусках с 1759 по 1767 год, на бразильского писателя XIX века не должно нас удивлять. Если в Англии книги Стерна, необычайно популярные при его жизни и некоторое время после смерти, подверглись критической переоценке и были признаны слишком странными, местами непристойными и в конце концов скучными, на континенте они продолжали вызывать бурное восхищение. В англоязычном мире, где авторитет Стерна вновь чрезвычайно возрос в XX веке, его по-прежнему считают в высшей степени эксцентричным, маргинальным гением (как Блейка), а его произведения – сверхъестественно «современными». Однако с точки зрения мировой литературы именно Стерн, возможно, оказался наиболее влиятельным англоязычным автором после Шекспира и Диккенса; слова Ницше о том, что его любимый роман – это Тристрам Шенди, не столь парадоксальны, как может показаться. Особенно сильно присутствие Стерна ощущалось в литературе на славянских языках, что находит отражение в важной роли романа в теориях Виктора Шкловского и других русских формалистов начиная с 1920-х годов. Возможно, причина, по которой на протяжении десятилетий из Центральной и Восточной Европы, а также из Латинской Америки выходило столько превосходной прозы, не только в том, что писатели в этих частях света страдали от чудовищной тирании, из-за чего их творчество приобрело важность, серьезность, сюжетную увлекательность и удивительную иронию (так с известной завистью заключают многие писатели в Западной Европе и США), но и в том, что в этих странах уже более века восхищаются автором Тристрама Шенди.
Роман Машаду де Ассиза принадлежит к той традиции повествовательной буффонады – многословный голос от первого лица пытается вкрасться в милость к читателю, – которая идет от Стерна до произведений XX века, скажем, до Вашего покорного слуги кота Нацумэ Сосэки, рассказов Роберта Вальзера, Самопознания Дзено и Дряхлости Итало Свево, Слишком шумного одиночества Богумила Грабала, значительной части произведений Беккета. Снова и снова, пусть в разных обличьях, мы встречаем болтливого, изощренного, навязчиво умозрительного, эксцентричного рассказчика: он – затворник (по выбору или по призванию), склонный к бесполезным навязчивым идеям, причудливым теориям и комичным усилиям воли; часто самоучка; не вполне маньяк; персонаж, иногда движимый похотью, изредка – любовью, неспособный к совместной жизни; обычно пожилой; неизменно мужского пола. (Ни одна женщина в подобной роли, скорее всего, не получит даже толики условной симпатии, на которую претендуют эти безудержно поглощенные собой рассказчики, так как женщинам якобы положено быть симпатичнее и сочувственнее мужчин; женщина с такой остротой ума и эмоциональной отстраненностью будет воспринята как чудовище.) Браз Кубас, ипохондрик Машаду де Ассиза, значительно менее искрометен, чем безумец Стерна, изнурительно речистый Тристрам Шенди. Впрочем, от резкости рассказчика у Машаду, с его презрительным высокомерием по отношению к истории собственной жизни, лишь несколько шагов до капризов сюжета, характеризующих современную художественную прозу в виде автобиографии. Отсутствие канвы событий – такой же признак жанра (романа как автобиографического монолога), как изолированность голоса рассказчика. В этом смысле постстерновский антигерой Браз Кубас пародирует протагонистов великих духовных автобиографий, которые по убеждению – а не волею обстоятельств – не состоят в браке. Это почти что мера честолюбия автора беллетризованной автобиографии: повествователь должен быть одинок (или таковым восприниматься); никаких супругов (или же о них не упоминают, даже если они где-то рядом); жизнь в средоточии рассказа – одинока. (Вспомним, что супруги не упомянуты, несмотря на их фактическое присутствие, ни в Бессонных ночах Элизабет Хардвик, ни в Загадке прибытия Видиа Найпола, двух недавних достижениях духовной автобиографии.) Точно так же, как одиночество Браза Кубаса выступает пародией на символическое уединение избранного, его свобода, добытая через самосознание, служит, при всей уверенности в себе и остроумии, пародией на такой триумф.
Соблазны рассматриваемого повествовательного жанра весьма разнообразны. Рассказчик заявляет, что беспокоится о читателе – независимо о того, осознает ли это читатель. Тем временем читатель вправе задаться вопросом о рассказчике – понимает ли тот все последствия своей истории. Проявления умственной ловкости и изобретательности, которые призваны развеселить читателя и якобы отражают живость ума рассказчика, в основном свидетельствуют о его эмоциональной изолированности и безнадежности. Предположительно, это книга жизни. Тем не менее, несмотря на дар рассказчика к социальной и психологической портретной живописи, она остается экскурсией вглубь сознания. Еще одним образцом для Машаду была чудесная книга Ксавье де Местра, французского эмигранта-аристократа (он прожил большую часть своей долгой жизни в России), который, будучи заключен в замок за дуэль, изобрел жанр литературного странствия в миниатюре – повествователь в Путешествии вокруг моей комнаты (1794) изображает диагональные и зигзагообразные посещения таких занимательных областей, как собственное кресло, стол и кровать. Заключение, умственное или физическое, которое не признается таковым, может стать основой для смешной или патетической истории.
В начале повествования, в блистательном приступе авторского всезнайства, в которое он великодушно вовлек и читателя, Машаду де Ассиз позволяет автобиографу назвать образцы для своего повествования из литературы XVIII века, предварив перечисление меланхоличным предостережением:
Ведь если я, Браз Кубас, и попытался придать моему странному детищу свободную форму Стерна или Ксавье де Местра, то всё же мне не удалось избежать ворчливого пессимизма. Сочинял-то покойник. Я писал эту книгу, обмакивая перо насмешки в чернила печали, и нетрудно себе представить, что могло из этого выйти.
При всей прихотливости Записок, в них течет река мизантропии. Если Бразу Кубасу и удалось избежать участи одного из тех угнетенных, иссушенных, бесцельно копающихся в себе рассказчиков, которых мигом выводит на чистую воду полнокровный читатель, так это благодаря его гневу – набирающему к концу книги штормовую, горькую силу.
Проза Стерна игрива, лишена тяжеловесности. Это шуточная, хотя и крайне нервная, форма дружелюбия к читателю. В XIX веке подобная дигрессивность, велеречивость, любовь к мириадам теорий на все случаи жизни, это перетекание из одного повествовательного режима в другой приобретает более темные оттенки. Она отождествляется с ипохондрией, с эротическим разочарованием, с недовольством самим собой (патологическая многословность Записок из подполья Достоевского), с острым душевным расстройством (истерический, доведенный до исступления несправедливостью окружающего мира повествователь в Максе Хавеларе Мультатули). Бесконечная болтовня, наваждение многословности всегда были приемом комедии. (Вспомним простолюдинов-ворчунов у Шекспира, вроде привратника в Макбете, или мистера Пиквика, среди прочих персонажей романов Диккенса.) Комическая словоохотливость не истощилась и поныне. Джойс пользуется многословностью в раблезианском духе, ради комической гиперболы, а Гертруда Стайн, королева велеречия, обращает выкрутасы себялюбия и сентенциозности в добродушный комический голос замечательной оригинальности. Однако многие из словообильных повествователей в исполненной честолюбия литературе XX века были преимущественно законченными мизантропами. Словоохотливость отождествляется с ядовитой, горестной старческой склонностью к повторениям (прозаические монологи Беккета, именуемые романами) или паранойей и неутолимой яростью (романы и пьесы Томаса Бернхарда). Кто не расслышит ноток отчаяния в пространных, нарочито бодрых рассуждениях Роберта Вальзера или в причудливо эрудированных, издевательских голосах в рассказах Доналда Бартелма?
Повествователи Беккета стремятся, причем не вполне успешно, вообразить себя умершими. В случае Браза Кубаса – эта проблема решена. При этом Машаду де Ассиз пытался быть смешным, и ему это удавалось. Сознание его посмертного рассказчика свободно от болезненной мрачности; напротив, максимально широкий горизонт сознания – на что остроумно претендует Браз Кубас – это комическая перспектива. Мир Браза Кубаса не загробный (у того нет географии), а мир новых измерений авторской отстраненности. Бесшабашные выходки неостерновского повествования в этих мемуарах разочарованного человека происходят не из стерновского великолепия, ни даже из стерновской нервозности.
Эти выходки – своего рода противоядие, противовес унынию рассказчика, способ овладеть собой значительно более мастерский, чем «философская система», способная «избавить человечество от страданий», о которой фантазирует рассказчик. Жизнь преподает тяжелые уроки. Но писать можно как угодно – это форма свободы.
Жоакину Марии Машаду де Ассизу был всего сорок один год, когда он издал эти воспоминания человека, который умер – мы узнаем об этом, едва открыв книгу, – в шестьдесят четыре. (Машаду родился в 1839 году. Его творение – замогильный автобиограф Браз Кубас родился в 1805-м. Он на поколение старше автора.) Роман как упражнение в ожидании старости – затея, к которой всегда тяготели писатели меланхоличного темперамента. Мне было под тридцать, когда я написала свой первый роман – реминисценции человека, которому немного за шестьдесят, рантье, дилетанта и фантазера, заявляющего в начале книги, что он достиг гавани спокойствия, где, исчерпав свой опыт, готов оглянуться на пройденную жизнь. Немногие осознанные литературные образцы при написании книги были главным образом французскими – прежде всего Кандид и Размышления Декарта. Я думала, что пишу сатиру на оптимизм и на некоторые взлелеянные (мной) идеи внутренней жизни и религиозной самоуглубленности. (То, что происходило в моей голове подсознательно, как я понимаю теперь, – совсем другой вопрос.) Мне улыбнулась удача, и роман Благодетель был принят первым же издательством, в которое я обратилась, «Фаррар Страус»; мне также повезло, что моим редактором стал Сесил Хемли, который в 1952 году, будучи главой «Нундей пресс» (приобретенного позже моим издателем), выпустил в свет первый английский перевод романа Машаду. (Под упомянутым выше названием!) Во время нашей первой встречи Хемли сказал мне: «Вижу, на вас оказала влияние Эпитафия маленького триумфатора» – «Какая эпитафия?» – «Ну, знаете, Машаду де Ассиза» – «Кого?» Он одолжил мне книгу, и спустя несколько дней я сказала себе, что находилась под ретроактивным влиянием Браза Кубаса.
Хотя с тех пор я много читала Машаду в переводе, Посмертные записки Браза Кубаса – первый из пяти его поздних романов (после написания книги он прожил еще двадцать восемь лет), который обычно считают вершиной его творчества, – остаются моей любимой вещью. Мне говорили, что Браза Кубаса часто предпочитают иностранцы, хотя критики, как правило, выбирают Дона Казмурро (1899). Меня удивляет, что писатель такого масштаба всё еще не занимает того места, которого заслуживает. Относительное пренебрежение к Машаду за пределами Бразилии не более загадочно, чем пренебрежение к другому гению, который в силу евроцентричных представлений о мировой литературе оказался на обочине: Нацумэ Сосэки. Наверняка имя Машаду де Ассиза было бы лучше известно, будь он не бразильцем, проведшим всю жизнь в Рио-де-Жанейро, а, скажем, итальянцем или русским, или даже португальцем. Но причина не только в том, что Машаду не был европейским писателем. Фактом еще более примечательным, чем отсутствие Машаду на сцене мировой литературы, можно считать то, что он мало известен в остальной Латинской Америке – как будто многим всё еще трудно переварить тот факт, что величайший романист, которого породила Латинская Америка, писал на португальском, а не на испанском языке. Пусть Бразилия – самая большая страна континента (а Рио-де-Жанейро в XIX веке был ее крупнейшим городом), она всегда считалась страной-аутсайдером, к которой в остальной Южной Америке, испаноязычной Южной Америке, всегда относились с большой снисходительностью и часто с расистским душком. Писатель из этих стран гораздо лучше знает европейскую литературу или, скажем, литературу на английском языке, чем литературу Бразилии, в то время как бразильские писатели хорошо знают испано-американскую литературу. Борхес, другой гений родом из Южной Америки, кажется, никогда не читал Машаду де Ассиза. Поистине, Машаду даже менее известен испаноязычным читателям, чем тем, кто читал его на английском. Посмертные записки Браза Кубаса были наконец переведены на испанский только в 1960-х годах, примерно через восемьдесят лет после создания и десять лет – после перевода (двух переводов) на английский язык.
По истечении известного срока, спустя назначенную ей «послежизнь», великая книга непременно займет свое место. А некоторые книги, возможно, необходимо будет открывать вновь и вновь, будто новые земли. Пожалуй, Посмертные записки Браза Кубаса – один из поразительно оригинальных, исполненных радикального скепсиса романов, которые навсегда останутся для читателя личным откровением. Вряд ли прозвучит комплиментом, если сказать, что роман, написанный более столетия назад, кажется… современным. Не стремимся ли мы вписать в современность каждую вещь, в которой способны различить оригинальность и озарения? Принятые нормы современности суть льстивые иллюзии, которые позволяют нам избирательно колонизировать прошлое; то же можно сказать о нашем восприятии провинциального, которое позволяет людям в одних частях света со снисхождением относиться ко всем остальным. Смерть можно отождествить с точкой зрения, которую невозможно упрекнуть в провинциальности. Уж конечно, Посмертные записки Браза Кубаса – одна из самых увлекательно непровинциальных книг в истории литературы. Любовь к ней позволит несколько разбавить собственную провинциальность в отношении литературы, возможностей литературы, как, впрочем, и в отношении собственной личности.
1990





