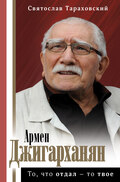Святослав Тараховский
Отважный муж в минуты страха
9
Сошлись на корте стадиона в Лужниках, в Теннисном городке.
Макки играл неплохо, но гораздо хуже Саши, чья баскетбольная хватка, стрелковая меткость и прочие природные таланты распространялись и на теннис. Он опережал иранца по скорости и соображению, быстрее бегал и лучше предугадывал игру, точнее бил по мячу и сильнее подавал. Весь в белом, словно на кортах Уимблдона, черноволосый и смуглый Аббас, что было сил, старался ему противостоять, в восклицаниях своих то призывал в помощь аллаха, то проклинал шайтана, героически проигрывал, но, и это было заметно, получал от такого тенниса и такого сильного партнера истинное удовольствие.
И Саша был в восторге. Не потому, что побеждал Макки и выполнял задание Альберта, об этом, едва выйдя на корт, он позабыл – как обычно, едва замахнувшись ракеткой, забывал всю прочую, существовавшую вне тенниса проблемную жизнь. А потому, что упруг был корт, прекрасен день, чисто небо и свеж ветерок, поднимавший моментами легкую бодрящую поземку с песчаного покрытия площадки. Потому что сочно била по мячу его немецкая ракетка «Фелькль», купленная через знакомых у члена сборной Союза Константина Пугаева, потому что на соседних кортах играли и смеялись красивые веселые люди, для которых, как и для него, теннис означал молодость и отсутствие смерти.
Игра шла слишком для него успешно; кольнула мысль, что прибивать иранца всухую не стоит, что ради общего хорошего настроения следует слегка расслабиться и проиграть Аббасу пару-тройку геймов. Сделать это следовало тонко, чтобы иранец ничего не заметил; Саша раза три пробил в аут и в сетку, но тотчас был уличен. «Не надо меня жалеть, господин Сташевский! – прокричал с другой стороны корта Макки. – У вас это плохо получается!» «Он прав, – подумал Саша, – поддаваться надо уметь, я не умею».
За два часа под солнцем было сыграно три сета с одинаковым результатом, но дело было не в счете. Пело тело и распахивалась душа, как бывало с ним всегда, когда он побеждал. «Господин Сташевский, в нашей паре вы чемпион, – сказал Макки. – Но позвольте мне потренироваться и вас обыграть». «Я буду счастлив, если у вас это получится», – с долей великодушия поверх собственного тщеславия ответил Саша. «Кстати, как ваша нога?», – спросил Макки. «Как видите, – сказал Саша. – На корте никогда ничего не болит. Все проблемы начинаются „после“ или кончаются „до“».
Душ принимали в общей для всех посетителей Теннисного городка раздевалке; стояли под струями рядом, болтали на фарси, рассказывали анекдоты – Саша знал их множество. Аббас ему не уступал, оба хохотали в полном, послетеннисном расслаблении так заразительно, что прочие обитатели душевой, ни черта не понимавшие фарси, поневоле растягивали рты.
После духоподъемного душа расставаться сразу показалось неправильным обоим: Аббас предложил выпить чаю, Саша, знакомый с иранской традицией, его поддержал. Чая, чая немедленно, ничего, кроме чая! Шмотки и ракетки бросили в зеленый Аббасов «Опель» и здесь же у стадиона, на набережной быстро отрыли кафе-стекляшку, где было жарко, как в иранской пустыне, где пустой чай им подали с некоторым пренебрежением, но все же подали. Аббас золоченым «Ронсоном» запалил «Мальборо», предложил угоститься Саше, который, после своей вечно сырой «Явы», отказываться категорически не стал, и беседа покатилась.
Понемногу открывались друг другу. Семья, родители, дети, холост, женат? У Аббаса, как у нормального иранского человека, оказалась жена по имени Парвин и уже трое детей: мальчик и две девочки; жил он в большом родительском доме на северной окраине Тегерана, в местечке Заргянде, что почти в горах, потому летом там не так невыносимо испепеляет солнце, как внизу, в самом городе. Саша, в свою очередь, рассказал иранцу о себе, работе, Светке, родителях, выложил ему почти все, исключив, понятно что.
Сам он слушал Макки с удовольствием, нравился ему его низкий, с легким скрипом голос, нравился язык, неторопливый, мелодичный, красивый, на девяносто пять процентов Саше понятный. Нравилась внешность перса: легкий аромат фирменного афтершейфа, сердоликовая печатка на пальце, некоторая небрежность в одежде и обаятельное, чуть примятое мужественное лицо. «Лицо мусульманина, со следами скрытых страстей, – романтично предположил Саша. – Что это? Карты, опиум, женщины? Все вместе сразу? Классно. Очень может быть». Макки был ему по душе.
«Враг, а такой клевый, – подумал Саша. – Хотя какой он мне враг? Режим фанатов-аятолл – да, враг, а этот Аббас, выучившийся еще при шахе да в Европе, – какой он мне враг? Нормальный интеллигентный малый. Меня попросили сыграть с ним в теннис – я сыграл и кое-что о нем вызнал. Не исключено, что заливает, но это уж дело не мое. Разведчик? Ну и что, что он разведчик? Я для него не объект, чего у меня выведывать? К тому же у меня тоже… задание. Еще посмотрим, кто круче…» – самодовольный кураж обуял было Сашу, но тотчас был им и пресечен. «Что ты несешь? – остановил он себя. – Какое у тебя задание, какой ты, в жопу, разведчик? Одноразовое дерьмо, которое смоют без ущерба для унитаза. Так сказал бы дед и был бы прав».
Подозвав официантку, Аббас, несмотря на Сашины возражения, сам расплатился за чай. «Побежденный обязан платить контрибуцию», – сказал он и добавил, что отвезет Сашу домой. Александр вяло пытался возражать, но Аббас был настойчив. «Победителю – колесница», – сказал он, распахнул дверцу зеленого «Опеля», почтительно склонил перед Сашей голову, и Саша снова увидел перед собой потомка гиганта Дария, правителя Древней Персии.
Прощаясь, пожали, словно на корте, друг другу руки, договорились перейти на «ты» и созвониться.
– До свидания, потомок Дария, – сказал Саша.
– Будь здоров, Искандер, – сказал Аббас.
Саша знал, что на Востоке так зовут Александра Македонского. «Находчивый черт», – подумал он и с сумкой на плече вошел в подъезд. Пыльные с зимы лестничные окна были распахнуты и освободили пространство для прогляда; он успел заметить, как, разворачиваясь, «Опель» на мгновение замер, и породистая голова потомка Дария едва заметно подалась наружу – вероятно, для того, чтобы разглядеть номер дома; после чего машина укатила. «Разведчик, – подумал Саша. – Классный мужик. Пусть разведывает, не опасно, мне его даже жаль. Хрен с палкой – вот что он от меня поимеет, ничего другого у меня для него нет».
Дома никого не оказалось. Саша взглянул на часы, семи еще не было. Пудель дружелюбно фыркнул, замахал опахалом хвоста и, рассчитывая на прогулку, нервно зевнул. «Сейчас, Патрик, сейчас», – отмахнулся Саша, пробираясь к телефону. Номер, мгновенно выскочив из памяти, переметнулся на кончики пальцев.
– Алло. Здравствуйте, Альберт. Это Шестернев, – сказал Саша. И стал быстро излагать события дня.
– Вы большой молодец, Шестернев, – перебил его Альберт. Все это надо записать, чтоб ни одна драгоценная деталь не пропала. Запишите. В форме отчета на страничку-полторы – для такого журналиста, как вы, это не труд, разовая, ни к чему не обязывающая радость. Сделаете и мне передадите. Ок? Вы меня поняли? Нас интересует ваше мнение о вашем партнере. Вы поняли меня?
– Понял, – ответил Саша, попрощался и тихо положил трубку. «Коготок увяз – всей птичке пропасть», – почему-то взметнулась в нем любимая бабушкина присказка. «Не к месту и не по делу», – подумал он, но прилипшая к сознанию, будто колючка репейника, присказка не собиралась забываться и трепала мозги. Скулеж Патрика добавлял нервов. Наконец, как потребность вздохнуть, захотелось немедленно со всем этим покончить. Сел к столу, изготовил к делу свой любимый шведский шарик «Баллограф», начал писать, но долго ничего не получалось, комкал и мелко, и тщательно, будто заметая следы, рвал бумагу. Чувствовал, что делает не столько секретное, сколько какое-то постыдное дело, отвращала мысль, что эта писанина напоминает донос и что, если она попадет на глаза домашним, особенно деду, будет худо и позор. Чувствовал, а все же пытался писать. А не получалось потому, что никак не мог поймать нужный тон и нужную манеру изложения. Наконец, сдвинулось, пошло, разогналось и далее вдохновенно – потому что увлекло – полетело; с ним так бывало всегда, когда в организме запускалась химия творчества. «Отчет о встрече» – озаглавил он свою новеллу и начал так: «26 июня я встретился с Аббасом Макки у входа на стадион „Лужники“ со стороны Теннисного городка и спорткомплекса „Дружба“». Писал и думал: «Какую чушь терпит бумага, чем мы, люди двадцатого века, занимаемся?..»
10
Его следующий день сложился неудачно, хотя с утра ничто не предвещало такого прогноза.
С коротким перерывом на обед постоянно находился в редакции. Отчет лежал в левом внутреннем кармане пиджака; маленький ничтожный листок напоминал о себе и теребил сердце; дважды, улучив в редакции малолюдный момент, он звонил Альберту с уговором о встрече, со второго раза дозвонился, и оба решили, что повидаются не позднее семи в той же «Москве». Слегка успокоившись, он правил, механически что-то писал, общался в курилке с Толей Орлом и невольно присматривался к нему на предмет, постоянно волновавший в последнее время воображение; он присматривался ко всем коллегам вообще, но к другу Толику особенно пристрастно. Почему-то казалось ему, что Орел тоже оттуда, из той же конторы на горе, что и Альберт; почему он так решил, сказать было сложно, может, потому, что Анатолий был солиден, основателен и в высказываниях своих, точно ГБ, напористо навязывал свое мнение? Так или иначе, но в беседе с Орлом он с трудом подавил в себе желание залихватски Толе подмигнуть, во всем открыться и в знак цеховой солидарности пожать его мужественную руку – «мы вместе, Толян!» Слава богу, в последний момент он такое свое намерение похерил. «В чем вместе, идиот? – спросил он себя, и такого простого обиходного вопроса оказалось достаточно для самоотрезвления. – Толя – нормальный парень. Ты один попал в замазку, сиди и молчи».
Все бы было ничего, но в пять позвонила Светка и с радостью сообщила, что на семь ей предложили билеты в Дом кино на встречу с Джейн Фондой и классный американский фильм, где она играет. Что-то про загнанных лошадей, которых пристреливают, точное название он позабыл, потому что сразу понял, что для него это невозможно. Какая Джейн Фонда, какие лошади, какой Дом кино, когда в семь он должен быть в гостинице «Москва»? «Свет, не могу, – сказал он, – не успею, работы море, давай завтра». «Джейн Фонда не каждый день в Союз приезжает, – тотчас обиделась она. – Ты что, не можешь сделать перерыв, перенести работу на потом?» «Свет, не могу никак, тут срочное дело, прости». «Ладно, – неохотно согласилась она. – Работай, я извинюсь, отдам билеты и буду ждать тебя в скверике, ну, в вашем, что справа от входа в АПН. К половине восьмого ты хотя бы освободишься?» «Свет! – чуть не сорвался он на крик, – не надо меня ждать. Езжай домой, я сразу тебе позвоню». «Странно, – удивилась она. – Ты что, не хочешь, чтоб я тебя подождала? Ты что-то темнишь, Сашуля?» «Ничего я не темню, – заторопился он, – пожалуйста, если хочется, жди, просто я не знаю точно, во сколько освобожусь». «Освободишься, – сказала, словно распорядилась Светлана, – я буду ждать».
Он хорошо знал этот ее непререкаемый тон – начало отчуждения, непроницаемой и долгой обиды, а то и взрывного скандала – знал, смолчал и тут же озаботился решением возникшей задачи: как, незамеченным Светкой, успеть к семи в «Москву» и хотя бы к восьми вернуться обратно? «Черт бы побрал эту Джейн Фонду с ее лошадьми, – подумал он и тотчас поправился: – Что черт бы побрал контору с горы, которая прихватила его на самую малость, а уже мешает жить! И черт бы побрал его самого, который с этой конторой спутался».
Небольшой дворовый скверик, в котором она предполагала его дожидаться, располагался в пятидесяти метрах от входа в Агентство. Если она будет что-нибудь читать и отвлечется, то не заметит, как он, выйдя из здания и сгоняв в «Москву», как ни в чем не бывало, подгребет к ней снова где-нибудь к восьми, и все обойдется. Подойдет и скажет: «Привет, я освободился, куда двинем?» А если она читать не будет, если вообще ничем заниматься не станет, а будет сидеть на лавочке и с тупым терпением во взгляде смотреть на жерло входа-выхода АПН? Тогда ему не проскочить, тогда погар, облом и полная катастрофа, допускать которую он права не имеет. «Что делать? – спросил он себя и сам себе ответил, что следует срочно что-то предпринять. – Что?»
Самое простое: перезвонить Альберту, перенести встречу на завтра. Можно, да, но что-то подсказывало Саше, что делать так не следует – не солидно, не по-мужски, да еще из-за каких-то, хоть и на Джейн Фонду, билетов? Не из-за билетов, идиот, укоротил он себя, из-за любимой Светки, которую, в противном случае, ты обманешь. Ты готов ее обмануть? Ну, какой это обман, успокоил он себя, так, маленькая хитрость маленького Штирлица, казаки-разбойники, салочки, прятки, она ничего не узнает.
Подумал так, и ему показалось, что бумажка с отчетом, словно живая, пошевелилась в кармане. Что за хрень? Саша сунул руку в карман – бумажка как бумажка, волглая на ощупь, неодушевленная. Он понял, что так ему только показалось, хотя мог бы поклясться, что мгновением раньше непонятный толчок в кармане все-таки ощутил. «Возможно, бумага вполне себе оживает, как только превращается в донос, – предположил он и сразу представил себе над страной миллионы черных каркающих бумаг, закрывающих небо. – Слава богу, у меня только отчет», – сказал он себе, но тотчас сообразил, что ГБ, вероятно, устроено так, что любая адресованная ей бумага превращается в этот самый донос. Значит, он все-таки доносчик? Угрызения совести снова кинулись ему на плечи. Ему стало неприятно, и успокоил он себя только тем, что у него поручение разовое, потому его отчет уж никак не… то самое, что противно повторять.
«Без пятнадцати шесть», – отметил он, взглянув на свою «Сейку», и сразу хорошая идея пришла ему в голову. «Светка, – подумал он, – ты сейчас в Доме кино, ты сдаешь билеты, надо тебя опередить, надо выскользнуть из агентства прямо сейчас, пока ты не обосновалась в скверике и не заняла свой наблюдательный пункт!» Идея благоразумно требовала проверки – по коридору он быстро достиг торцевого окна, выходившего на тот самый сквер, и выглянул наружу: поздно! Светлана уже была там, располагалась на лавочке, ближайшей к входу; ни книги, ни журнала у нее в руках не было; был лишь взгляд, караулящий его, Сашу.
«Детский сад! Значит, никаких билетов в Дом кино она еще не выкупала, значит, только собиралась купить и не купила. Лапочка моя, Светка, ты еще предусмотрительней, чем я! Это замечательно и это хреново потому, что совершенно непонятно, что теперь делать мне!»
Без десяти шесть, подсказала ему «Сейка». Ситуация перерождалась в злокачественную. Кураж последней минуты охватил Александра, риск мгновенно раскручивал мозги в нужную сторону. В шесть Агентство пустеет, все валят по домам; его единственный шанс, сообразил он, заключался в том, чтобы в общей толпе выходящих прошмыгнуть мимо Светки незамеченным. Но как это сделать? В одиночку не получится, кто-то должен его прикрыть, кто-то должен отвлечь Светку. Кто? «Орел! – осенило его, – Толя – друг, только он может спасти!» Прибрав на столе бумаги, Саша нарочито громко испросил у Волкова разрешения уйти на десять минут раньше и, получив его, рванул по коридору в индонезийскую редакцию, где Анатолий трудился над статьей о преимуществах плановой советской экономики.
Умница Орел понял задачу с полуслова, даже не спросил, что, куда и зачем. Степенный в разговорах, он оказался молниеносным в действиях. «Держи», – сказал он Сташевскому, протянув ему свою легкую куртку цвета хаки и такого же цвета парусиновую кепку. «Стоит ли, Толь?» – усомнился Саша. «Надевай, – распорядился Орел, – так надо», и Саша подумал – счастье иметь такого друга.
Его действительно трудно было различить в говорливой волне сотрудников, разом выплеснувшейся в начале седьмого из дверей-вертушек на Садовую. Согласно плану Орла, Саша взял круто влево и, оказавшись к Светлане спиной, сплавил себя на этой волне к Провиантским складам, в то время как сам Анатолий, повернув направо, ступил в сквер, под деревья и всей своей плотной громадой вырос перед Светланой. Они помнили друг друга еще с институтских, «психодромных» времен, потому Анатолий обратился к ней по-свойски, без церемоний: «Привет, журналюга! Сашка своего поджидаешь? Запрягли его глухо. Просил передать, что будет через час». Светка с благодарностью кивнула, Орел неторопливо поспешил к троллейбусу, а Светка достала из сумочки книжку Рыбакова.
Ничего этого Саша Сташевский не видеть, не слышать не мог. По подземному, мрачно-душистому переходу он, свободный и легкий, спешно пересек Садовую, занырнул в метро на «Парке» и с одной потной пересадкой доехал до «Охотного ряда». Подходил к «Москве» вовремя, твердо рассчитывая через час вернуться к скверу у Агентства. «Отдам отчет и сразу назад», – думал он; но все получилось не так, как он предполагал своей неглупой головой.
11
Вошел в вестибюль и направился к лифтам; охрана в одинаковых пиджаках не обратила на него внимания, что сперва его приятно удивило, а потом несколько напрягло. «Предупредили, – сказал он себе. – Четко работают, соколики».
И дежурная по этажу, скользнув по нему равнодушным взглядом, снова уткнулась в «Советский экран», и молоденькая горничная с гудевшим над полосатой ковровой дорожкой пылесосом отвернулась от него вполне обыденно, будто сталкивалась с ним в этом коридоре трижды в день. «Они думают, я свой, – сообразил он. – Ошибаются, больше меня они здесь не увидят».
Едва он пристукнул костяшкой в дверь, как она распахнулась, будто за ней его давно с нетерпением поджидали. Альберт, без слов и звуков, жестом предложил ему войти. «Привет», – прозвучало от него уже в номере, следом, без промедления, на его лице нарисовалась неяркая улыбка и одновременно протянулась в сторону Саши рука с алчно открытой ладонью. Саша смекнул – сложенный вчетверо листок из-за пазухи был аккуратно спроважен комитетчику, который, удовлетворенно кивнув, предложил гостю присесть.
Пока он читал, Саша украдкой стрельнул глазом по «Сейке» – было четверть восьмого. «К восьми должен успеть», – подумал Саша.
– Спешите? – спросил вдруг Альберт.
– Да нет… – замешкал с ответом Сташевский, немало удивленный тем, как занятый чтением Альберт ухитрился его застукать. – Так…
– Не волнуйтесь, – сказал Альберт. – Она подождет.
Что-то невразумительное гугукнул в ответ Саша, еще раз шарахнутый тем, как, оказывается, прозрачна его личная жизнь.
Установилась тишина, в которой остро стучало его сердце. Саша тупо смотрел в пол. «Скорей бы уйти и забыть. Забыть все, с самого начала. Всю собственную глупость, идиотское мое согласие и вообще», – думал он.
– Чаю?.. – спросил Альберт, вскинув свой острый нос.
– Нет. Спасибо, – сказал Саша.
– А написали вы, Александр Григорьевич, здорово, – сказал Альберт. – И выводы ваши, в общем, совпадают с нашими. Макки – та еще птица; ничего, пусть делает свое дело, мы будем делать свое. Так что, не ошиблись мы в вас. Не ошиблись.
– Спасибо… Я могу идти?
– То есть как? Уже? Нет уж, вы посидите, посидите, Александр Григорьевич.
– Так задание разовое было. Я вроде все сделал.
– Выходит, мы друг друга, Александр Григорьевич, не совсем правильно поняли. Я объясню: задание разовое и называется «Аббас Макки». Добивайте его до конца – раз уж начали так удачно. Это и есть ваше разовое задание. Вы поняли?
«Коготок увяз…» – вспомнил Сташевский, и боль резанула его по пупку.
– Я не смогу… Понимаете, у меня со временем плохо. У меня работа, родители… Я вот-вот женюсь!..
– Прекрасно. Нормальная семья, работа и настоящая женитьба – куда лучше? Очень солидная легенда для разведчика. Кстати, можете пригласить на свадьбу Аббаса, чтобы убедился, что все у вас настоящее…
– Да, но… нет, …я не готов… Кстати, вот ваши деньги, не успел потратить… – Саша выложил на стол две купюры с Ильичом.
Альберт не обратил на деньги внимания.
– Жаль, очень жаль!.. – чуть поднял он голос. – Значит, все-таки мы в вас ошиблись. Не хотите – не надо, никто вас неволить не будет, времена не те.
– Понимаете, Альберт, я хотел бы объяснить…
– Не надо, я не девушка, словам не верю. Откажитесь. Если вы трусите, если вы не патриот – вы правы, лучше отказаться сразу.
– Я не трус!
– Вам так только кажется, на самом деле главная причина вашего отказа – страх. Случай типичный: мужчины у нас сперва хорохорятся, а потом, извините, пускают по ногам. Мы думали, вы прирожденный разведчик, бывают, знаете, такие герои, рождаются иногда. Ошиблись. Всего хорошего. До свидания. Бумажку свою заберите…
Протянутая Саше бумага с отчетом снова, как живая, вибрировала в воздухе.
Это был удар. Требовалось перевести дух.
«Возьми бумажку, скажи спасибо, скажи извините, скажи, что не хочешь, сваливай к Светке и все забудь, как и не было. Классно все обошлось», – подсказывал ему разум.
«Если ты не мудак, не пались, не ссорься с ними, лучше согласись; позже, не сейчас, ты их все равно перехитришь, переиграешь талантливо и тонко, ты сможешь», – продиктовало ему подсознание.
Разум или инстинкт – что-то из них должно было в нем победить; сам он в тот момент был никчемен, безволен, пластилин, мягкая игрушка.
– Что я должен делать? – спросил, наконец, Саша и понял, какая сила в нем взяла верх.
Альберт размягчился, пластмассовая расческа, несколько раз развалив пробор, помогла ему справиться с позитивными эмоциями; он извлек из розовой папки и выложил перед Сташевским заранее заготовленный бланк.
– Вот тут, пожалуйста, распишитесь, Александр Григорьевич.
– Что это? – спросил Саша, хотя уже успел сфотографировать взглядом то, что ему предлагают подписать. – Нет, зачем это? Не надо.
– Пустая формальность, Александр Григорьевич, так начальство требует. Вот здесь, пожалуйста, после слов «…в добровольном порядке… оказывать услуги и сотрудничать…».
– Не буду я ничего подписывать, – твердо, как ему казалось, сказал Саша. – Нет.
– Александр Григорьевич, – очень спокойно сказал Альберт, протягивая ему ручку. – Еще одно слово – я выставлю вас отсюда раз и навсегда. Соску сосать. Только не пожалейте потом. Горько не пожалейте.
Саше стало тоскливо. «Поздно, – подумал он, – не выскочить, не избежать». Путь назад был накрепко завален камнями – его уже не было, оставался единственный путь в непонятное будущее. И Саша подписал бумагу.
Уже в следующую секунду, заметив, что подписанный бланк оказался рядом с еще теплыми, «его» двадцатипятирублевками, он счел такое соседство символичным, роковым для себя и совсем пал духом.
– Поздравляю вас, Александр Григорьевич, – сказал комитетчик и протянул Сташевскому руку, которая была некрепко пожата. – Это – прежде всего. А во-вторых, делать вам снова ничего особенного не придется. Общайтесь с Аббасом, играйте в теннис, обсуждайте любые темы – желательно политические, дискутируйте, спорьте, вызывайте его на откровенность. Просьба к вам одна: в следующий раз после тенниса поезжайте-ка вы с Макки в кафе «Метелица» – это на Калининском проспекте, наверняка знаете.
– Почему именно туда?
– Там для полноценного отдыха условия лучше.
– Но… у меня есть любимая девушка.
– Знаю. Любите на здоровье. Я с вами не о любви говорю, о нашей работе. Когда мы под видом супружеской пары посылаем на задание просто мужчину и просто женщину, им приходится спать и жить друг с другом – знаете, почему? Потому что это работа. Работа во имя Родины – превыше всего. Вы поняли? Пожалуйста, подумайте об этом.
Сказал и взглянул на Сташевского, и вопросов насчет любви у того более не возникло, возник вопрос другой, естественный и легкий:
– Могу идти?
– Деньги все-таки возьмите. Теперь они обязательно вам пригодятся. Кстати, можете походить в наш спортклуб – могу оформить пропуск. Не удивляйтесь, не удивляйтесь… Несколько занятий боксом вам бы принесли пользу. Хук, апперкот, прямой в голову, двойка – это надо бы вам уметь.
– Зачем?
– Александр Григорьевич, жизнь кончается не завтра. А вдруг вам придется отправиться в Иран?
– Мне? В Иран?.. Хорошая шутка. Кто меня пошлет?
– Догадаться нетрудно.
Саша встал.
– Спасибо. Я подумаю…
– Всего хорошего. Не забывайте, пожалуйста, про отчеты – у вас они здорово получаются. Кратко, сильно, как у моего любимого Чехова, читать – удовольствие. Вы у нас еще писателем станете. Вы меня поняли?..
От «Москвы» до «Парка культуры» очень даже не близко. Саша решил идти пешком, ему требовалось самоистязание. Побаливала потертая нога, но сейчас такая боль была в кайф.
«Он прав во всем, – размышлял Саша. – Одни от страха от всего отказываются, другие, от страха же, идут на все… Ираном дразнит – так я ему и поверил. Я подмахнул бумагу, потому что я бздо, и мы оба это знаем – он понял, а я знаю. Что с этим делать, дед? Твой внук родился трусом – что с этим делать, дед?»
Добровольный агент Сташевский шел по московским улицам, не обращавшим на него никакого внимания. Ни одной тормознувшей подле него машины, ни одного крика «позор!», камня вдогонку, свиста или хотя бы указующего перста, ни единого осуждающего взгляда не встретил он на своем крестном пути.
«Всем наплевать на тебя, – думал Саша. – Это не проблема людей, это твоя проблема, Санек. Хуже всего, что ты не можешь никому о ней рассказать. В тебе образовалось второе дно, началась параллельная жизнь – сделай хотя бы так, чтобы она никогда не пересекалась с первой и никому не мешала. Живи в ней сам, хитри, петляй, совершай подвиги. Может, тебе, гнида, даже понравится так жить? А, гнида?»
Без четверти девять приблизился к Агентству; с ходу влетел на скверик, кинул взгляд налево, направо. Светки не было.
Поворот был ожидаемый, а все равно мучительный, тянущий, словно боль в животе.
«Двушки» всегда водились в кармане, он собирал их на случай непредвиденных звонков. Углядев ближайший автомат, алюминиевую будку со скрипучей, неплотно закрывающейся дверью, ступил в нее, сырую и пахучую, задвинул монету в прорезь, набрал номер, и повезло, сразу соединился. В мозгу мелькнуло молниеносное: «Что говорить?» Приготовился, кажется, ко всему – услышал совсем не то, на что рассчитывал. «Светлана уже спит и просила не будить, – громко ответила Полина Леопольдовна и перешла на быстрый шепот: – Все-все, Саша, пока, а то мне попадет». Повесив трубку, замер в будке, забыв, что надо бы ее покинуть. Простая мысль пришла ему в голову. «Из-за игр с ГБ ты потеряешь Светку, ублюдок, – сказал он себе. – Что для тебя важнее: ГБ или невеста?» Ответ был ясен, но вопрос повторялся снова и снова, и что с ним было делать, он не знал.