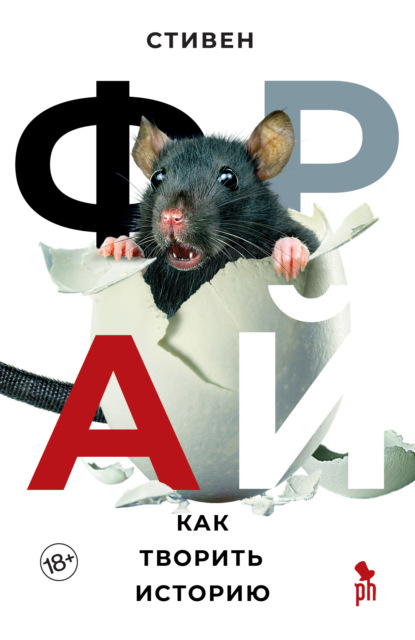Полная версия:
Стивен Фрай Миф. Греческие мифы в пересказе
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
– Нет, нет, – сказал капитан. – Он прав. Дадим нашему Кикну исполнить лебединую песнь. Тебе небось понадобится такая вот лира. – Он выудил из сундука кифару и вручил ее Ариону, тот настроил инструмент, закрыл глаза и принялся импровизировать. Песню он посвятил отцу своему Посейдону.
– Владыка океана, – пел он, – царь приливов, колебатель земли, возлюбленный отец. Часто пренебрегал я тобой в своих молитвах и жертвоприношениях, но ты, о великий, не бросишь своего сына. Владыка океана, царь приливов, колебатель земли, возлюбленный…
Без всякого предупреждения, крепко прижав к себе кифару, Арион сиганул за борт и пал в волны. Последнее, что он слышал, – смех команды и насупленный голос капитана:
– И вся недолга! А теперь – добыча.
Если бы кто-нибудь из них удосужился глянуть вниз, они бы увидели поразительное зрелище. Арион погрузился под воду и уже совсем собрался открыть рот и безропотно впустить в себя морскую воду.Удушение – ужасный, заполошный кошмар, а вот настоящее утопление – безмятежная и безболезненная воля. Ну или так ему рассказывали. Вопреки этому утешительному знанию Арион держал губы крепко сжатыми и, раздув щеки, забился в воде, обнимая кифару.
И тут, когда легкие у него уже готовы были лопнуть, произошло нечто замечательное. Он ощутил, что его толкают вверх. Уверенно и быстро. Он рассекал воду вверх. Пробился наружу! Можно дышать! Что происходит? Должно быть, греза. Бурление воды, пузыри и брызги, наклонный, качкий горизонт, грохот в ушах, плеск, рев и ослепление – все это не давало ему понять, что творится, пока он не отважился глянуть вниз и сквозь резь в глазах увидел, что… что… он на спине у дельфина!У дельфина! Он едет верхом на дельфине по волнам! Но шкура у него скользкая, и Арион начал сползать. Дельфин вскинулся и крутнулся, и Арион опять как-то устроился. Зверь сознательно заботился о его безопасности! Не будет ли он против, если Арион вытянет руку и возьмется за плавник – как наездники держатся за луку седла? Дельфин не возражал, даже немножко вздыбился, словно одобряя, и прибавил скорости. Арион осторожно потянул за ремень кифары и перебросил инструмент за спину, чтобы можно было с удовольствием ехать дальше, держась за плавник обеими руками.
Корабль скрылся из вида. Солнце сияло, дельфин и человек выпахивали в море борозду, разбрасывая радужные брызги. Куда они направляются? Знает ли дельфин, куда плыть?
– Эй, дельфин. Целься на Коринфский залив. Я тебя направлю, когда мы там окажемся.
Дельфин разразился писками и щелчками, вроде бы означавшими понимание, и Арион рассмеялся. Они плыли и плыли, устремляясь к вечно далекому горизонту. Арион, уверенно обретший равновесие, вновь передвинул кифару к себе на грудь и запел песню об Арионе и дельфине. До нас она не дошла, но, говорят, песня получилась чудеснейшая на свете.
Долго ли, коротко ли, добрались они до залива. Дельфин пробрался по этой оживленной корабельной улице с изящной легкостью и прытью. Моряки на людных барках, баржах и лодочках глазели на это небывалое зрелище: юноша верхом на дельфине. Арион управлял животным, осторожно поворачивая плавник в ту или другую сторону, и дельфин без устали плыл, пока не достигли они царской пристани.
– Пошлите весть царю Периандру, – сказал Арион, сходя с дельфина на берег. – Его менестрель вернулся. И покормите моего дельфина.
Изваяние
Периандр несказанно обрадовался возвращению любимого музыканта. История о его спасении облетела весь двор, все дивились и поражались. Праздновали всю ночь, до самого утра. Лишь к вечеру собрались они поглядеть, похвалить и приласкать героического дельфина. Но открылось им прискорбное зрелище. Чтобы накормить дельфина, дремучие работники на пристани выволокли его из воды. Животное страдало без воды всю ночь, утро и день, горячее солнце сушило и жгло ему шкуру, оно лежало на берегу, его окружала любопытная детвора. Арион пал на колени и зашептал дельфину на ухо. Дельфин встрепенулся в любовном ответе, выдавил трепетный вздох и умер.
Арион люто корил себя, и даже указания Периандра о возведении высокой башни в память о дельфине и во славу его не смогли ободрить музыканта. Весь следующий месяц все его песни были печальны, а во дворце скорбели вместе с ним.
И тут пришла весть, что бриг с командой из девяти матросов и злодея-капитана штормом задуло к Коринфу. Периандр отправил гонца с приказом команде предстать перед царем, а Ариону велел не показываться, пока команду будут допрашивать.
– Вы должны были доставить из Тарента моего барда Ариона, – сказал он. – Где он?
– Увы, государь, – проговорил капитан. – Все очень печально. Несчастного юношу смыло за борт в шторм. Мы выловили его тело и устроили ему похороны в море, со всеми почестями. Великая жалость. Милейший парень, вся команда его любила.
– Ага. Конечно. Хороший парень. Ужасная утрата… – бормотали моряки.
– Как бы то ни было, – сказал Периандр, – до меня дошли вести, что он выиграл певческое состязание и прибыл на борт с сундуком сокровищ, половина их – моя собственность.
– Что до этого… – капитан развел руками. – Сундук пропал в ту же бурю. Открылся, когда соскользнул с палубы в море, нам удалось спасти лишьчасть того-сего. Серебряную лиру какую-то, авлос, две-три побрякушки. Жалею, что больше нету, владыка, очень жалею.
– Ясно… – Периандр нахмурился. – Явитесь завтра утром к новому изваянию на царской пристани. Не заблýдитесь. Там на вершине вырезан дельфин. Приносите все сокровища, какие уцелели, и я, возможно, позволю вам оставить себе долю Ариона, коли несчастный мальчик погиб. Разойдись.
Наутро капитан и его девятеро людей прибыли спозаранку к изваянию. Они смеялись, было им легко и весело: вернуть-то надо всего малую долю Арионова сокровища, а еще наивный тиран выдаст им, глядишь, кусок этой доли.
Периандр прибыл с дворцовой охраной точно в назначенный час.
– Доброе утро, капитан. А, сокровище. Это все, что вам удалось спасти? Да, вижу, понятно, немного, а? Ну-ка напомните мне, какая участь постигла Ариона?
Капитан повторил вчерашнюю байку легко и непринужденно, каждое слово в точности совпало с тем, что он говорил накануне.
– Стало быть, он действительно мертв? Вы действительно выловили тело, приготовили его для погребения, после чего предали волнам?
– Именно так.
– И вот эти безделушки – все, что осталось от сокровища?
– Скорблю, но, повелитель, да.
– Как же, – продолжил Периандр, – вы объясните все вотэто, найденное в полостях обшивки вашего судна?
По знаку царя стражи выступили вперед – с носилками, на которых высилась гора сокровищ.
– А. Да. Ну… – капитан расплылся в победной улыбке. – Глупо это с нашей стороны – обманывать тебя, государь. Юноша погиб, как я и сказал, но осталось его сокровище. Мы всего лишь бедные трудяги-моряки, владыка. Твоя проницательность и мудрость вывела нас на чистую воду.
– Как мило, – проговорил Периандр. – Но я по-прежнему растерян. Я заказал для Ариона кифару из серебра, золота и слоновой кости. Он с ней никогда и нигде не расставался. Почему ж ее нет среди этих вещей?
– Ну, – сказал капитан, – как я уже говорил тебе, мы любили юного Ариона. Все равно что младший брат нам, правда, ребятки?
– Так точно… – забормотали матросы.
– Мы знали, как дорога ему эта кифара. Мы положили ее в погребальный саван Ариона и затем предали тело волнам. Как же можно было иначе?
Периандр улыбнулся. Капитан улыбнулся. Но вдруг улыбка исчезла. Из пасти золотого дельфина на вершине монумента полилась мелодия кифары. Капитан и его люди изумленно вытаращились. Голос Ариона вплелся в песню кифары, и вот какие слова возникли из резной дельфиньей пасти:
– Кончаем с ним, ребята, – промолвил капитан. – Кончаем с ним, берем его добро.
– Убьем его сейчас же, – вопили моряки. – Швырнем его акулам на обед.
– Стойте, – менестрель сказал. – Позвольте я спою прощальную мелодию одну.
Кто-то из матросов вскрикнул от испуга. Другие, трепеща, пали на колени. И лишь капитан, побелев, стоял смирно.
В основании монумента открылась дверца, и наружу выбрался сам Арион, перебирая струны и напевая:
Но тут дельфин явился и музыканта спас.Они поплыли по морским волнам.Добрались эти двое до берега в Коринф,Дельфин и им спасенный менестрель.Моряки принялись рыдать и лепетать, просить пощады. Валили друг на дружку, а особенно – на капитана.
– Поздно, – сказал Периандр, собираясь удалиться. – Казнить их всех. Пойдем, Арион, споешь мне о любви и вине.
В конце долгой и успешной жизни музыканта Аполлон, для которого дельфины и музыка священны, поместил Ариона и его спасителя среди звезд – между Стрельцом и Водолеем, в созвездии Дельфин.
Из своего положения на небесах Арион и его спаситель помогают навигаторам на морях и напоминают всем нам о странном и чудесном братстве, что существует между людьми и дельфинами.
Филемон и Бавкида, или Вознагражденное гостеприимство
Среди холмов восточной Фригии в Малой Азии растут бок о бок дуб и липа, ветви их соприкасаются. Пейзаж деревенский, простой, далекий от сияющих дворцов или рвущихся ввысь цитаделей. Крестьяне тут худо-бедно перебиваются: в вызревании урожаев и откорме свиней они целиком на милости у Деметры. Почвы небогаты, и для местных это вечный труд – наполнять амбары провизией, чтобы ее хватило на зимние месяцы, пока Деметра тоскует и оплакивает отлучку из верхнего мира своей умницы-дочки Персефоны. Те дуб и липа, пусть и неброские на вид, если сравнивать их с величественными тополиными рощами и изящными кипарисовыми аллеями, что выстроились вдоль дороги, соединяющей Афины с Фивами, однако это священнейшие деревья в Средиземноморье. Мудрые и добродетельные совершают к ним паломничества и вешают дары на их ветви.
Много лет назад в долине среди тех холмов возникло селение. По размерам – среднее между деревней и городком. Прозывалось оно – с надеждой и отчаянием, какие вечно отмечают имена неудачливых поселений, – Эвмения, что означает «место добрых месяцев», в жалком уповании, что Деметра, глядишь, благословит бесплодные почвы и подарит богатые урожаи. Но такое случалось редко.
Посреди агоры, главной площади селения, стоял здоровенный храм Деметры, а напротив – почти столь же просторный храм, посвященный Гефесту (людям нужно было благословение для кузниц и мастерских). Близ селенья имелись и многочисленные храмы Гестии и Диониса. За чахлыми виноградниками, взбиравшимися по склонам, ухаживали так же тщательно, как за оливковыми рощами или полями кукурузы. Жизнь давалась тяжело, но мужчины и женщины находили немалое утешение в кислом вине своей области.
В конце петлявшей улочки, что вела прочь из села, в маленькой каменной хижине жили старенькие супруги ФИЛЕМОН и БАВКИДА. Женаты они были с самой ранней юности, но и теперь, в старости, любили друг друга так же глубоко, с негромким ровным пылом, удивлявшим соседей. Они были беднее многих прочих, поля у них – самые голые и бесплодные во всей Эвмении, но никаких жалоб от них никто не слышал. Каждый день Бавкида доила их единственную козу, мотыжила, штопала, стирала и латала, а Филемон сеял, сажал, копал и скреб землю позади их лачуги. Вечерами они собирали лесные грибы, дрова или просто гуляли по холмам рука об руку, разговаривали о том о сем или же довольствовались безмолвием друг друга. Если еды хватало на ужин, они готовили, а нет – ложились в постель голодными и засыпали в объятиях друг друга. Их трое детей давно переехали и жили со своими семьями далеко оттуда. Родителей не навещали – а больше и некому было стучать к ним в дверь. Пока не наступил один судьбоносный вечер.
Филемон только-только вернулся с полей и присел, готовясь к ежемесячной стрижке волос. В те дни мало что венчало его лысоватую старую голову, но этот ежемесячный ритуал приносил им обоим радость. Из-за громкого «тук-тук-тук» в дверь Бавкида чуть не выронила бритву, которую точила. Старики переглянулись в великом изумлении – и не смогли припомнить, когда к ним в последний раз наведывались гости.
Двое чужаков стояли на пороге – бородач и его юный гладколицый спутник. Наверное, сын.
– Приветствую, – сказал Филемон. – Чем можем помочь?
Тот, что помоложе, улыбнулся и снял шляпу – странную округлую шапочку с узкими полями.
– Добрый вечер, сударь, – проговорил он. – Мы голодные путники, в этой части света впервые. Можно ли нам воспользоваться вашей доброй волей…
– Заходите, заходите! – сказала Бавкида, хлопоча у мужа за спиной. – В это время года на улице студено. Мы выше остального села, тут у нас похолоднее. Филемон, раздуй-ка огонь, чтоб наши гости согрелись.
– Конечно, любовь моя, конечно. Где мое воспитание? – Филемон склонился и подул в очаг, разбудил угли.
– Позвольте ваши плащи, – предложила Бавкида. – Присаживайся, сударь, у огня. И ты, прошу.
– Ты очень добра, – сказал старший. – Меня звать Астрап, а это – мой сын Аргур.
Молодой, услышав свое имя, поклонился с неким шиком и устроился у огня.
– Пить хочется страшно, – сказал он, громко зевнув. – Сейчас дадим вам попить, – сказала Бавкида. – Муж, тащи винный кувшин, а я принесу сушеных смокв и кедровых орехов. Надеюсь, вы, судари, согласитесь с нами поужинать. Богатой трапезы предложить не сможем, но всем, чем богаты, рады поделиться.
– Я не против, – сказал Аргур.
– Позволь твою шляпу и посох…
– Нет-нет. Пусть останутся при мне. – Молодой человек подтянул посох поближе к себе. Очень причудливый он у него был. Лоза его, что ли, обвивает, задумалась Бавкида. Юноша так ловко им крутил, что посох был будто живой.
– Боюсь, – сказал Филемон, поднося кувшин с вином, – наше местное покажется вам немножко жидким и чуточку…резковатым. Люди из соседних мест смеются над нами, но, уверяю вас, если привыкнуть ко вкусу, оно вполне пригодно для питья. Мы так считаем, по крайней мере.
– Неплохое, – проговорил Аргур, пригубив напиток. – Как вам удалось научить кота сидеть на кувшине?
– Не обращайте внимания, – сказал Астрап. – Ему кажется, что он остроумен.
– Ну, сознаюсь, этои правда довольно потешно, – сказала Бавкида, подавая фрукты и орехи на деревянной тарелке. – Страшусь думать, что вы скажете о том, как выглядят мои сушеные смоквы.
– На тебе сорочка, а мне не видно. А вот фрукты на этой тарелке с виду вполне съедобны.
–Сударь! – Бавкида игриво шлепнула его и разрумянилась. Вот же странный какой юноша.
Некоторая неловкость, сопровождающая стадию питья и закусок, быстро растаяла благодаря добродушному нахальству Аргура и смешливости хозяев. Астрап, казалось, был настроен угрюмее, и когда они все направились к столу, Филемон положил руку ему на плечо.
– Надеюсь, ты простишь любознательность глупого старика, – проговорил он, – однако, сдается мне, ты несколько задумчив. Можем ли мы помочь тебе?
– Ой, не обращайте на него внимания. Вечно он как в воду опущенный, – сказал Аргур. – Там же гардеробчик себе вылавливает, ха-ха! Но вообще-то ничего такого с ним не происходит, чего нельзя исправить хорошей кормежкой.
Бавкида и Филемон встретились мимолетными взглядами. Так мало чего осталось в кладовке. Кусок соленой свинины, который они припасли к празднику середины зимы, немножко сухофруктов и черного хлеба, полкочана капусты. Они понимали, что, утоли они и вполовину аппетиты двух здоровых мужчин, останутся голодными на неделю. Но гостеприимство священно, а нужды гостей – всегда на первом месте.
– Еще стаканчик этого вина не помешает, – сказал Аргур.
– Ох ты, – проговорил Филемон, заглядывая в кувшин, – боюсь, больше не осталось.
– Чепуха, – проговорил Аргур, выхватывая кувшин, – залейся. – И наполнил и свою чашу, и чашу Астрапа.
– Как странно, – промолвил Филемон. – Готов поклясться, что кувшин и вначале был всего на четверть полон.
– Где ваши чашки? – спросил Аргур.
– Ох, прошу тебя, нам не надо…
– Чепуха. – Аргур откинулся на стуле, взял со столика у себя за спиной два деревянных кубка. – Так… Давайте тост.
Филемон с Бавкидой поразились – не только тому, что вина в кувшине оказалось достаточно, чтобы наполнить их кубки до краев, но и качество его оказалось куда лучше, чем оба могли припомнить. Какое там – если им все это не снится, чудеснее вина они отродясь не пробовали.
В некоем тумане Бавкида вытерла стол мятными листьями.
– Милая, – прошептал ей на ухо Филемон, – тот гусь, что мы собирались пожертвовать Гестии в следующем месяце. Гостей кормить гораздо важнее. Гестия поймет.
Бавкида согласилась:
– Пойду сверну ему шею. Попробуй развести огонь так, чтобы хорошенько пожарить.
Гусь, впрочем, ловиться не желал. Как бы осторожно Бавкида к нему ни подкрадывалась, он всякий раз вырывался, гогоча, у нее из рук. Она вернулась в дом распаленная и расстроенная.
– Судари, простите великодушно, – сказала она, и в глазах у нее стояли слезы. – Боюсь, трапеза ваша будет грубой и невкусной.
– Что ты, тетенька, – сказал Аргур, наливая еще вина всем. – Я вкуснее трапезы не едал вовек.
– Сударь!
– Да правда. Скажи им, отец.
Астрап угрюмо улыбнулся.
– Нас прогнали из каждого дома Эвмении. Некоторые местные ругались на нас. Некоторые плевали нам вслед. Кто-то кидался камнями. Спускал на нас собак. Ваш дом – последний у нас на пути, и вы явили нам одну лишь доброту и духксении, который, я уж забоялся, исчез с белого света.
– Сударь, – произнесла Бавкида, ища под столом руку Филемона и сжимая ее. – Нам остается лишь извиняться за поведение наших соседей. Жизнь тяжела, и не все воспитаны в почитании законов гостеприимства, как то подобает.
– Незачем за них извиняться. Я зол, – сказал Астрап, и на этих его словах снаружи донесся рокот грома.
Бавкида заглянула в глаза Астрапа и увидела нечто, перепугавшее ее.
Аргур рассмеялся.
– Не тревожьтесь, – сказал он. – На вас мой отец не сердится. Вами он доволен.
– Выходите из дома, поднимайтесь на холм, – проговорил Астрап, вставая. – Не оглядывайтесь. Что бы ни случилось – не оглядывайтесь. Вы заслужили награду, а ваши соседи – кару.
Филемон и Бавкида встали, держась за руки. Они поняли, что их гости – не обычные странники.
– Кланяться не надо, – сказал Аргур.
Его отец указал на дверь.
– На вершину.
– Помните, – повторил им вслед Аргур, – не оборачивайтесь.
– Ты знаешь, кто этот молодой человек? – спросил Филемон.
– Гермес, – ответила Бавкида. – Когда он открыл нам дверь, я разглядела змей, что обвили его посох. Они былиживые!
– Значит, человек, которого он назвал отцом…
– Зевс!
– Ох ты поди ж ты! – Филемон замер на склоне – перевести дух. – Слишком темно, любовь моя. Гроза надвигается. Интересно…
– Нет, милый, оборачиваться нельзя. Нельзя.
Возмущенный враждебностью и бесстыжим нарушением законов гостеприимства, какое выказали ему жители Эвмении, Зевс решил устроить этому селению то же, что он сделал с Девкалионом при Великом потопе. По его велению тучи сгустились в единую тугую плоть, засверкали молнии, ухнул гром и хлынул дождь.
Когда пожилая пара добралась до вершины холма, вокруг бушевали потоки воды.
– Нельзя же тут стоять под дождем, спиной к деревне, – сказала Бавкида.
– Я гляну, если ты глянешь.
– Люблю тебя, Филемон, муж мой. – Люблю тебя, Бавкида, жена моя.
Они обернулись и глянули. Как раз в тот миг великий потоп залил Эвмению, Филемон превратился в дуб, а Бавкида – в липу.
Сотни лет два дерева росли бок о бок – символ вечной любви и смиренной доброты, их переплетенные ветви – сплошь в подарках, оставленных восхищенными паломниками[244].
Фригия и Гордиев узел
Греки обожали мифологизировать основателей городов и мегаполисов. Дар Афины – оливковое дерево – жителям Афин и ее воспитание Эрехтея (дитя Гефеста и намоченной семенем тряпочки, как мы помним) как основателя города, похоже, укрепили афинян в чувстве собственной значимости. История Кадма и драконьих зубов наделила тем же фиванцев. Иногда, как и в случае с основанием города Гордиона, элементы сказания могут перебраться из мифа в легенду, а оттуда – в настоящую, задокументированную историю.
Жил-был в Македонии один бедный, но целеустремленный крестьянин по имени ГОРДИЙ. Однажды работал он на своих бесплодных каменистых полях, и тут на дышло его воловьей упряжки сел орел и уставил на Гордия свирепый взгляд.
– Так и знал! – пробормотал Гордий. – Всегда знал, что рожден для славы. Орел это подтверждает. Вот она, моя судьба.
Он вынул плуг из почвы и погнал вола и повозку за много сотен миль к оракулу Зевса Сабазия[245]. Гордий тащился вперед, а орел цепко держался за дышло когтями и не встрепенулся ни разу, как бы жестоко ни трясло и ни мотало повозку на колдобинах и камнях.
По дороге Гордий встретил юную тельмесскую девушку, наделенную в равной мере и великим пророческим даром, и манящей красотой, растревожившей Гордию сердце. Она, казалось, ждала его и поторопила, сказав, что им нужно тотчас добраться до Тельмеса, где ему предстоит принести в жертву Зевсу Сабазию своего быка. Гордий, распаленный слиянием воедино всех его надежд, решил последовать совету – если только она согласится пойти за Гордия замуж. Девушка покорно склонила голову, и они вместе направились к городу.
Так случилось, что как раз тогда же помер в своей постели царь Фригии. Поскольку ни потомков, ни очевидного преемника он не оставил, столичные жители поспешили к храму Зевса Сабазия, выяснить, что делать. Оракул велел им помазать и короновать первого же мужчину, который въедет в город на повозке. И поэтому горожане взволнованно столпились у ворот в тот самый час, когда явились Гордий с пророчицей. Они перешагнули городскую границу, и орел с великим криком слетел со своего шестка. Население побросало вверх шапки и приветствовало странников, пока не осипло.
Совсем недавно Гордий жил одиноко и добывал себе средства к существованию, скребя македонскую пыль, а вот уж он женат на красавице-провидице из Тельмеса и сидит на троне царя Фригии. Он затеял перестроить город (который нескромно переименовал в свою честь Гордионом) и взялся править Фригией и жить долго и счастливо. Так и вышло. Иногда и в греческой мифологии все складывается удачно.
Воловья повозка сделалась священным предметом, символом Гордиева богоданного права на власть. На агоре воздвигли резной шест из полированного кизилового дерева, а к нему приделали ярмо, привязанное веревкой с самым затейливым узлом из всех, какие только видел белый свет. Гордий решил, что повозку с городской площади ни за что не должны выкрасть. Сложилась легенда – таинственно и непостижимо, как это бывает с легендами: тот, кто сумеет развязать этот зверский узел, однажды станет владыкой всей Азии. Пытались многие – заправские мореходы, математики, изготовители игрушек, художники, ремесленники, жулики, философы и целеустремленные дети, – но никому не удалось даже слегка ослабить причудливо переплетенные зацепки, петли и жгуты.
Великий Гордиев узел не удавалось развязать более тысячи лет, пока в город со своей армией не заявился отчаянный гений – юный македонский завоеватель и царь по имени Александр. Когда ему поведали эту легенду, он вскинул меч, рубанул им и рассек Гордиев узел, тем самым заработав восторженные хвалы и среди своего поколения, и в дальнейших[246].
Меж тем, возвращаясь к нашему повестованию: сын Гордия царевич МИДАС вырос дружелюбным и веселым молодым человеком, которого любили и обожали все, кто знал его.
Мидас
Безобразный незнакомец
Гордий помер, когда пришел срок, и его сын Мидас унаследовал царский трон. Жизнь его была необременительна и изысканна, он вырос добродушным и радостным, его все любили и им восхищались; Фригия была не очень-то богатым царством, однако бóльшую часть времени и денег, которыми Мидас все же располагал, он вбухивал в роскошный розовый сад при дворце. Тот прославился как одно из чудес своей эпохи. Больше всего на свете Мидас любил бродить по этому райскому буйству цвета и аромата и ухаживать за растениями, а на каждом из них было по шестьдесят великолепных цветков.
Как-то раз поутру, когда гулял он по саду, примечая с привычным восторгом, до чего изысканно капли росы сверкают на нежных лепестках его драгоценных роз, Мидас споткнулся о сонное тело уродливого пузатого старика, свернувшегося на земле калачиком и храпевшего как свинья.
– Ой, – произнес Мидас, – прости. Я тебя не заметил.
Срыгнув и икнув, старик встал на ноги и поклонился.
– Извиняй, – проговорил он. – Никуда не денешься – пошел вчера на сладкий дух твоих роз. Уснул.
– Ничего-ничего, – вежливо отозвался Мидас. Его воспитали всегда выказывать старшим уважение. – Но отчего бы тебе не зайти во дворец и не употребить что-нибудь на завтрак?