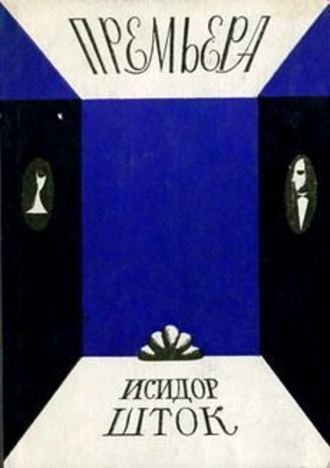
Исидор Владимирович Шток
Премьера
V
Когда говоришь с театралами о Шкваркине, они в первую очередь вспоминают «Чужого ребенка», «Весенний смотр», «Простую девушку», «Страшный суд». Все эти комедии до сих пор сохранились в репертуаре театров, их можно посмотреть на сцене, перечесть в книге. Они и создали В. Шкваркину славу советского комедиографа, мастера комедийной фабулы, автора острой и неожиданной реплики. Обличителя глупости, пошлости, обывательщины. Защитника маленьких, застенчивых, незлобивых людей, стесняющихся громких слов.
Так уж повелось, что с давних пор каждую удачную комедию или водевиль критики провозглашают «первой советской комедией» или «первым советским водевилем», Сколько уж прошло перед нашими глазами этих самых «первых»!
За восемь лет – с 1933 по 1940 год – Шкваркин написал четыре комедии. Все они по очереди объявлялись «первой советской». Хотя в те годы работал мощный отряд советских комедиографов. Начиная с «Землетрясения» Пантелеймона Романова, еще в начале двадцатых годов веселившего московского зрителя, в последующие годы были созданы комедии, водевили, сатиры, гротески, обозрения, памфлеты – Борисом Ромашовым, Николаем Эрдманом, Михаилом Булгаковым, Юрием Юрьиным, Валентином Катаевым, Михаилом Зощенко, Николаем Погодиным, Львом Никулиным, Виктором Ардовым, Давидом Гутманом, Виктором Типотом, Владимиром Mac-сом, Константином Финном, Леонидом Ленчем, братьями Тур, Дмитрием Угрюмовым… Уже появились романы Ильфа и Петрова и первые их инсценировки…
Во всяком случае, представлять дело так, будто Шкваркин создал свои комедии почти на пустом месте, – неправильно. У него были мощные конкуренты. И тем не менее Шкваркин был знаменит, как ни один комедиограф. Не было города, где бы не шли его пьесы.
Представлял в тот далекий сезон Московский театр сатиры и мою комедию «Вагон и Марион». Я был в этом театре «своим». Вот довелось мне присутствовать сперва на генеральной репетиции, а потом на премьере «Чужого ребенка». Спектакль па премьере шел почти на сорок минут дольше, чем на генеральной. Смех, непрерывный смех, смех на каждую реплику, аплодисменты, вызовы автора не только после последнего, но и после второго действия, посредине действия! – удлинили представление на сорок минут. Я никогда не слышал ни на одном спектакле столько смеха и аплодисментов во время действия. Постановщики Горчаков и Корф, конечно, ожидали успеха, но то, что делалось, превзошло их ожидания. Директор театра был так доволен и так улыбался, что можно было подумать, что именно он и написал эту пьесу.
Конечно, значительную, львиную долю успеха следует отнести на долю автора. Но и заслуга театра тут была велика. «Чужого ребенка» поставили действительно достоверно, серьезно, жизненно. Оттого что действующие лица верили в действительность происходившего с ними, всерьез огорчались и переживали мнимые неудачи, было смешно. Было трогательно. Было радостно.
Ведь история Мани, беременность, выдуманная молодой актрисой для того, чтобы вжиться в роль матери незаконнорожденного ребенка, явилась как бы пробой благородства всех действующих лиц комедии.
На маленьком, как бы совсем незначительном факте автор сумел построить комедию характеров, показать то новое, что принесла жизнь. Зазвучала высокая гуманистическая тема отношения к детям в нашей стране. Большинство персонажей, да, пожалуй, все, кроме пошляка и обывателя инженера Прибылева, выдержали трудный экзамен, устроенный им Маней, И вполне оправданно зазвучали в финале слова старого музыканта Караулова, отца юной актрисы:
«Дети, друзья! Жизнь многообразна, огромна… И мы, артисты, художники, первые должны находить в ней и показывать другим прекрасное. Отдадим же внукам нашу заботу, любовь, наши лучшие грустные и радостные песни».
Снова зазвучала тема благородного актера Щукина из «Вредного элемента». Но тут уже она зазвучала в полную силу. Безнадежно влюбленный Сенечка Перчаткин, пылкий Юсуф, ревнивый Костя, Ольга Павловна, «коварная» Маня и ее подруга Рая – уже не условные водевильные персонажи первых пьес Шкваркина. Это образы сложные, с недостатками, с шероховатостями, постигающие жизнь постепенно, но преданные ей бесконечно.
Зрители, пресса, артисты – все с восторгом приняли «Чужого ребенка». Живет он и сегодня и будет жить. Правда, краски несколько потускнели, кое-что кажется наивным, да это и естественно. Все движется вперед, даже театр и драматургия. Для советской комедиографии «Чужой ребенок» явился важным этапом.
Многие комедии, родившиеся в последующие двадцать пять лет, одни в большей, другие в меньшей степени, обязаны «Чужому ребенку», который действительно явился первой зрелой советской комедией-водевилем.
Несколько лет назад, привлеченный афишей одного периферийного театра, приехавшего на гастроли в Москву, я отправился в летний сад Центрального парка культуры и отдыха. Шел «Страшный суд».
Публики было мало, спектакль плох, посредственные актеры усердно комиковали. Видимо, боясь, что юмор Шкваркина не дойдет до зрителя, украшали спектакль фортелями и трюками, столетиями живущими на сцене. Грубо сделанные парики, шаржированный грим, неестественные интонации вдруг превратили советскую комедию в буффонаду семнадцатого века в современных костюмах.
Многие думают, что хорошая, так называемая «репертуарная» пьеса, независимо от игры актеров, все равно будет нравиться зрителю. Поэтому, дескать, она и репертуарная.
На примере «Страшного суда» можно было убедиться, как это глубоко неверно.
На сцене делалось все для того, чтобы заставить зрителя не верить, ни за что не верить тому, что написал драматург. Цель была достигнута.
Начисто были забыты слова гениального русского комедиографа:
«Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях. Напротив, нужно особенно стараться актеру быть скромней, проще я как бы благородней, чем как в самом деле есть то лицо, которое представляется. Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той серьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии» '.
Все, от чего предостерегал Гоголь, было в этом спектакле. И спектакль скукожился, завял.
Рассказ о том, как некий Изнанкин, для того чтобы не ехать на периферию, дал взятку секретарю одного учреждения, превратился в несмешной и маловероятный анекдот. Хотя что тут маловероятного?
Мне кажется, что «Страшный суд» – последняя комедия Шкваркина, написанная перед войной, – самая острая и сатиричная его пьеса.
Секретаря Блажевича и взяткодателя Изнанкина суд оправдал «за недоказанностью преступления». Но тут-то и началось самое трудное для этих людей – суд их совести. Все летит к черту, все рушится в их жизни – и старые привязанности, и дружба, и любовь. Решили свалить взятку на Анну Павловну Блажевич, жену секретаря: дескать, это ей поднес золотой портсигар ее поклонник Изнанкин, а муж ничего не знал. Но тут начинает ревновать, и в данном случае без всякого основания, жена Изнанкина. А Блажевич, знающий, что это была именно взятка и жена его благородно приняла вину на себя, начинает ненавидеть жену.
Не в силах вытерпеть домашнего ада, терзаемый угрызениями совести, Изнанкин решается пойти в суд и рассказать там всю правду. Как он, Изнанкин, дал взятку, как Блажевич принял ее. Как взвалили они всю тяжесть на невинного человека.
«Идем, Варя, собирай меня в честную дорогу!»
«Неужели опять жизнь налаживается?» – говорит Варвара Ивановна, провожая мужа в тюрьму.
Я мечтаю посмотреть «Суд» в серьезной постановке. Без шаржа, гротеска, в реалистических декорациях. Ну как будто идут «Три сестры». Пожалуй, только тогда эта пьеса будет вызывать сострадание к положительным ее героям, ненависть к лгунам, взяточникам, презрение к слабодушным. Тогда зазвучит по-настоящему сатиричность ее.
VI
Я сознательно назвал эти комедии лирическими. Ибо, несмотря на большое количество комедийных ситуаций, веселых столкновений, сатирических красок, главное в этих четырех комедиях – светлая лирическая струя, любовь. То, что в прежних произведениях Шкваркина иногда излагалось скороговоркой, не раскрывалось, а обозначалось, – здесь сделалось главным…
Всегда корректный, чуть даже чопорный, внимательный в разговоре, с резким мефистофельским профилем и едва заметной усмешкой, Василий Васильевич Шквар-кин мало был похож на старого музыканта Караулова или на его двадцатилетнюю дочь Маню. Он совсем не похож и на учителя Страхова, на измученного угрызениями совести Изнанкина, на пытливую девушку Олю или на безнадежно влюбленного Перчаткина. Но в каждом из этих персонажей живет сам автор. Живет, – значит, придает каждому из них какую-нибудь черту своего характера, симпатизирует, ставит себя на их место.
Там, где автор очень далек от своих персонажей, появляются на сцене вынутые из старого сундука драматургии благородные папаши, испытанные мещанки. Это не больше чем рудименты старых водевилей с их совпадениями, несмешными каламбурами, условными недоразумениями (принимают одного за другого или думают, что она это не она, а он это не он), нарочитыми фамилиями (Застрелихин, мадам Самозванцева)…
Я снова перечитал «Весенний смотр», и снова он мне понравился. Нет, раньше в комедиях Шкваркина не было таких сцен, как, например, беседа у глобуса учителя Страхова, соседа его Василия Максимовича и учеников-десятиклассников.
«Василий Максимович(над глобусом). Мальчики, девочки! Вы вступаете в мир. А мир сделан из разных кусков. Так вот, если на вашем пути попадается пыль, мусор, грязь, не ругайте за это землю. В глубине ее – золото, самоцветы, руда. И если осенью вам придется идти по скучным стоячим лужам, вспомните, что в мире бушуют реки, озера, моря…»
Молодые люди, глядя на модель земного шара, мечтают о будущей работе, о путешествиях.
«Люба. Я научусь быть счастливой и постараюсь объяснить детям, что значит это слово».
В комедиях Шкваркина прежде не было сцен, подобных ночной встрече на мосту над Москвой-рекой.
Весна. Половодье. В жизни каждого из действующих лиц происходит нечто весьма важное.
«Сегодня ночью виднее, чем днем», – говорит Василий Максимович, отец Любы, друг Страхова, старик поэт, сочиняющий поэмы и новеллы.
Смешное и грустное, как оно часто и бывает, здесь рядом. Девушка-хромоножка Люба, решившая в эту ночь распроститься с жизнью, вдруг понимает прелесть этой ночи, радость существования, красоту окружающих ее людей.
«Весенний смотр» (в первой редакции комедия была названа «Ночной смотр», что больше определяет сюжет и фабулу пьесы) самая светлая, одухотворенная лирикой и молодостью комедия В. Шкваркина.
Не только в «Весеннем смотре», но и в «Простой девушке», и в «Женихах», и в последних двух героических комедиях очень сильно лирическое звучание. Именно оно делает человечными эксцентрические замыслы пьес. Оттеняет комедийность. Показывает, ради чего и ради кого автор так беспощадно высмеивает все, «что в нас ушедшим рабьим вбито».
Па дворе старого дома, где стоят урны с мусором, среди штабелей дров, ночью встречаются влюбленные.
«Николай выступает из-за дерева. Несколько секунд Николай и Оля неподвижно смотрят друг на друга. Он берет ее за руки. Они медленно входят под арку ворот. Николай резким движением прижимает Олю к груди. Так они стоят неподвижно».
На этом заканчивается первый акт «Простой девушки». Снова любимый автором прием пантомимы. Здесь слова уже не нужны, они лишние…
Маленький эпизод, без которого скучна была бы жизнь простой девушки. И без которой бессмысленно было бы существование на сцене жильцов дома помер восемь.
VII
Кончилась война, и Шкваркин принес в театр имени Вахтангова только что написанную комедию «Проклятое кафе» (называлась она также «Последний день» и «Последний город»).
Доблестные советские войска один за другим освобождают от гитлеровских захватчиков русские города. К воротам последнего, не освобожденного еще города приближаются наши танки. В городе зверствуют фашисты, но часы их уже сочтены. В маленьком кафе на Ивановской улице собираются в ожидании освободителей советские граждане. Они хотят достойно встретить победителей, помочь им поскорее войти в город.
«Что вы теперь делать собираетесь?» – спрашивает у девушки, работавшей в кафе официанткой, старший лейтенант.
«Жить, – отвечает Нюра. – Мы по человеческой жизни вот так истосковались! Зеленой земли хочу, ясного неба… И работать хочу… и работать хочу, и танцевать, и чтобы мне цветы дарили… Ох, я жадная!»
Тема человеческого достоинства всегда занимала Шкваркина. В «Страшном суде» оправданный судом, но измученный послесудебными обстоятельствами Блажевич кричит своему начальнику Пружинину и его супруге:
«Вы что тут людьми прикидываетесь?»
Пружинин пятится к двери, а его супруга, указывая на Пружинина, говорит:
«Это он человеком прикидывался, а я никогда».
В «Проклятом кафе» служит швейцаром бывший куплетист, старик Василий Максимович Градусов. Он говорит буфетчице:
«День, с большой буквы День приближается, Ольга Павловна! Потом это число во всех календарях золотой краской выкрасят. И мы снова людьми станем».
Василий Максимович мечтает:
«…я опять на эстраду вернусь. Ведь обо мне даже в газете писали. Замечательные отзывы были. (Вынимает истлевшую по сгибам вырезку.) Вот! (Читает.) «Все номера прошли с успехом (восторженно), если не считать выступления автора-куплетиста Градусова, которое заставило желать лучшего»…Вы понимаете, какой концерт был, если мое выступление заставило желать лучшего?!
Ольга Павловна. Но вас-то обругали?
Василий Максимович. Пускай ругают. Хоть каждый день, из номера в номер, только бы то время вернулось! Я это сочувственное ругательство как святыню храню».
Так неожиданно, чисто комедийным приемом говорит автор о весьма важных вещах.
Через двенадцать лет – только через двенадцать! – появились на сцене «Мирные люди». Написана пьеса была в 1946 году. Поставлена Ленинградским театром комедии под руководством Н. П. Акимова к сорокалетию Октября.
Объединенные в одном отряде Сопротивления флейтист Левшин, заведующий библиотекой Чистяков, священник Державин, студентка Тоня, кузнец Петр, сержант Фомин, девчонка Зоя решают приблизить день освобождения родного города. И приближают…
В «Мирных людях» и «Проклятом кафе» появилось то, чего не было еще у Шкваркина: рассказ об испытании чувств под высоким давлением исторических событий. Каждый день, каждый час в жизни героев стал испытанием. Высокая нота патриотизма, смущение от взятой на себя высокой миссии, удивление собою и своими товарищами, скрытые в человеке неисчерпаемые резервы благородства – вот что одухотворяет эти две во многом несовершенные, но весьма примечательные комедии.
А еще через несколько лет по пути, предсказанному Шкваркиным, пошли веселые, эксцентрические и при этом весьма патриотические кинокомедии типа английской «Мистер Питкин в тылу врага», французской «Бабетта идет на войну», итальянской «Все по домам!».
VIII
«Историческая традиция породила мистическую веру французских крестьян в то, что человек по имени Наполеон возвратит им все утраченные блага. И вот нашелся некто, выдающий себя за этого человека только потому, что – на основании статьи Наполеоновского кодекса: „Розыск отца воспрещается“ – он носит имя Наполеона. После двадцатилетнего бродяжничества и целого ряда нелепых приключений сбывается предсказание и человек становится императором французов. Навязчивая идея племянника осуществилась, потому что совпала с навязчивой идеей самого многочисленного класса французского общества» [5].
История превращения этого «НЕКТО», люмпена, картежного шулера и сутенера, сперва в принца Наполеона, а затем в императора Бонапарта III, «короля шутов» в «правлении альфонсов», посвящена последняя пьеса-фарс В. Шкваркина «Принц Наполеон».
Начатая еще до войны, после войны завершенная, комедия «Принц Наполеон» звучит.сегодня современно и своевременно.
С присущим Шкваркину комедийным блеском, но в совсем новом для него жанре политического памфлета, зло и остроумно рассказана история неожиданного возвышения, падения и достижения власти авантюристом Луи Наполеоном.
Кукла в руках политиканов и плутократов, ловкий спекулянт Луи Наполеон, пользуясь политической ситуацией, воцаряется на престоле Франции.
Он обманывает обманщиков, обжуливает жуликов. Цена ему известна. Парламент видел в нем не больше чем клопа. «Но Бонапарт ответил партии порядка, как Агесилай царю Агису: „Я кажусь тебе муравьем, но придет время, когда я буду львом“.
Уверен, что наш зритель с удовольствием посмотрит в театре талантливую комедию В. Шкваркина и вспомнит слова Маркса о том, что великие события истории повторяются дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Повторение восемнадцатого брюмера Бонапарта его ничтожным племянником было фарсом. Однако и фарс может многому научить.
Комедия-фарс В. Шкваркина «Принц Наполеон» весела и поучительна. В подобном жанре автор еще не работал. Очевидно, мир, избранный Шкваркиным в данном случае, потребовал такой формы, именно такой, и никакой другой. Значит, писатель чуток к голосам своих героев. Значит, писатель в каждой своей новой вещи старается найти новое для себя, неизведанное. Первая его пьеса посвящена истории. Последняя тоже. Но какая разница между ними! Как усовершенствовалось мастерство драматурга. Какое изящество обрело его перо. Нигде не фальсифицируя истории, не считая, что «история – это современность, опрокинутая в прошлое», и нигде вольно с ней не обращаясь, он находит то, что неразрывно связывает историю с сегодняшним днем.
В 1950 году Шкваркин перевел, обработал и создал новую сценическую редакцию комедии осетинского драматурга Токаева «Женихи».
Это была его последняя работа.
Через несколько лет на телевидении режиссер А. Белинский осуществил постановку «Принца Наполеона».
Но автор уже ее не видел.
Он еще жил, но уже ничего не видел, ничего не читал, почти не выходил из комнаты. Более десяти лет он был болен тяжелой мозговой болезнью.
Ничто и никто не мог ему помочь…
Он молчал. Дни, месяцы, годы. Молчал.
Мы не любим грустных финалов в наших пьесах. Особенно в комедиях. Но они ведь бывают в жизни.
Очень горько, что в списке действующих комедиографов, в списке, который возглавляла фамилия Шкваркина, нет больше этой фамилии.
Но все равно она есть.
Обнимавший необъятное

Он начинает репетировать, делая замечания актерам сразу же, как только входит через заднюю дверь в зрительный зал в партере. Совершенно ясно из его вопросов, что он не знает точно, какую пьесу репетируют, какая сцена и что будет после и что было до этого. Но он сразу обрушивает поток советов, упреков и приказаний.
И дальше, не дождавшись, пока актер выполнит все это, сам взбегает на сцену и играет роль. Показывает. Импровизирует. И сразу репетиция из нудной жвачки и серятины превращается в праздник.
– Больше света! – приказывает он. – Включить выносные прожектора. Оркестр ушел? Тогда включить пленку!
Рядом с ним оказывается завмузыкой Илья Меерович. Он сразу понимает, что нужно мастеру.
– Почему на такой плоскости идет эта сцена? Снизу? Вы где-то карабкаетесь. Матвеич! Лестницу диагональную! И станок поднять. Осветить. Музыка! Что это? Ноктюрн Шопена? Очень хорошо. Начали!
Боже мой, неужели это та же пьеса, те же актеры, та же сцена?! Возможны же чудеса в таком старом, дырявом решете, как это театральное восьмидесятилетнее здание.
И теперь, если даже отпадет нужда в ноктюрне Шопена и в бегающем луче выносного прожектора, и не надо будет взбегать по диагональной лестнице под самый арлекин сцены, и можно будет играть на гладком полу, – все равно к старому возврата нет. Будет так, как показал мастер. Здесь будут и искусство, и жизнь, и божество, и вдохновенье…
Как же на самом деле все происходило? Он сидит у себя в кабинете на втором этаже. Знает, что пьеса не очень нравится актерам. Сперва нравилась, а как стали репетировать, разочаровались. Ведь актеров до того, как они начинают репетировать, можно убедить в чем угодно. Но уж после того, как они убедились в том, что пьеса плоска, бесчеловечна, фальшива в своей основе, их трудно заставить работать.
Он заходит в зрительный зал на балкон. Оттуда его никто не замечает. Пятнадцать минут слушает пререкания актеров и режиссера. Видит, что репетиция переродилась. Вместо пользы приносит вред. Непоправимый. А через две недели премьера. По городу висят анонсы. Строят декорации… Да и пьеса, разве она уж так плоха? Нет, в ней есть прекрасные сцены… И замысел ее благороден. Нужно исправлять положение. И вот тут он и появляется в задней двери партера.
Он притворяется, что плохо знает пьесу. Неправда! Он знает ее наизусть. Но так легче. Возможно даже, он заставляет себя забыть ее для того, чтобы посмотреть на сценическую ситуацию свежими глазами. Что впереди? Л мы посмотрим еще, так ли это будет, как хочет автор. Может быть, актеры убедят автора не выдавать героиню замуж за этого типа. Посмотрим!
Так идеальный зритель, прекрасно зная, что Ромео и Джульетта умрут, обязательно умрут в финале, все же надеется. А вдруг… А вдруг сегодня Отелло не задушит Дездемону. А вдруг Катерина не бросится в Волгу. Существует легенда, что главное в Охлопкове – дар импровизации. Да, конечно, он великолепно импровизирует на репетиции, показывая актерам, как нужно играть Гамлета и Катерину, старика профессора и малую девчонку. В течение феноменально короткого времени он «разводит» сложнейшие массовые сцены, заставляя большие группы артистов изображать античный хор или демонстрацию молодогвардейцев, маевку рабочих, расстрел декабристов, праздник на советской стройке, растревоженный двор датского короля, собрания, семейные торжества, баталии. Он зажигает толпу, он лепит живые, постоянно движущиеся скульптурные группы, иногда грубо зримыми, иногда тончайшими приемами, где движения еле заметны и производят оглушительное впечатление. При этом пользуется светом и тенью, сутолокой или пустотой, разрывающим барабанные перепонки шумом или страшнейшей тишиной, вводя на сцену то, что никто до него сделать не осмелился (вращающийся земной шар, на котором происходит все действие спектакля «Сыновья трех рек», или бурная река из настоящей воды в «Лодочнице», или симфонический оркестр – «Гостиница „Астория“).
Иногда кажется, что для него не существует невозможного на сцене. Любое явление природы, стихийное бедствие, катаклизмы мира способен он воспроизвести.
Однако мало кто знает, что бурной импровизации на сцене предшествуют месяцы, а иногда годы кропотливого труда, горы прочитанных книг, сотни эскизов на бумаге, примерки, раздумья, В кабинетах его: дома на московской квартире, в театре, на даче в Переделкине – насыпи проштудированного материала.
А часы, отданные просмотрам фильмотек, а посещения музеев, галерей и запасников, архивов и библиотек…
Как это легко: Охлопков – гениальный импровизатор. Пришел, увидел, сообразил…
Мне кажется, что он немного поддерживает эту легенду о мгновенном даре импровизации. То, что давно уж созрело в голове, прошло множество вариантов и проверялось тысячи раз, – вдруг выдается за осенение. А не повесить ли посреди сцены громадный гонг, который будет оглушительно звонить, то глухо гудеть, то ворчать, то призывать, то аккомпанировать актерам. А на бронзовом диске будет отражаться зарево, слепить молния, полыхать закат.
– Давайте попробуем!
Будто только что придумал.
А диск этот снился каждую ночь до этого. На обрывках афиш нарисован, в записных книжках, на режиссерском экземпляре пьесы. Высчитан в сантиметрах.
Иногда он любит быть Гаруном аль-Рашидом. Неожиданно появляться в комнате юного, никому еще не известного драматурга в коммунальной квартире.
– Я слышал, у вас новая пьеса. Где она?
– Да… О… Николай Павлович… – Молодой драматург, который знал Охлопкова только по портретам и карикатурам, видит возле себя живого, задыхающегося от быстрого подъема На шестой этаж, без лифта, по крутой лестнице знаменитого режиссера. – Да, да, я действительно думаю… Я хотел бы…
Большая рука с длинными пальцами протягивается к груди драматурга:
– Пьесу!
И так же неожиданно, как появился, он исчезает. А через два дня драматург получает свою пьесу с огромным количеством помарок, с замечаниями на полях и над текстом. Там написано: «Дурак! Что он, свихнулся?!», «Не так, не так!…», «Безобразие!», «Эту сцепу следовало написать в шесть раз короче!», «Глупейшая ситуация!»…
Драматург весь день и всю ночь читает замечания. Он несогласен. Он оскорблен. Он огорчен, что пьеса не понравилась худруку («именуемому в дальнейшем „театр“), что никаких надежд пробиться па сцену Театра имени Маяковского.
А в семь утра звонок.
– Что же вы не приходите заключать договор?! Зазнались, батенька.
– Николай Павлович! – узнает хрипловатый голос в трубке молодой драматург. – Но ведь вам не понравилась пьеса.
– Конечно, не поправилась. Она должна быть в сто раз лучше. И будет. Приходите сегодня в театр…
А еще через какое-то время – премьера.
И так бывало. Бывало, что появлялся он в переделкинском Доме творчества у молодого прозаика, узнав, что у того в письменном столе незаконченная драма. Представлялся, несмотря на то, что его высокая, слегка сутулая фигура хорошо известна далеко за пределами писательского поселка в Переделкине.
– Ну, читайте!
Прозаик как загипнотизированный кролик смотрит на прославленного режиссера. Потом читает.
Не всегда взаимоотношения Охлопкова с драматургами кончались благополучно. Иногда расставались. Иногда расставались навсегда. Находились люди, которые сознательно ссорили Охлопкова с писателями. Хотели сами стать монополистами в его театре. Иногда наговаривали, провоцировали разрыв… Играли на свойственных большим талантам противоречиях. Стремились к изоляции Охлопкова от писателей. И все же Охлопков становился и стоял выше мелких обид… Его дружба с Погодиным, омрачавшаяся кратковременными творческими ссорами, продолжалась тридцать лет.
Драматургам с Охлопковым не легко. Нужно иметь много воли, выдержки и силы, чтобы сочетать вихревые замыслы режиссера с возможностями писателя.
– Напиши мне такую пьесу, – просил он меня, мы гуляли по Киеву после довольно неудачной премьеры в его театре моей пьесы «Вечное перо» (он посадил зрителей на сцену, а мне это решительно не нравилось, да, впрочем, и никому не нравилось), – напиши такую пьесу, чтоб она шла под орган. И пел бы хор. Нет, не один – два хора! Чтоб она была как оратория. Но это была бы и драма. Чтоб каждый голос на сцене отдавался бы на площади. И по всему городу…
Он представил мне тут же, на берегу Днепра, спектакль. Таких не было, никогда не было… Рассказал, как будет отзываться зрительный зал на каждое слово актера. Как невидимый оркестр и орган будут играть и будут петь хоры.
В нем жило две души. Одна – это режиссер многоопытный, знавший все секреты и тайны сцены. Он знал цену актерам, знал вкусы публики, мог создавать «верняки» – спектакли, которые на сто процентов нравились бы публике. Одним словом, одним жестом он умел подсказать актеру, автору, всем участникам спектакля, что нужно для полного успеха. И добивался. Создал ряд великолепных спектаклей, восторгавших зрителей. Воспитал плеяду замечательных актеров.
А вторая душа его – несытая, всегда неудовлетворенная, желающая показать то, что никогда и никем показано не было, объять необъятное.
И эта вторая его душа не знала покоя. И не знала писателя, способного помочь ему, сдвинуть к чертям сцену, бросить оркестр на небо, пропустить через зрительный зал ракету, да не одну, сотни. Открыть новый закон сценического тяготения.
Он тосковал без Гёте и Бетховена, ему не хватало Берлиоза и Данте. Только один раз он поставил Шекспира. И его «Гамлет» был шедевром. Так же как Софокл, Островский…
Он сам никогда не знал, чего хотел. Хотел объять необъятное. Ночами сидел над макетом своего будущего театра, который ему так и не удалось построить. Жалко!
Каждый ученик Мейерхольда унаследовал от своего учителя что-нибудь одно – умение лепить мизансцены, сочетать сценическое действие с музыкой, докапываться до скрытой сущности изображаемой драмы, искусство обучить актеров в совершенстве владеть своей фигурой и голосом…
Охлопков – несомненно самый одаренный ученик Мейерхольда – унаследовал страсть к грандиозному. «Наш бог – бег, сердце – наш барабан». «Улицы наши палитры». Я знаю, какого драматурга ему не хватало, -
Маяковского!
Если бы можно было играть спектакли в космосе, на космической станции… Он томился от мелких чувств и крохотного выражения их крохотных страстей…
Мы гуляли с ним по Переделкину. Дошли до железнодорожной насыпи. Я стал говорить о чем-то малозначимом.
– Подожди! – перебил он меня. – Сейчас пройдет поезд.
Минуты две мы стояли молча и смотрели на низкие над насыпью облака, на блестящую проволоку телеграфа, на воробьев, сидевших на проводах, на купол старенькой церквушки за насыпью.
И вдруг поезд. В красных товарных вагонах из Москвы на Запад ехал цирк. Специальный состав. На открытых платформах стояли будки, клетки. В них ехали, очевидно, звери. Рабочий в прозодежде шел по платформе в направлении, обратном движению поезда. Латинскими буквами было что-то написано на будках. На предпоследней платформе бегали ребята. Наверно, дети циркачей. И тут же лежали разобранные конструкции и остов, похожий на кабину самолета. Трудно было разобрать – то ли наш цирк ехал на Запад, то ли чей другой возвращался из Москвы.
И тут я посмотрел на Охлопкова. Я никогда не видел такой сосредоточенности. Никогда. Он смотрел на движение, на насыпь, на поезд, на циркачей, на вспорхнувших воробьев, на облака… С таким вниманием… Может быть, он видел свой театр, тот, который нельзя всунуть ни в одну сценическую коробку. Движение, о котором нужно попытаться рассказать. Музыку, которую никто, кроме него, сейчас не слышал. Содержание, которое было грандиозно, как жизнь.
Поезд пронесся. Охлопков, повернувшись, забыв попрощаться, быстро пошел к своей даче.


