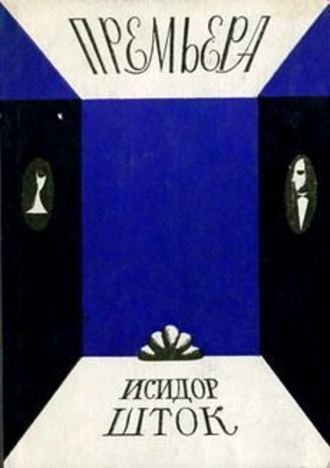
Исидор Владимирович Шток
Премьера
Однажды мы стояли с ним в кабинете директора Управления по охране авторских прав. Я был очень беден, пьесы не шли. Просил аванс под будущие пьесы. Директор отказал, кипятился и ругал меня.
Шварц повернулся и вышел, громко хлопнув дверью.
– Ты знаешь, – потом говорил он мне, – из-за этого разговора я решил как можно скорее возвратиться домой в Ленинград. Ведь он неплохой парень, этот директор. Он, наверное, добрый. Но этот стиль начальника над писателями, напускная грубость…
Он был деликатен, воспитан удивительно. Грубость, небрежность, халтуру, двоедушие ненавидел откровенно. В театр ходить не любил. Только в крайнем случае… Прекрасно рассказывал эпизоды своей театральной юности, описывая Ростов-на-Дону, а потом Ленинград двадцатых годов. Охотно делился замыслами.
Есть у меня вина перед ним. Очень она меня мучит.
Однажды взял он меня в Московский тюз, он там читал актерам два первых акта своей пьесы-сказки «Два клена».
После читки был обмен мнений. И тут я вылез с речью о том, что он очень медленно пишет, что он напрасно так много тратит времени на обсуждение еще не написанного, что, если в ближайшие дни он не напишет третье действие, это будет преступлением и ленью.
Он ничего мне не сказал. Третий акт закончил только через полтора года.
Но в дневнике своем записал: «Огорчил меня Шток». Ибольше ничего.
Об этой записи узнал я совсем недавно от сотрудницы ЦГАЛИ, разбиравшей его архив. Прости меня, Женя.
* * *
Вот он уже у себя дома, в маленькой квартирке на канале Грибоедова, окруженный, как всегда, друзьями. С любимой женой. Снова стал полнеть.
Я часто после войны приезжал в Ленинград, подолгу там жил. Был частым его гостем. Вечерами мы гуляли по городу, я ему рассказывал о цыганах (я тогда работал завлитом в «Ромэн»), об их нравах и истории. Мы с ним играли импровизированные диалоги двух философов на одесском бульваре. Много смеялись, вспоминали…
По предисловиям к изданиям Шварца у многих может создаться впечатление, что он был вроде ласковой старой няни, вяжущей чулки и рассказывающей разные поучительные истории.
Его называют «добрым сказочником», «ласковым волшебником», «фантазером»…
Ни дать ни взять бабушка в чепце с немецкого гобелена.
Нет-с, он не был таким. Ошибка! Штамп! Он был молод, задирист, бесконечно изобретателен, весел. Он был легкоподвижный и мгновенно зажигающийся лицедей. Умел видеть сущность людей и событий. Легко подмечал смешные стороны. Был мудр и был вспыльчив. Умел любить и ненавидеть. Знал, что такое страдание. Он был талантлив, боевит, романтичен. Не старая добрая бабушка и не Дед Мороз, и не волшебник с неподвижно улыбчивым ликом, в балахоне с широкими рукавами.
Если сравнивать его с персонажами его произведений, он был Рыцарь. Странствующий Рыцарь, живущий для блага людей.
Когда Ланцелот отрубил Дракону все его три головы, головы эти, издыхая, бормочут:
– …Я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души…
Шварц любит людей нежно, пламенно. Ради них он пошел на бой с Драконом, и с Бургомистром, и с его сыном. В бой за души людей.
И победа пришла.
В очень многих театрах мира идут пьесы Шварца, на экранах его фильмы, сборники его пьес стали редкостью и драгоценностью.
В моей книге «Рассказы о драматургах», изданной уже довольно давно, я мечтал о театре Евгения Шварца, о музее его имени, о сборниках воспоминаний о нем… Книга эта устарела. Шварц признан, «всесердно утвержден». Жаль, что ни он, ни его замечательная подруга, верная соратница и жена, Екатерина Ивановна, не дожили до дней триумфа Шварца.
Я был одним из последних, кто видел его и принял в подарок его пьесу «Медведь». Она называется также «Обыкновенное чудо».
Раскрываю наугад книгу его пьес. Читаю.
«Работа предстоит мелкая, – предупреждает горожан, избавившихся от Дракона и Бургомистра, рыцарь Ланцелот. – В каждом из них придется убить дракона.
Мальчик. А нам будет больно?
Ланцелот. Тебе – нет.
1-й горожанин. А нам?
Ланцелот. С вами придется повозиться.
Садовник. Но будьте терпеливы, господин Ланцелот. Умоляю вас, будьте терпеливы. Прививайте. Разводите костры – тепло помогает росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтоб не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают тщательного ухода.
1-я подруга. И пусть сегодня свадьба все-таки состоится.
2-я подруга. Потому что от радости люди тоже хорошеют.
Ланцелот. Верно! Эй, музыка!
Гремит музыка.
Эльза, дай руку. Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!»
…Так писал Евгений Шварц.
Когда мне бывает грустно, я перечитываю мудрые и веселые пьесы Шварца. И становится не так грустно.
Советую и вам это делать время от времени.
Александр Дерзнувший

Камера в Оренбургской тюрьме. Ночь. Свечей нет. На нарах сидит женщина. На руках у нее пятимесячная девочка. На колени положил голову двухлетний мальчик. Женщина, сидящая в тесной камере, – редактор газеты «Простор». Арестована за антиправительственную статью. В тюрьму заключена с двумя детьми, ибо их некуда деть… Женщина эта – Антонина Васильевна Афиногенова. Девочка умирает. Сын остался жить.
Так начиналась его жизнь…
Перед спектаклем городского Скопинского драматического театра «Бедность не порок» говорит вступительное слово о творчестве Островского и о путях пролетарского искусства высокий, тоненький, кудрявый, застенчивый молодой человек, почти мальчик. Это «постоянный оратор по чтению вступительного слова», сотрудник и член редколлегии скопинской газеты «Власть труда», рецензент и автор только что вышедшей книги стихов, комсомолец Александр Дерзнувший. Таков псевдоним поэта. Впрочем, некоторые статьи он подписывает настоящим именем – Александр Афиногенов. Ему шестнадцать лет.
Москва. Институт журналистики. Девятнадцатилетний студент читает друзьям-студентам свою комедию «Товарищ Яншин». Это уже его вторая пьеса. Первая пьеса была напечатана Пролеткультом и называлась «Роберт Тим».
Ярославль. 1924год. Только что подписан к печати очередной номер газеты «Северный рабочий». Здесь же, в Ярославле, работают Александр Фадеев, Алексей Сурков, Валерия Герасимова. Живут они все вместе в одной комнате.
Ответственный секретарь остается один в редакции. Он вынимает из стола папку, на которой написано: «Са-винковское восстание». Он работает над кинохроникой «Змеиный след» – в 38 эпизодах. Впоследствии Ярославское издательство выпустит эту книжку. Молодой писатель рассказывает о белогвардейском восстании 1919 года, возглавленном эсером Савинковым и разгромленном большевиками. За окном рассвет над Волгой.
Снова Москва. Воздвиженка, бывший морозовский особняк. Пролеткульт. На хвосте бронзового леопарда сидит девушка и рассказывает о вчерашней премьере какого-то Афиногенова – «По ту сторону щели». Был такой успех!… Главную роль ученого играл Саша Ханов. А его секретаршу, дурочку, исполняла Глизер… А потом вышел кланяться сам Афиногенов. Длинный-длинный. Похож на журавля. Вот он сейчас там, на дворе, играет в волейбол…
А через год Александр Николаевич Афиногенов – заведующий литературной частью театра, член Исполбюро Всесоюзного Пролеткульта (так пышно он тогда именовался). Затем директор и главный драматург театра. Там были поставлены его пьесы «На переломе», «Гляди в оба», «Малиновое варенье». В других театрах шли «Черный Яр», «Волчья тропа», «Днипрельстан».
Я был студийцем, а затем актером и режиссером-лаборантом в Передвижном театре Пролеткульта. Он стал моим начальником. Я играл в его пьесах и сам писал маленькие пьески, которые он редактировал.
Рассказывал ему о поездках Передвижного театра по городам и селам, о жизни нашей бродячей труппы. Он посвящал меня в дела «большой литературы».
Он жил во Всехсвятском, на Песчаной, деревянной одноэтажной улице, в домике, окруженном цветущей сиренью, и приезжал в Пролеткульт на велосипеде. К раме был прикреплен портфель, из которого торчали газеты. Он был директором театра, драматургом, журналистом… Спорил с руководством старого Пролеткульта. Но это был уже не тот Пролеткульт, об ошибках которого мы часто читаем. Пролеткульт хирел, «теории» его об отрицании культурного наследства уже были осуждены, в недрах самого Пролеткульта появилось новое поколение, которое тяготело к подлинному реализму, к Горькому, к МХАТу.
Пролеткультовцы возмущены «изменой» Афиногенова, отдавшего свою новую пьесу во МХАТ 2-й. Афиногенов пригласил их на генеральную репетицию. Скорбно пожимая руку автору после конца репетиции, стараясь в рукопожатии выразить глубокое сочувствие потерпевшему провал драматургу, пролеткультовцы утешали его:
. – Ничего, Саша, переживешь! Еще напишешь что-нибудь хорошее…
А вечером была премьера. Подобного успеха давно не видели стены старого пезлобинского театра па Театральной площади. Двадцать пять раз раздвигали занавес. Публика не хотела уходить. Актеры раскланивались, раскланивались… Азарин, Бирман, Гиацинтова, Берсенев, Чебан, Благонравов, Смышляев, Дурасова… Какой это был прекрасный спектакль! Как глубоко волновал он… Какие честные и сильные чувства будил. Это был «Чудак». Пьеса о движении энтузиастов, решивших перевыполнить программу своей фабрики. В первом году первой пятилетки еще не говорили о выполнении ее в четыре года. Пьеса «Чудак» рассказывала о явлении, тогда еще единичном, только нарождающемся.
Афиногенов выхватил идею времени прямо из гущи; жизни, не ждал разрешений и указаний: пиши про это,, а про это не пиши. Он сам брал на себя ответственность за то, о чем хотел писать.
Пресса высоко оценила «Чудака».
А еще через год в Ленинградском государственном академическом театре драмы, а затем и в Московском Художественном состоялись премьеры новой драмы Афиногенова – «Страх».
Наутро после премьеры Афиногенов в своей квартирке на Тверском бульваре, рядом с Камерным театром, сидит и разбирает почту. Письма от комсомольцев, колхозников, артистов, критиков, академиков… Корзины цветов от руководства МХАТа, от МХАТа 2-го… Рецензии во всех газетах и журналах… Александр Афиногенов знаменит, как ни один драматург в нашей стране. Триста театров ставят «Страх». Он председатель Всероскомдрама, ответственный секретарь теасекции РАПП, редактор театрального журнала, член многих редколлегий…
Афиногенову двадцать семь лет. Он высок, худощав, подвижен, неутомим… Как-то мы поехали с ним в Ленинград. Он вставал в семь утра, брился, гулял по набережным Невы, шел в Эрмитаж (по намеченной им программе нужно было осматривать по два зала за день), возвращался в «Европейскую», садился – работал до вечера, затем шел в театр, после театра встречался с друзьями или писал до двух, трех часов ночи. А в семь снова вставал, принимал ванну и отправлялся в свой ежедневный поход.
У него было много друзей в Ленинграде – актеров, литераторов, товарищей по Институту журналистики. Он любил людей, не мог жить без них, постоянно расширял круг своих знакомств. Очень любил выступать. Оратор он был хороший, темпераментный. Тогда же в Ленинграде близко познакомился с А. В. Луначарским, которому очень поправился. Анатолий Васильевич несколько вечеров провел с Афиногеновым, расспрашивал о театре, о молодых драматургах, рассказывал о своих литературных планах.
Луначарский расспрашивал у Афиногенова о руководимом им семинаре молодых драматургов. Афиногенов рассказывал, как мы писали коллективную пьесу «Двор». Сперва создавали эскизы. Каждый участник семинара должен был принести разработанную подробную характеристику одного из жильцов современного московского большого дома. Сообща мы решали – остаться ему жить в этом доме или нет. Когда интересных жильцов набралось более двух десятков, мы «выселили» неинтересных, сократили похожих друг на друга, стали разрабатывать истории взаимоотношений жильцов. А как бы они отнеслись к такому событию? А как к такому? Постепенно в пьесе осталось только десять действующих лиц. Выкристаллизовалась и тема – новые формы отношений в быту советских людей. Как горе одной семьи становится горем соседей и в той или иной степени задевает всех людей, живущих в доме. И как радость одного согревает других. Старались сделать пьесу не умозрительной, не выстраивать ее по схеме одной идеи, как «Страх» или «Ложь». Стремились насытить ее бытом, придумали пропасть всяких «предыстории» жильцов. На каждом занятии находили все новые и новые ситуации. Соавторов было восемь. С Афиногеновым – девять. Больше всех работой был увлечен, пожалуй, сам Александр Николаевич. Помню, мы как-то с ним вдвоем просидели у него дома два дня, переписывали этюды первого акта, переделывали, сокращали, дописывали, а потом так увлеклись, что вдвоем стали сочинять второй акт.
– Давай напишем всю пьесу, а им не расскажем. Пусть они тоже напишут, а потом мы им прочтем. И лучший из двух вариантов оставим, – предложил он. Но потом раздумал. Так пьеса и осталась недописанной.
Планы новых пьес, активное участие в работе Союза писателей, редактирование журнала и несогласия членов семинара между собой оттеснили нашу коллективную пьесу. Семинар распался. Но каждому из нас, тогда еще молодых драматургов, он дал довольно много.
Афиногенов учил профессиональному, честному отношению к драматургии. Терпеть не мог литературных сплетен, болтовни о драматургах, о закулисной жизни литераторов. Такие разговоры он всегда резко прерывал. Александр Николаевич иронически относился к самоучителям драматургии и, хотя собирал книги по теории драмы – Гессена, Польти, Волькенштейна и других, – никому из нас не советовал читать их более одного раза. На всех занятиях семинара он подчеркивал невозможность существования рецептов для построения пьесы, с презрением отзывался о драмоделах-ремесленниках. Он учил не полагаться на вдохновение и не ждать его, а трудиться и трудом вызывать вдохновение. Для этого у него была разработана целая система предварительных занятий над пьесой: папки с «личными делами» действующих лиц, карты взаимоотношений, похожие на карты шахматного турнира, чертежи-схемы действия пьесы.
– Вот по этим чертежам ты, оказывается, пишешь свои пьесы? – с восхищением спросил я.
– Конечно, нет, – сказал Афиногенов. – Ни по каким чертежам нельзя написать никакой пьесы. Это как бы утренняя зарядка, «творческий туалет», как говорил Станиславский, для того чтобы собраться, сосредоточиться, заставить себя думать о работе. Л потом все эти доски, чертежи и папки нужно сунуть в нижний ящик стола и больше в них не заглядывать. Главное – дать жизнь героям, пустить их по комнатам, по улицам. Тут только следи за ними, не мешая им, прислушивайся. Если они ломают тебе план пьесы – тем лучше. Значит, они живут, и им неудобно действовать в рамках придуманного тобою плана. Вообще план пьесы плох, когда он не меняется. Действующие лица неминуемо перерастают первоначальную схему. Профессор Бородин в «Страхе» был сперва задуман как законченный, закоренелый враг советской власти, ни о каком перерождении его и речи не было, это был злодей. А другой профессор, тот был передовой и тот победил Бородина. И вдруг выяснилось, что другой профессор не нужен, что этим другим становится сам Бородин. Ведь недаром же в его жизни произошли такие значительные события и не из глины же он сделан! Такой же путь пережил и Борис Волгин из «Чудака», и директор Дробный, и профессор Окаемов из «Машеньки», да и сама Машенька. Ведь вначале-то она была задумана только как фигура страдательная, как жертва неправильного воспитания.
Когда один из учеников Афиногенова написал неудачную пьесу и пришел к нему с петицией: я, мол, писал ее по всем правилам, заполнял «личные дела», рисовал схемы отношений, завел четыре ящика с «предысториями» действующих лиц, а у меня ничего по получилось! – Афиногенов рассмеялся.
– Да ведь эти же приспособления и существуют для того, чтоб по ним не писать. Они нужны для того, чтобы оних забыть, когда начинаешь писать. Все ненужное, лишнее забудется, а все живое останется. Пьесу нужно писать именно тогда, когда се пишешь… Химия тут не поможет. Вы знаете, сколько предметов упоминается на первых трех страницах «Вишневого сада»? Не знаете? А я знаю, подсчитывал. Двадцать семь! Тут и свеча у Дуняши, и книга у Лопахина, и букет, и скрипучие сапоги Епиходова, и рукомойник, и ливрея, и высокая шляпа Фирса, и узел, и зонтик, и орехи, которые ест собака Шарлотты, и шпильки Ани, и снег на вишневых деревьях… Попробуйте обойдитесь без всего этого. Будет у вас ощущение усадьбы, неповторимая атмосфера «Вишневого сада»? Значит, Чехов в тот момент, когда писал, видел дом, и комнаты, и всех действующих лиц и слышал музыку вишневого сада. А вы говорите «схемы» и «личные дела»! Жизнь нужна! Тогда каждый предмет живет. Вот как в «Егоре Булычове». Алексей Максимович упрекает меня в схематичности, в умозрительности моих пьес. Правильно упрекает! Нужно брать жизнь не для иллюстрации одной какой-либо идеи, не противопоставлять идею идее, а писать так, чтоб зритель сам находил идею в пьесе; не преподносить идею в препарированном виде на подносе.
– Постарайся, – всегда говорил он, – обязательно понять, почему у тебя не выходит сцена, образ, реплика. Перебери сто вариантов, а если не получается – еще сто. Пока не получится. Дойди до последней реплики, а если написанное тебя не удовлетворит, – начни сначала. Не расстраивайся, когда тебя ругают, постарайся понять, почему тебя ругают. Никогда не находи простых объяснений, вроде того, что критик почему-то тебя не любит. Постарайся понять, почему он тебя не любит. Никогда не переноси отношений с критикующими твое творчество людьми в область личных отношений. Как это глупо – перестать кланяться и подавать руку человеку, которому не понравилась твоя пьеса!
Афиногенов отдал дань так называемой «групповщине» в литературе, был одним из руководителей РАПП. С середины тридцатых годов, достигнув зрелости, возненавидел окололитературную возню и связанные с ней интриги, деление писателей на враждующие между собой, отнюдь не по принципиальным мотивам, группы. Он дал клятву не позволять вовлекать себя ни в какие литературные группировки, не воздавать хвалу тому, к чему не лежит душа, и не хулить то, что нравится, оправдываясь при этом велениями «высокой политики».
Он много размышлял о природе драмы, писал книгу, потом бросил.
– Мне как теоретику что-то не везет, – смеясь, говорил он. Он любил практику драматургии, самый процесс творчества. Его кабинет в Москве, а потом в Переделкине, где он работал последние годы, напоминал лабораторию ученого. Александр построил огромный стол с большими ящиками и конторку, за которой писал стоя. На отдельном столике лежали папки с газетными вырезками, справки, выписки из книг самого разнообразного содержания.
Более десяти раз смотрел он в Театре имени Евг. Вахтангова «Егора Булычова» и каждый раз находил в этой пьесе все новые и новые достоинства.
Алексей Максимович любил Афиногенова. Весной 1935 года мы, группа московских драматургов, были у Горького на даче. Как он любовно, отечески смотрел на Афиногенова! Слегка наклонив голову, Горький, который был одного роста с Александром Николаевичем, внимательно слушал его и иногда, кивнув на одного из нас, спрашивал тихонько: «А это кто? А что он написал?…»
К сожалению, в решающий период жизни Афиногенова, когда ему больше всего нужен был добрый совет, участие, помощь, Горького уже не было на свете.
После «Страха» Афиногенов написал «Ложь», или, как ее назвал позднее, «Семью Ивановых». Пьесу приняли к постановке многие театры. Харьковский русский драматический, руководимый Николаем Васильевичем Петровым, один раз сыграл ее.
В новой пьесе драматург гневно восстал против лжи, против того, что впоследствии будет названо «показухой» и «приписками». Никакая высокая и благородная цель не может быть достигнута, если для ее достижения пользуются страхом и ложью.
В начале тридцатых годов был очень популярен герой новой драмы Н. Погодина «Мой друг» – начальник большого строительства Григорий Гай. Гаю иногда приходится идти на компромисс с собственной совестью, прибегать и к обману ради пользы дела.
Как полемика с «Моим другом» была задумана «Семья Ивановых». Нет, не должно между советскими людьми быть ни маленькой, ни крошечной неправды. Всегда маленькая ложь тянет за собой большую. И герой «Лжи» – начальник крупной стройки – докатывается до жалкой роли обманщика. Он предал друга. Любимую женщину. Предал семью. И предал партию.
Тяжелый период наступил для драматурга. Старые его пьесы уже исчезли с афиш театров, новые не шли.
Он засел за историческую драму «Москва, Кремль», сделал несколько вариантов, да так и не довел до конца.
Шел тысяча девятьсот тридцать седьмой год, но ложному, клеветническому заявлению врагов партии он был исключен из Союза писателей и из партии. Очень скоро, меньше чем через год, он был восстановлен и в Союзе писателей и в партии.
Но пока…
***
Переделкино. Зимняя дача. Кругом снежные сугробы. Он подходит к письменному столу, зажигает настольную лампу, заставляет себя работать. Пишет дневник. Не может быть, чтоб не разобрались в моем деле! Не может быть, чтоб не поняли, что произошло со мной! Я верю, что очень скоро настанет день, когда выяснится, кто были эти люди, исключившие меня из партии, и почему они это сделали, и ради чего они это делали. Я верю в величайшую мудрость и величайшую справедливость моей партии. Да, да, моей, несмотря на то что сегодня я исключен. Я верю в торжество справедливости, и в быстрое ее торжество! Величайшее счастье – верить!
«Величайшее счастье жизни – чувствовать себя сыном родины социализма!» – записывает он в своем дневнике.
Афиногенов задумал большую историческую хронику. Действие происходит в 1918 году. Герои: Владимир Ильич, военный курсант, молодой рабочий Алеша Рязанцев, его мать, уборщица на заводе Михельсона, комиссар Таня, доктор Сошальский, старый интеллигент, пришедший в революцию, солдаты, рабочие… Пьеса рассказывает о покушении на Ленина, о глубокой, самоотверженной любви людей к Ленину, о кровной связи вождя и народа.
Пьеса была вчерне написана. Но драматург не был удовлетворен своей работой. Он откладывал и снова возвращался к ней. В бумагах его есть записи о доработке пьесы, планы доработки… Война, а затем гибель писателя помешали завершению этой эпопеи.
В 1956 году но просьбе Центрального театра Советской Армии я завершил пьесу. Некоторые роли развил, как было намечено Афиногеновым. Спектакль был показан в день открытия XX съезда партии. Это была последняя режиссерская работа Алексея Дмитриевича Попова…
Одновременно с драмой «Москва. Кремль» он пишет сатирическую комедию «Отель „Люкс“ – о поджигателях второй мировой войны. Пишет драмы „Мать своих детей“, „Вторые пути“ – продолжение „Далекого“, собирает материал для большого романа.
Интересна судьба пьесы «Мать своих детей». Афиногенов написал глазную роль для Корчагиной-Александровской. Но тогдашние руководители Ленинградского театра драмы имени Пушкина отказались от пьесы. Не приняли ее и московские театры. Пьеса была издана крошечным тиражом и поставлена каким-то периферийным театром, а затем забыта. А через пятнадцать лет, в 1954 году, «Мать своих детей» поставил Центральный театр транспорта, затем и другие театры. Нет города, в котором не прошла бы эта пьеса. Часто ее показывают по телевидению. Самое замечательное, что пьеса воспринимается как сугубо современная, проблематика ее актуальна во всем и сегодня. Так драматург смог не только воспеть время, в которое жил, но и заглянуть в завтра.
В образе матери во многом угадываются черты матери Афиногенова – Антонины Васильевны. И хотя Екатерина Ивановна Лагутина – простая женщина, крестьянка, бывшая прачка, а Антонина Васильевна интеллигентка, учительница, – характер матери, мудрое, справедливое отношение к жизни, к сыну, правдивость и непосредственность – все это списано драматургом с натуры. Не в первый раз Афиногенов обращается к образу матери. Клара в «Страхе», мать в «Салют, Испания!» – вот героини, прообразом которых была опять-таки Антонина Васильевна…
…На Новодевичьем кладбище рядом с могилой Афиногенова – могила его жены. На цоколе написано: «Евгения Бернардовна Афиногенова. 1905 – 1948».
Его жену звали Дженни. Она была американка, американская коммунистка. Приехала в СССР в начале тридцатых годов с одной из актерских бригад. Встретилась с Александром Николаевичем, да так в Москве и осталась. Бросила сцепу (она была танцовщицей), изучила русский язык, стала верной подругой и помощницей мужа. У Дженни был деятельный характер, она была очень принципиальна в отношениях с людьми, обладала прекрасным литературным вкусом. Александр Николаевич всегда советовался с женой, читал ей первой свои пьесы. Весь «переделкинский» период жизни Афиногенова был организован ее стараниями. Она бережно охраняла режим труда Александра Николаевича, старалась сделать его пребывание в Переделкине уютным. Дружеская атмосфера, царившая на даче, во многом поддерживалась благодаря такту и спокойствию Дженни.
Евгения Бернардовна ненамного пережила своего мужа. В 1948 году она, возвращаясь в Советский Союз из Америки, куда ездила с двумя маленькими дочерьми навестить родителей, трагически погибла от взрыва на теплоходе. В носовой части теплохода, в каюте, расположенной над кинобудкой, там, где хранились фильмы, раздался взрыв. Несколько человек, в их числе и Дженни, были убиты. Девочки играли в мяч на другом конце теплохода, они остались живы. Их вырастила бабушка – Антонина Васильевна, героическая и прекрасная женщина, которая прожила девяносто пять лет…
У Афиногенова четыре внука – две девочки и два мальчика, старший из которых уже студент. Это от старшей дочери – Светланы, дочери от первого брака. И от младшей – Сашеньки.
Но вернемся к нашему рассказу.
Правда восторжествовала, и очень быстро. Афиногенов получил две комнаты на Гоголевском бульваре. Был восстановлен в Союзе писателей. Поехал путешествовать по Закарпатью. Очутился в Западной Украине. Жил в Белостоке и во Львове. Затем поехал в Среднюю Азию. Вместе с композитором Климентием Корчмаревым задумал оперу. Написал либретто. Опера называлась «Клятва девушки»… Затем, через год, когда началась война, вспомнил о девушке-туркменке и сделал ее героиней своей последней драмы – «Накануне». В том же 1940-м написал киносценарий «Генерал артиллерии», который так и не стал фильмом.
Писал дома, писал в пути, писал на даче… Почти забросил свои дневники. Будто предчувствовал, как герой «Далекого» Малько, что жить ему осталось немного, меньше полутора лет… Потом бросил все оперы, сценарии, путешествия. Нужно возвращаться к театральной драматургии.
И вот он снова в Переделкине, за своей конторкой, стоит и пишет. Это будет пьеса о юности, о весне. Он так и называет пьесу – «Апрель». Потом переменил заглавие и назвал по имени маленькой героини – «Машенька». Эту пьесу мы можем посмотреть и сегодня на многих сценах наших театров.
С огромным успехом «Машенька» прошла в Театре Моссовета в постановке Ю. Завадского с В. Марецкой и Е. Любимовым-Ланским в главных ролях.
Одновременно была поставлена Н. Петровым в Театре транспорта. Там шла она около двадцати лет…
Старый профессор Окаемов, окруженный школьниками, рассказывает им о своей жизни. Он рассказывает о том, как увидел первую электрическую лампочку и первый автомобиль.
«А когда в первый раз я надел наушники и услышал голос из эфира, я возблагодарил судьбу, что дожил до такого дня… Вот сколько вещей появилось в течение одной моей жизни. Сколько же дано увидеть вам, чья жизнь едва начинается!…
Вы увидите, как кусочек угля с мой кулак будет отапливать громадный дом… Вы увидите, как жизнь человеческая будет продлена на много лет… Вы услышите, как прозвучит на земле последний выстрел и люди забудут, что такое война. Вы будете жить в новом мире, без войн».
Война. В Московском клубе писателей идет собрание, посвященное работе писателей в периодической печати. Нужны очерки, рассказы, статьи для газет Советского Союза и для зарубежной печати. Весь прогрессивный мир, потрясенный страшной войной, интересуется жизнью наших людей на фронте и в тылу, в городах и селах. Сообщение об участии писателей Москвы в этой работе делает заведующий одним из отделов Совинформбюро Александр Николаевич Афиногенов.
В первые дни войны им написана пьеса «Накануне». В цирке готовится военная пантомима по сценарию Афиногенова. В «Правде», в «Известиях» – его статьи. Он -пишет, редактирует, ездит, выступает… Он воюет.
Афиногенов был воин. Но я никогда не видел его в военной форме, которой так любили щеголять некоторые писатели в довоенное время. Впервые увидел его в армейской шинели, в сапогах, в офицерской фуражке, с новенькими скрипящими ремнем и портупеей через плечо на рассвете 29 октября 1941 года на вокзале города Куйбышева. Он шел к коменданту и очень торопился. Его вызвал в Москву А. С. Щербаков. Из Москвы он должен был срочно вылететь в Англию и в Америку по заданию газет и Совинформбюро…
Он был очень возбужден предстоящим полетом.
– Прости, я очень тороплюсь… Впереди еще столько всего…
Без четверти семь вечера того же дня Афиногенов был убит фашистской бомбой, попавшей на Старой площади в крыло корпуса Центрального Комитета партии.
Ему было тридцать семь лет. Он был в расцвете своего таланта. Он написал двадцать шесть пьес. Последняя его пьеса называлась «Накануне». Когда у него был успех, он всегда говорил: «Да, да, мне очень повезло с этой пьесой. Но это еще не „та“. „Ту“ я скоро напишу. Чувствую, что напишу».
Он прожил мало, но знал и большой успех и большое горе. Иногда заблуждался. Знал радость настоящего творчества, не связанного ни с мелкой конъюнктурой, ни с посторонними соображениями. Он был мало знаком с Маяковским, но одновременно с ним работал над пьесой об энтузиасте двадцать девятого года. «Баня» писалась одновременно с первой значительной пьесой Афиногенова. Фамилия героя пьесы Маяковского Чудаков. Пьеса Афиногенова называется «Чудак». Одна в комедийно-сатирическом, другая в драматическом жанре, но обе говорят о борьбе с бюрократами, о творческой, непоколебимой мысли молодых энтузиастов. «Чудаки украшают жизнь», сказал Горький.
Афиногенов жил и творил, окруженный большими художниками, мастерами советской культуры. Этим в значительной степени объясняются его удачи. Он был связан с Горьким и Станиславским, встречался и переписывался с Немировичем-Данченко. Он начинал одновременно с Фадеевым, Либединским, Сурковым… Дружил с Пастернаком и Всеволодом Ивановым. Горячо спорил, но был всегда в одной шеренге с Всеволодом Вишневским, Треневым, Ромашовым, Погодиным, Файко, Лавреневым. Он много работал и до конца жизни сохранил дружбу с Петровым, Берсеневым, Гиацинтовой, Бирман, Скопиной. В его пьесах блистали всеми гранями таланта Певцов, Леонидов, Корчагина-Александровская, Щукин, Ливанов, Борисов, Добронравов…


