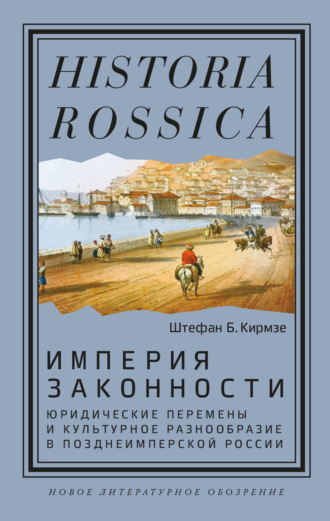
Штефан Кирмзе
Империя законности. Юридические перемены и культурное разнообразие в позднеимперской России
Хотя правовая унификация в Российской империи так и не была завершена, после 1860‐х годов она существенно продвинулась вперед. Сохранение правового плюрализма можно объяснить тем, что империя оставалась в затруднительном положении: ей так и не удалось примирить необходимость модернизации и учет позиции меньшинств, необходимость повышения административной эффективности и усиление единства, а также необходимость поощрения иерархий, различий и господство над ее бесправным населением. Именно поэтому в данном исследовании во многом прослеживаются подобные противоречия. В то же время увлечение культурными различиями в Российской империи как среди мыслителей и политиков того времени, так и среди современных исследователей, возможно, также способствовало тому, что больше внимания уделялось правовому разнообразию. В то время как различия были ключевым элементом в управлении империей, равенство и унификация становились все более выраженными в правовой сфере, в которой доминировало государство, и в расширяющихся правовых институтах.
Противоречия между стремлением к большему единообразию, признанием (и даже поощрением) различий и сохраняющейся дискриминацией были довольно очевидными на промежуточных территориях, таких как Крым и Казань. Однако, прежде чем исследовать появление новых судов в этих регионах и последствия этого для имперского управления, мы подробнее остановимся на Волжской губернии и юге Крымского полуострова во времена Великих реформ.
Глава II
C ОКРАИНЫ – В ЦЕНТР: КРЫМ И КАЗАНЬ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
В этой главе рассматриваются два региона, занимающие центральное место в данной книге, а также обсуждаются географический, политический, экономический и культурный аспекты исследования. В то время как основное внимание уделяется эпохе Великих реформ, этот период представлен в контексте долгосрочных тенденций и изменений в Крыму и Казани на протяжении всего XIX века. В данной главе проводятся временное и пространственное сравнения и подчеркиваются не только различия между двумя регионами, но и их общие черты.
Во-первых, интересно рассмотреть изменчивость и неоднородность образа Крыма и Казани в имперском воображении. Несмотря на то что оба региона считались отличными как от периферии империи, так и от ее центральных районов, в дискуссиях и на практике они все больше воспринимались как часть имперского центра. Во-вторых, речь пойдет о демографическом составе обоих регионов, изменении их институционального устройства (в правовой, административной и религиозной сферах) и формы управления ими. Наконец, обсуждаются социально-экономические условия в Казани и Крыму, при этом пристальное внимание уделяется последствиям миграционных процессов. Во всех этих вопросах на первый план выходит положение татар-мусульман, которые составляли наиболее многочисленную группу внутренних «других» империи – как в Крыму, так и в Казани.
Кроме того, в данной главе сравнивается правовое, религиозное и социально-экономическое положение волжских и крымских татар, что позволяет обсудить более общий вопрос о социокультурном разнообразии промежуточных территорий. Наконец, межрегиональный и протяженный во времени анализ показывает, что, хотя эпоха реформ в некоторых отношениях и была новаторской, многие связанные с ней институты и политические меры, а также формы институционального взаимодействия не были беспрецедентными и, несмотря на значительные особенности Крыма и Казани, у этих двух регионов было много общего.
НАКАНУНЕ РЕФОРМ: МЕНЯЮЩИЕСЯ ОБРАЗЫ И СУДЬБЫ
После своего завоевания в XVI веке Казань быстро заняла ключевую позицию в растущей империи. В вопросах этноконфессиональной политики и отношений между центром и периферией Казань служила образцом управления в пограничных регионах на протяжении столетий278. К середине XIX века город по-прежнему отличался от остальной империи и сохранял свойственную ему лиминальность. По словам Джераси, он был «микрокосмом российской гибридной идентичности» – одновременно «окном на Восток» и самим Востоком279. Несмотря на включение Казани в систему гражданского управления империи, консерваторы продолжали считать ее «одной из самых трудных для управления по разнородности ее смешанного населения, по мусульманскому фанатизму, по бывшей там неурядице и запущенности»280. Хотя Казань была и культурным центром, она все еще считалась взятой в кольцо «темных масс населения бывшего Казанского царства»281. В своем отчете о ревизии деятельности государственных учреждений в Казани, Уфе и Оренбурге в 1881 году сенатор Михаил Ковалевский отмечал: «Губернии, ревизия которых была возложена на меня, значительно уклоня<ются> по своим этнографическим условиям от общего типа губерний Великороссийских <…> Мною <…> были приложены все старания, чтобы при обсуждении общих вопросов отделять явления нормальные от тех, которые порождаются местными условиями»282. Как и соседние губернии, Казань эпохи реформ была отнюдь не «нормальной».
Сергей Викторович Дьяченко изучал право в Харьковском университете, затем полтора года служил в Санкт-Петербургском окружном суде, после чего летом 1870 года ему предложили присоединиться к группе юристов для поездки в Поволжье. В задачу группы под руководством сенатора князя Михаила Шаховского входили анализ работы существующих судебных учреждений в Казани и ее окрестностях и подготовка к введению новых судов. Двадцатичетырехлетний Дьяченко так вспоминает о своем прибытии в город:
8 августа рано утром мой пароход тихо причалил к казанской пристани; издали виднелась Казань, живописно раскинувшаяся над луговой стороной Волги. Жаркое летнее солнце играло яркими лучами на церквах, белых домах и на Сумбекиной башне. Я был молод, на сердце было жутко при виде большого города для меня совершенно чуждого, где не было ни души знакомой. <…> Привыкнув к вечной суете на улицах столицы, я был поражен, въехав в Казань, подавляющей уличной пустотой, которая царствовала здесь местами. <…> Напрасно искал я развлечений, людей – их не было: город вечно дремал непробудным татарским сном…283
Молодой юрист описал многие ключевые особенности Казани того времени: природную красоту города, культурное и архитектурное великолепие и богатство, внушительные размеры. Однако впечатления Дьяченко не были исключительно положительными. Человеку, прожившему предыдущий год в Санкт-Петербурге, Казань казалась серой и провинциальной и навевала сонливость. Это Дьяченко, по крайней мере частично, объяснял татарским влиянием.
Если на таких людей, как Дьяченко, Казань производила впечатление экзотического татарского города, то жителями более восточных или южных регионов Казань воспринималась как исключительно русский город. Этот контраст подчеркнул журналист Константин Аскоченский, который переехал из Казани в Астрахань в конце 1860‐х годов:
Приезжая в Казань из внутренних губерний, вы не можете обойти вниманием восточной ее типичности; приезжая в Казань из Астрахани, вы почувствуете себя в русском городе, и восточный тип Казани почти не бросится вам в глаза после пестроты астраханской азиатчины284.
Иными словами, наличие или отсутствие восточных черт зависело от самого смотрящего. Но и представления о провинциальности тоже. Один казанский журналист заметил в 1871 году:
Господин, недовольный провинцией, побывавший в Петербурге <…> приехавши в Казань, проклинает ее несчастную, что в ней нет газового освещения, нет гранитных тротуаров, что балерины танцуют хуже Грантцевой…285
Уделяя особое внимание театру, журналист отметил, что провинциальному городу не под силу угнаться за уровнем изысканности, достигнутым в столицах империи. С легкой иронией он добавил, что на сцене казанского театра можно услышать французские слова, произнесенные с нижегородским акцентом. В то же время он настаивал на том, что «наш театр может уступить только столичным», подтверждая тем самым давнее притязание Казани на звание третьего города империи.
Русский писатель Петр Боборыкин, который учился в Казани в 1853–1855 годах, позже сравнил волжский город с Москвой и родным Нижним Новгородом, заключив: «Большой губернский город показался мне таким же как Нижний, побойчее, пообширнее и все-таки провинцией»286. Аскоченский, напротив, говорил о Казани как о большом мегаполисе, где живут уважаемые люди, и сравнивал его со своим новым домом – Астраханью:
У вас университетская корпорация <…> благодаря симпатиям казанцев к ученым интересам; у вас купеческий клуб, где танцуют искренне, с истинным увлечением; у вас вечера, где не прикасаются – или по крайней мере в мое время не прикасались – жидове самаритяне, где веселятся с такой приличной сдержанностью, точно совершают религиозный обряд; у вас театр на самом видном месте…287
Казань в данном случае не только город, в котором устраивались развлекательные и светские мероприятия, но и территория устоявшихся имперских иерархий. Дореформенное казанское общество гордилось не только своими частными балами и музыкальными вечерами, но и своей элитарностью. Самые знатные и богатые семьи города не поддерживали отношения ни с кем за пределами своего узкого социального круга, отказываясь принимать на светских мероприятиях даже высших имперских чиновников и полностью игнорируя университетскую публику288. Однако в более отдаленной Астрахани подобные иерархии так строго не соблюдались. Аскоченский жаловался: «У нас тоже есть клуб, только, увы, без общественного раскола: и сливки, и подонки общества все вместе»289.
То, что казанское общество было более дифференцированным, во многом связано с давней ролью города как административного и торгового центра восточной части империи. Образование также имело решающее значение. Учреждение Императорского Казанского университета в 1804 году (всего лишь четвертого по счету после Московского, Дерптского/Тартуского в Эстонии и Виленского) еще больше укрепило положение города и способствовало притоку дворян и талантливых молодых людей со всей России. Великолепие зданий, построенных в стиле русского классицизма, не могло не производить впечатления на тех, кто впервые попадал в Казань. Журналист и юрист Константин Лаврский, приехавший в Казань в 1860 году из небольшого городка Нижегородской губернии, так вспоминал свои первые ощущения от Казанского университета:
Здание университета в глазах новичка-студента долго казалось каким-то священным храмом, внушающим невольное желание снять шапку и с благоговением прислушиваться к торжественному гулу шагов, разносимому эхом по темным коридорам. Университетский двор, со своей оригинальной обстановкой – ротондой анатомического театра, башней обсерватории, флюгерами над физическим кабинетом, с памятником Державину и величественной лестницей, ведущей со двора в главное здание – представлялся чем-то вроде древней площади в Афинах…290
Прокладывая путь для систематической подготовки будущих административных, юридических и преподавательских кадров, университет создал благоприятные условия для быстрого внедрения реформированной судебной системы в Казани. С 1845 по 1855 год в городе преподавали такие юристы, как Дмитрий Иванович Мейер и Семен Викентьевич Пахман, вдохновившие целые поколения юристов в области гражданского права291. В то время как большинство их студентов по окончании университета, как правило, поступали на службу и становились частью имперской бюрократии, Мейер часто побуждал своих студентов строить юридическую карьеру, и многие последовали его совету292. «Могу сказать вам наверное, – писал профессор одному из них в конце 1840‐х годов, – что в канцелярии… вы не закрепите своего юридического образования и что во всех цивилизованных странах мира судебное поприще составляет цель правоведа-практика»293.
Однако вплоть до 1860‐х годов сфера практического права находилась в неудовлетворительном состоянии и была в недостаточной степени развита. Хотя Императорское училище правоведения и давало профессиональную подготовку молодым дворянам, которые затем работали в министерствах и других административных учреждениях, такое образование не развивало абстрактное юридическое мышление и не поощряло теоретические дискуссии. Университетские юридические факультеты были не многим лучше: в дореформенный период студенты просто заучивали указы и своды законов, и лишь немногие профессора затрагивали вопросы теории и практического применения права294. Мейер так писал своему другу о новом, другом виде права, который необходимо ввести в университетах:
Я же хочу науки и практических ее последствий <…> Моя наука жадно изучает жизнь и для этого прислушивается и к сходке крестьян, вчитывается в конторские книги помещика, перебирает переписку купцов, шныряет по толкучему рынку, якшается с артелью рабочих, взбирается на судно к бурлакам, усаживается, как дома, не только в кабинете с книгами, портфелями и разными petit riens, но и в конторе бородача или усача-маклера, в архиве суда и в самом суде, стараясь не замечать, что здесь смотрят на нее не совсем благосклонно295.
Впоследствии учебники Мейера стали стандартом для российских университетов, но ранняя смерть в 1856 году не позволила ему лично наблюдать за становлением новой юридической науки.
Тем не менее в 1850‐х годах до начала преобразования оставалось уже совсем недолго. За десять лет Казанский университет внес значительный вклад в возникновение и развитие общественных дискуссий. При Николае I российские университеты были относительно закрытыми учреждениями, подозрительно относившимися к искусству, гуманитарным наукам и всему иностранному, и в то же время строго следившими за соблюдением военной дисциплины296. Курсы, как правило, были скорее общими и не предполагали специализации, ношение формы было обязательным, а к студентам относились скорее как к школьникам, а не ученым297. Университетская реформа 1863 года предоставила университетам значительную автономию и упразднила ограничения на количество абитуриентов и набор преподаваемых предметов, превратив университеты в современные, активно развивающиеся образовательные учреждения298. Открытые дискуссии и официальные дебаты стали обычным явлением. Администрация Казанского университета даже предоставила студентам собственные суды, в которых избираемые из числа студентов судьи рассматривали мелкие споры и правонарушения299. Численность и социальный состав студенческого корпуса также претерпели значительные изменения. Если в 1865–1866 годах в Казанском университете обучалось чуть более 300 человек, то в 1880 году их число достигло 733300.
Сразу же после судебной реформы почти половина студентов первого курса Казанского университета выбрали изучение права, во многом потому, что новые судебные учреждения открывали широкие возможности для дальнейшей профессиональной деятельности301. Лаврский, поступивший на юридический факультет в начале 1860‐х годов, отмечал в своих воспоминаниях, что слухи о скором введении судов присяжных и независимой адвокатуры делали профессию юриста привлекательной302. Он настаивал на том, что именно общественная значимость юридической профессии и атмосфера благородства, окружавшая ее, объясняли быстро растущую привлекательность карьеры юриста303. Другие ученые также подчеркивали, что студенты и исследователи в российских университетах 1860‐х годов отличались особым энтузиазмом304. При этом образование также предоставляло возможности для социальной мобильности. Доля дворян среди студентов Казанского университета снизилась с 30% в начале 1860‐х годов до 10–15% к началу следующего десятилетия. На протяжении 1870‐х годов основную массу студентов составляли сыновья ремесленников, мещан и представителей духовенства305.
Университетские дворы, коридоры и открытые лекции стали площадками для обмена мнениями о новых судах и реформах в целом. Это было особенно важно, поскольку цензура по-прежнему препятствовала обсуждению либеральных идей в прессе, и лишь немногие из казанских профессоров-либералов – даже из тех, кто имел на это разрешение, – пытались публиковать свои политические идеи306. Открытие в 1860 году большой студенческой «курительной», где студенты вскоре стали собираться и днем и ночью, чтобы читать газеты, курить, сплетничать и дебатировать, способствовало активному обмену идеями и быстро превратилось в «любимое местопребывание всего студенчества»307. За пределами университета эту функцию выполняли салоны, клубы и другие подобные места, где представители образованного общества могли свободно общаться и обмениваться мнениями. Все эти заведения составляли часть зарождающейся общественной сферы, которая, в определенной степени, также способствовала смешению различных социальных групп. Университеты с растущим разнообразием их студенческого состава породили новую социальную прослойку молодых профессионалов. Досуговые учреждения, такие как театр, также этому способствовали. Уже в 1850‐х годах Боборыкин отмечал, что недавно открывшийся в Казани театр собирал самых разных людей, включая студентов, дворян и средний класс, в который входили и татарские купцы308. Тем не менее преобразования в имперском обществе были еще далеко от завершения:
Из небольшого числа мест, где находится наше общество, и притом вместе, не подразделяясь на касты, как это, к несчастью, видим доселе на наших общественных балах, – есть театр. Здесь, под одной крышей, нередко даже рядом, вы встречаете таких лиц, присутствие которых вместе нигде из мест общественных удовольствий даже немыслимо309.
К 1880 году даже в таких небольших городах, как Чистополь, появились театры, где актеры-любители (обычно военные) устраивали любительские представления. И хотя такие постановки были далеко не блестящими, люди охотно их посещали310.
Однако устоявшиеся иерархии и институционализированные различия было трудно разрушить. В Казани подобные социальные разграничения в значительной степени определяли положение татарского населения. Аскоченский объяснял:
У ваших татар вон какие громадища-дома в татарской слободе, а у нас ни один, кажется, татарин не имеет каменного дома. Ясно, что тут разница в карманах. У вас татарин летит на таком огнелошади, что иди ты по Воскресенской после самых жарких начальнических распеканий, а все-таки не удержишься, чтобы не проводить глазами господина в бобровой шапке и в лисьей шубе; у нас татары – народ весь пеший <…> Есть у вас и миллионеры из татар и даже с филантропическими заведениями на свой счет для однородцев <…> У вас на Воскресенской татарский магазин с двухаршинными цельными стеклами и четырьмя или пятью комми; у нас в целом городе не найдется татарской лавки. <…> Татарина астраханского вы не встретите ни в клубе, ни на гуляньях, ни в других общественных сходках; в Казани я встречал их и в клубах, и на гуляньях и т. п. Ясно, что между татарами казанскими прорывается подчас общественный прогресс, о чем астраханские татары даже и не думают311.
И действительно, как я объясню далее в этой главе, к середине XIX века в Казани сформировался многочисленный татарский купеческий класс. Представители этой неоднородной группы не только занимались коммерческой деятельностью и благотворительностью, но и участвовали в общественной и политической жизни города.
Тем не менее, хотя Казань и сохраняла свою экзотическую привлекательность и мультикультурность, она все больше походила на средний российский город. Бывшая татарская столица, некогда один из крупнейших городов России, на протяжении веков была аванпостом Москвы и Санкт-Петербурга на востоке страны и одновременно служила центром миссионерской подготовки, направленной на обращение в христианскую веру внутренних «других» этого региона312. В начале пореформенного периода Казань отличалась феноменальным приростом населения, которое с 1858 по 1885 год увеличилось более чем в два раза: с 60 000 человек до 140 000313. Однако подобное увеличение численности населения не было исключительным для данного периода (другие города значительно превзошли Казань). Развитие государственных институтов в провинциях совпало с промышленной революцией и сопровождалось ухудшением условий жизни в сельской местности, что привело к значительному оттоку населения в города. Новые вакансии на предприятиях и фабриках, в школах и конторах привлекали в губернские центры как рабочих, так и профессионалов, в то время как высокая рождаемость и нехватка земли заставляли крестьян перебираться на заработки в города. Эти изменения коснулись многих регионов, включая Казань, которая постепенно теряла свое особое положение.
Экономические причины также ставили Казань в невыгодные условия: поблизости было мало природных ресурсов, а объем промышленного производства оставался небольшим по сравнению с другими городскими центрами Поволжья и Урала. Благосостояние города по-прежнему зависело от торговли. Расширение империи и некоторые инфраструктурные решения способствовали снижению статуса Казани: центр торговли и управления азиатской части империи постепенно смещался на восток, а с середины 1870‐х годов железная дорога, соединяющая Москву с Уралом (и в конечном итоге с Сибирью), была проложена через Самару, обойдя Казань почти на 320 километров и превратив ее в провинциальную глубинку, куда можно было добраться в основном на пароходе314.
Во многих отношениях Крым был такой же глубинкой. Большинство городов были настолько же, если не более, провинциальными. В то же время с момента своего присоединения в 1783 году Крым стал ядром проекта имперского строительства в России: в то время как преобразование инфраструктуры и различных сооружений, от садов до религиозных и светских зданий, помогло воплотить имперскую идею в материальном плане, дискурсивно полуостров был включен в состав имперского центра315. Для обеспечения структурного единообразия империи уже в 1784 году Крым присоединен к новообразованной Таврической области, позже переименованной в Таврическую губернию (см. карту 3). Название «Таврическая губерния», указывающее на связь с древней цивилизацией тавров, окутанной легендами, подчеркивало европейское прошлое Крыма и тем самым позволяло отвергнуть притязания Османской империи на полуостров. Эта политика была частью более широкого «Греческого проекта» Екатерины II, в соответствии с которым постройки и памятники воплощали и прославляли эллинское наследие Крыма, а крымскотатарские, турецкие и казацкие географические названия заменялись греческими316. Так возникла новая столица – Симферополь (бывший Ак-Мечеть), а также Севастополь (Ахтиар), Евпатория (Кезлев) и Феодосия (Кафа). Греческие купцы сыграли ключевую роль не только в заселении завоеванного черноморского побережья и новых городов, таких как Одесса, где греческий, наряду с итальянским, стал одним из основных языков, но и в поддержании связей Крыма с Эгейским миром317. И все же, поскольку большая часть татарского культурного ландшафта – мечети, святыни и другие исторические места – осталась нетронутой, а отношения с Османской империей продолжали быть прочными, Крым также сохранял ощутимое татарское влияние. Таким образом, полуостров одновременно выполнял несколько функций: он был связующим звеном России с черноморским и средиземноморским пространствами; он был первым «Востоком» империи и, таким образом, служил для России своеобразным свидетельством ее принадлежности к Западу318; также он представлял собой экспериментальное пространство для быстро развивающихся методов и стратегий имперского строительства.

Карта 3. Таврическая губерния и Крымский полуостров, начало 1880-х
В течение первых сорока с небольшим лет российского правления Крым оставался малонаселенным – там проживало преимущественно нерусское население. Высшее петербургское общество редко вспоминало о нем, да и в целом полуостров считался далеким экзотическим местом. Существенные изменения произошли после того, как в 1823 году новый генерал-губернатор, князь М. С. Воронцов, приобрел земли на южном побережье Крыма. Была быстро построена дорога из Симферополя через горы в приморский поселок Алушта, которая вскоре была продлена до Ялты. В 1840 году один из русских туристов заметил, что Ялта превращается «из ничего» в «очень красивый город»: «…на каждом шагу встречаются новые строения, повсюду деятельность»319. К середине 1840‐х годов дороги окончательно соединили живописный южный берег с остальной частью Крыма320. Тем не менее инфраструктура полуострова все еще оставалась неразвитой: когда выпускник Училища правоведения Александр Серов в 1845 году был назначен в Таврическую уголовную палату в Симферополе, ему потребовалось более месяца, чтобы добраться до Крыма из Санкт-Петербурга321. Тем временем Севастополь – военно-морской порт – стабильно развивался, достигнув к середине века численности населения в 35 000 человек. Однако вплоть до Крымской войны он играл второстепенную роль как в стратегическом плане, так и в общественных дискуссиях322.
Новой столице полуострова уделялось еще меньше внимания, и многие из тех, кто ее посетил, нелестно отзывались о ней. Для молодых специалистов, таких как Серов, который прожил в Симферополе с 1845 по 1848 год, Крым, несмотря на виноградники, пляжи и развлечения, скорее ощущался как ссылка323. Серов писал своей сестре: «Право плакать хочется, когда подумаю, какое варварство меня окружает»324. Он не нашел в крымской столице ни театральных, ни музыкальных событий, достойных упоминания, и тосковал по «шумной общественной деятельности, которой кипят большие города»325. Временами его назначение в Крым и вовсе ощущалось как наказание: «Я живу в глухом, уединенном губернском городе, лишенном всякой общественности, не вижу и не слышу ничего по искусствам…»326
Поначалу экзотическая чуждость Крыма помогала отвлечься. Полуостров с его турецкими банями, ханским дворцом и многочисленным татарским населением отличался от всего, что молодой чиновник когда-либо видел. Покинув Симферополь, он с уверенностью заключил: «Но Крым решительно – не Россия: русского во всей местности ничего нет. Крым, как и Кавказ, решительно Восток…»327
В самой столице татарское влияние было менее заметным. Тем не менее, по словам одного из друзей Серова, прибывшего в Симферополь в 1848 году, город был «полутатарским»328. Как и в Казани, русские очевидцы были поражены восточным влиянием. Ак-Мечеть, небольшой татарский городок, выбранный в качестве резиденции таврического губернатора и переименованный в Симферополь в 1785 году, сохранял смешанную идентичность, в которой сочетались «азиатские» и «европейские» элементы329. Как сам город, так и его христианское население росли медленно. Татарский квартал так и не был снесен, а в 1818 году было дано официальное разрешение на строительство домов «на азиатский манер»330. В отличие от Севастополя, где почти исключительно русский город заменил татарский поселок Ахтиар, в крымской столице к середине XIX века татары по-прежнему составляли более 60% населения331. По мнению большинства образованных русских, присутствие татар являлось угрозой для порядка и препятствием на пути к прогрессу. Так, один русский офицер, проезжая через Симферополь в 1840 году, выразил свои мысли следующим образом:
Что вам сказать о самом Симферополе? Во-первых, он некрасив, а во-вторых, здесь мало пахнет Русью. Татары, безвкусие и неопрятность; неопрятность, безвкусие и татары – вот его физиономия332.
Плачевное состояние города автор объясняет татарским влиянием, что становится понятно из его описания бывшей столицы Крымского ханства, расположенной примерно в 30 километрах от Симферополя:
Несмотря, однако ж, на сумерки, нам не трудно было заметить, что в Бахчисарае по-прежнему грязно и неопрятно. Паломники пророка и внутри России остаются верными своим народным привычкам333.
Однако не все так мрачно. На южном побережье офицер остановился в селе Алупка и был им очарован:
Почти каждый дом окружен красивыми орешниками, а в самой середине усадьбы возвышается прекрасная мечеть, которой золотой купол и луна блистают в зелени деревьев очень приятно334.
Он также отметил чистоплотность и гостеприимство своих хозяев, добавив, что хотя они и не решались пить вино, от водки они не отказывались335. Хотя подобные описания не были редкостью в то время, многие русские современники ассоциировали татар в первую очередь с ленью, неряшливостью и равнодушием336.
Крымская война (1853–1856) стала переломным моментом для образа и положения Тавриды. Теперь состоятельные туристы приезжали не только полюбоваться природной красотой побережья, но и увидеть крепость и порт Севастополя – священную землю, на которой русские солдаты отважно сражались во время войны337. Знаменитая осада Севастополя широко освещалась в прессе, а стихи и рассказы, основанные на личном опыте, включая «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, помогли вписать образ страдания, самопожертвования и ощущение общей угрозы в имперскую коллективную память. Напоминания о боли и мужественной борьбе были вписаны в городское пространство Севастополя: разрушения были повсеместными, улицы, площади и холмы, на которых расположен город, получили названия в честь героев войны, а сам он постепенно превратился в «музей под открытым небом, состоящий из памятников, мемориалов и памятных досок»338. Следует отметить, что таким образом конструируемая историческая память была выраженно русской: татары и другие народы практически не играли никакой роли в истории о защите родины, разве что выступали в качестве предателей.
К 1860‐м годам Крым стали обсуждать по всей России и вне контекста войны. Как и в 1820‐х годах, приобретение собственности сыграло решающую роль в росте благосостояния Крыма. В 1860 году императорская семья купила Ливадийский дворец под Ялтой. Восхищенные живописными окрестностями, они вскоре превратили дворец в летнюю резиденцию, что положило начало моде на отдых в Крыму. В течение нескольких лет множество туристов и ялтинцев приезжали в Ливадию, чтобы прогуляться по парку в надежде увидеть царскую семью или посмотреть фейерверк в честь дня рождения одного из членов императорской фамилии339. К 1869 году быстро растущее число отдыхающих заставило власти Одессы, Симферополя и городские управы Ялты, Севастополя и Феодосии начать дискуссию о недостаточном количестве и разнообразии гостиниц в Крыму340.
Люди, привыкшие к холоду и мрачности Петербурга, были очарованы крымской природой. Юлия Горбунова, чей муж управлял Ливадийским имением с 1874 по 1880 год, так описывала свои первые впечатления в августе 1874 года:


