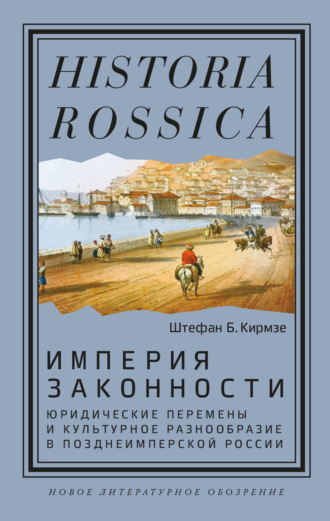
Штефан Кирмзе
Империя законности. Юридические перемены и культурное разнообразие в позднеимперской России
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ МЕНЬШИНСТВ
Специалисты в области права определяют empowerment как усиление способности работать в рамках имеющейся системы, успешно действуя внутри существующих структур власти, но при этом отмечают, что это понятие не следует путать с «эмансипацией», которая идет дальше и подразумевает анализ этих структур и противодействие им45. В России правовая реформа не смогла разрушить существующие структуры власти, так как многие иерархические отношения сохранялись – от особого статуса русского языка и Русской православной церкви до прав, предоставляемых высшим сословиям, в которых меньшинства были недостаточно представлены. Тем не менее новые суды помогли расширить не только права этнических и религиозных меньшинств, но и многих других групп.
Прежде чем в первой половине XIX века они были определены более четко (подробности см. в следующей главе), права этнических и религиозных групп формировались в течение длительного времени, претерпевая частые изменения в процессе развития. Затем судебная реформа придала некоторым из этих прав новый смысл, поскольку создала механизмы, позволяющие простым людям – неважно, русским или нет – добиваться их соблюдения. На этом фоне дискуссия о том, являются ли 1860‐е годы или законодательство николаевского периода переломным моментом в правовой политике XIX века, выглядит несколько схоластичной46. Изменения происходили постепенно, и сменяющие друг друга комплексы решений постепенно способствовали трансформации правового порядка.
Меры, затрагивающие меньшинства, всегда зависели от конкретной социальной группы и обстоятельств. Вместо проведения систематической политики имперская элита вырабатывала множество предложений и решений, специфика и развитие которых зависели от конкретных лиц и учреждений. Более того, речь не шла о «меньшинствах». Это понятие является более поздним, и его обычно связывают с появлением современного национального государства и стремлением к достижению национального единообразия. В качестве нормативного термина оно получило широкое распространение в конце XIX – начале XX века, когда дипломаты начали использовать его как инструмент в переговорах между великими державами47. Подобно своим европейским коллегам, представители имперских элит в России говорили о правах меньшинств только в контексте международной политики, избегая этого понятия при обсуждении внутренних вопросов48. Поскольку они видели разнообразие имперского общества как нечто присущее империи, при этом предостерегая от влияния «инородцев», особенно евреев, они не считали какие-либо «меньшинства» нуждающимися в защите. В то же время к концу XIX века нерусские составляли большинство, а именно 57% всего населения империи49. В таких регионах, как Крым, их доля была еще более высокой.
Тем не менее эти обстоятельства не исключают использования самого понятия «меньшинства». Во-первых, «меньшинства» и «политика меньшинств» – это аналитические термины. Такие понятия редко используются самими историческими акторами. Во-вторых, в данной книге речь идет не только о двух регионах. Основа излагаемой аргументации касается значительной части позднеимперской России, и поэтому важно использовать термины, способные охватить имперскую политику и специфику ее восприятия, независимо от местных особенностей. Язык правовой реформы и лежащая в ее основе концепция были в значительной степени схожи по всей империи. То, что татары, чуваши, армяне и другие составляли большинство в некоторых районах, не умаляет того обстоятельства, что в империи в целом они сталкивались со структурной дискриминацией – русские являлись, безусловно, наиболее влиятельной социокультурной группой. Самое главное, что термин «меньшинства» подчеркивает не только подчиненное положение таких групп населения, но и постепенное расширение их прав и возможностей. Как показала политолог Дженнифер Джексон-Прис, «меньшинства» существовали в Европе на протяжении веков. Так как они были «чужаками», их инаковость в первую очередь определялась религией и только с конца XIX века была заключена в рамки национальности50. Таким образом, значимость принадлежности к меньшинству менялась с XVII по XX век. В Российской империи дело обстояло иначе. После многовековых репрессий и нетерпимости татары и другие народы стали пользоваться правами и возможностями, обычно не свойственными имперскому правлению, и приобрели статус, не сильно отличающийся от статуса национальных меньшинств XX века.
Так или иначе, царская Россия с ее гибкой и неоднозначной, даже противоречивой политикой в отношении недоминантных этнических и религиозных групп не выделялась в Европе XIX века. В большинстве империй проводилась широкая политика в диапазоне от культурной гомогенизации до принятия культурных различий51. Российская элита, в свою очередь, склонна была считать, что культурные различия между народами естественны и желательны; и поскольку она гордилась имперским разнообразием, она также придерживалась определенной степени правовой дифференциации52. Поэтому, несмотря на все попытки унификации, плюралистический правовой порядок России продолжал учитывать местные верования и обычаи.
Новые окружные суды, однако, уделяли мало внимания этнической и религиозной принадлежности, что заставляет задать важный вопрос. К каким выводам может привести постановка акцента на культурных различиях при обсуждении судебной системы, если она часто нивелировала их существование? Зачем изучать роль и поведение татар, греков или караимов в условиях, когда эти группы вели себя так же, как и все остальные, и отношение к ним было практически таким же? Существует несколько причин для изучения пореформенной правовой системы именно через призму культурных различий.
Во-первых, упор на меньшинства в Крыму и Казани не только помогает выявить множественность правовых культур в Российской империи, но и побуждает к более широкому осмыслению этого вопроса в контексте сравнительного анализа. Правда, непоследовательность политики империи в отношении меньшинств затрудняет какие-либо обобщения. В рамках исследовательской работы можно сделать лишь небольшие наброски отдельных социальных групп и исторических периодов. Однако, хотя эта книга акцентирует внимание на татарах-мусульманах, поскольку они были самой многочисленной группой внутренних «других» в изучаемых регионах, она также предлагает более общие наблюдения. Некоторые меньшинства – в частности, еврейское население и более отдаленные общины в Сибири, Туркестане и на Северном Кавказе – следовали особым траекториям, в большей степени зависящим от контекста53. Важно отметить, что, хотя отношения каждой группы с имперским государством имели определенные особенности, история татар-мусульман не является исключительной и во многом схожа с опытом других меньшинств в Крыму, Казани и за их пределами. Кроме того, фокус на изучении татар связывает данное исследование с быстро растущим объемом литературы о мусульманах в Российской империи. Татары были ключевым мусульманским меньшинством; примерно до 1800 года законодательство, касающееся мусульман, относилось в основном к татарам54.
Во-вторых, внимание к этнорелигиозным группам в пореформенных судах необходимо потому, что национальность и религия имели большое значение в России XIX века. Хотя для большинства юристов вопрос культурного разнообразия не представлял интереса, многие из их современников интересовались этим вопросом. Писатели, ученые и государственные управленцы были чрезвычайно озабочены «другими» внутри империи, составляя множество этнографических описаний и особо подчеркивая культурные различия между ними55. В частности, в правительственных кругах, в прессе и в других сегментах зарождающейся публичной сферы разгорелись дебаты о роли мусульман. Смогут ли они когда-нибудь быть полностью интегрированы? Можно ли им доверять во время войны? Насколько они фанатичны? Подобные вопросы звучат на удивление знакомо для читателя XXI века. Такое внимание к культурным различиям делает крайне важным изучение примеров, где на первый план выходят равенство и единообразие. Тогда как историки склонны уделять больше внимания провалу имперской политики, дискриминации и репрессиям, пусть подобная дискриминация и имела место, эта книга призывает к более всестороннему анализу.
Наконец, внимательное изучение связи между правовой, религиозной и национальной политикой – как бы непоследовательна и беспорядочна она ни была – помогает выявить идиосинкразию поздней царской России как имперского государства. Два историографических события указывают на то, что эта книга может быть включена в более широкий исторический контекст: появление «новой» имперской истории, которая подчеркивает культурное взаимодействие и гегемонию в большей степени, чем имперские завоевания и государственное управление56, а также большого количества литературы, ставящей Российскую империю в один ряд с Британской, Османской и Габсбургской57. Эта книга закладывает основу для дальнейшего межимперского сравнения.
Я уже упоминал о ряде направлений научных исследований, на которые опирается данная работа и которые она дополняет. Следующий раздел дает более четкое представление об общем исследовательском контексте.
ПРАВО, ПРАВОВОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ И ИМПЕРИАЛИЗМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Российская империя и ее правовые институты часто ассоциируются с произволом, коррупцией и отсутствием верховенства закона. В классическом исследовании Р. Пайпса, например, отмечается, что многие ключевые законы никогда не публиковались, что власть имущим не нужны были суды и законы, чтобы добиваться своего, а простые люди «избегали судебных разбирательств, как чумы»58. Многие современники разделяли этот снисходительный взгляд на правовую сферу. Писатели XVIII и XIX веков в своих литературных произведениях подробно останавливались на невежестве и продажности судей, а юристы регулярно осуждали медлительность и произвол старых судов59. И хотя ученые уже начали ставить под сомнение образ несправедливых, медленных и коррумпированных дореформенных судов60, этот образ, безусловно, наряду с реально существовавшим ограничением гражданских прав, укрепляет идею о том, что Российская империя по-прежнему далека от идеала правового государства (Rechtsstaat). Такие писатели, как Лев Толстой, также помогли поддержать представление о том, что судебная реформа принесла мало изменений, утверждая, что крестьянство по-прежнему игнорировало совокупность законов, созданных только для того, чтобы служить интересам элиты61.
Поэтому неудивительно, что в исследованиях, посвященных имперской России, не сразу приняли во внимание достижения социальной антропологии, социально-правовых исследований и общей имперской истории – областей, в которых ученые десятилетиями проводили исследования повседневного правового взаимодействия62. Изучением империи занимались почти исключительно историки. Немногие из них обсуждали правовую систему, а те, кто это делал, как правило, фокусировались на юридических спорах, изменении законодательства и институциональных реформах63. В их работах было описано становление нового поколения профессиональных юристов, которые руководствовались беспристрастностью в своих решениях и помогли проложить путь к правовым изменениям. Эти исследователи проследили эволюцию гражданского и уголовного права до и после судебной реформы. Они изучили дискуссии вокруг самой реформы, уделив особое внимание вызывавшему много споров внедрению судов присяжных. Они выявили сильные и слабые стороны созданных в результате реформы правовых институтов. И, что особенно важно, они проанализировали последствия новой правовой системы для самодержавного правления. Однако, поскольку в качестве источников они использовали в основном мемуары и публикации чиновников и юристов, не в последнюю очередь из‐за ограниченного доступа к архивам во время холодной войны, они одновременно воспроизводили взгляды петербургской и московской элит.
В этих исследованиях не уделялось особого внимания как нерусскому населению империи, так и правовому плюрализму. То, что анализ правовых реформ и судебной системы все еще обходит меньшинства стороной, по крайней мере, частично объясняется сохраняющимися стереотипами об имперском общественном устройстве. Имперское общество обычно понималось в терминах бинарной модели: массы крестьян с традиционными взглядами, противопоставленные образованной городской элите, – каждые со своими собственными нормами и установками64. То, что многие источники XIX века поддерживали это бинарное видение общества, отчасти объясняет его живучесть в научных кругах. Советские историки часто рисовали более нюансную картину правового взаимодействия в сельской местности, рассматривая изменения и их социально-экономические условия во времени. Однако они также подчеркивали важность классовой борьбы и тем самым способствовали устойчивости образа непреодолимых различий65. Логическим выводом из таких предположений было то, что изолированные и живущие в общинах средневекового типа крестьяне не нуждались в государственных институтах, в том числе правовых; вместо этого они руководствовались собственными правовыми нормами и сознанием66. Некоторые считали возникший дуализм не иначе как «правовым апартеидом»67. Защитники самодержавия разделяли эту точку зрения, утверждая, что ни крестьянство, ни власти не хотели усиления правового порядка и не нуждались в нем. Например, в 1883 году епископ Уфимский и Мензелинский отверг окружные суды и юристов как часть нового бюрократического аппарата западного образца, в котором Россия не нуждается68. По его мнению, только железной рукой можно решить проблему «общего бессудия» в сельской местности.
Образ самодостаточных и однородных крестьянских общин поддерживался ростом научных обществ и экспедиций69. Начиная с середины XIX века эти общества выпускали большое количество не только общих этнографических исследований о деревенской жизни, но и предлагали описания того, что они считали «обычным правом»70. Так они способствовали фольклоризации и экзотизации сельского населения. Нигде это не проявлялось сильнее, чем в случае этнических и религиозных меньшинств: если русская деревня воспринималась как мир, отделенный от цивилизованного общества, то нерусская деревня представляла собой иную вселенную. То, что татары и другие группы придерживались своего «обычного права» и мало интересовались государственными судами, редко вызывало сомнения71. Предполагалось, что меньшинства отделены от остального общества социальной, правовой и культурной пропастью.
Таким образом, этнографические исследования деревенской жизни были далеко не безобидным академическим занятием. Как и в других империях, они не только помогали властям получить больше знаний о населении, чтобы его лучше контролировать, но и позволяли систематически выделять и объективировать различные группы населения и их правовые практики. Кодификация этих практик, другими словами, не только не обнаружила местные законы – она их создала. Как утверждали специалисты по антропологии права в течение десятилетий, «обычное право» – это не столько пережиток прошлого, сколько колониальная конструкция, «изобретенная традиция», продвигаемая великими державами для облегчения и поддержания колониального правления72. В России складывалась аналогичная ситуация. При содействии ученых и местных посредников царские власти вслед за другими имперскими державами попытались зафиксировать в кодифицированном своде законов то, что на самом деле представляло собой совокупность подвижных местных норм. Этот процесс требовал переговоров и сотрудничества с местными элитами, которые заставляли имперских чиновников определять одни практики как «обычные», отвергая другие, часто для того, чтобы получить преимущества для себя73.
С 1990‐х годов изучение царской России расширилось и, благодаря полученному доступу к архивам по всей Евразии, все больше внимания стало уделяться изучению империи, пространства и культуры. В своем стремлении шире рассматривать культурное разнообразие и взаимодействие между центром и периферией в истории России Андреас Каппелер сделал упор на пространстве как ключевом элементе исследования, где территории и регионы, а также связи между этими регионами являются основными единицами анализа74. Одним из результатов этих тенденций стало появление новой области исследований, ориентированной на дискурсивное присвоение империей бывших пограничных зон и их фактическую колонизацию75. Спорные дискуссии о политике в отношении меньшинств и «русификации», которые уже играли заметную роль в советский период, вновь вышли на авансцену76. Подобные дискуссии способствовали усилению культурной чувствительности и увеличению разнообразия в более широких дебатах о гражданстве и религии77. Еще одним результатом повышенного внимания к пространству и культуре стал интерес к повседневной жизни в провинции, городах и деревнях, удаленных от Санкт-Петербурга и Москвы78. Это помогло зафиксировать повседневный характер взаимодействия государства и общества и продемонстрировать, что городское и сельское население использовало государственные институты для регулирования самых разных аспектов повседневной жизни. При этом подобные исследования показали, что межэтнические отношения зачастую были далеко не враждебны.
В то время как культурным практикам уделяется все больше внимания, наблюдается и резкий рост исследований правовых практик в центральных районах империи. Вслед за антропологами права и специалистами по социально-правовой истории историки, анализируя разрешение конфликтов и поведение тяжущихся сторон, стали широко использовать архивные материалы, включая судебные иски, свидетельские показания, приговоры и протоколы судебных заседаний79. Внимание к изучению империи также позволило исследователям заняться анализом юридической практики в пограничных регионах, таких как Северный Кавказ и Центральная Азия, где особые правовые режимы сохранялись, продолжали меняться и даже поощрялись со стороны власти80. Эти периферийные регионы, однако, представляют собой особые случаи, поскольку они были присоединены только в XIX веке и не были полностью интегрированы в гражданско-административную структуру империи. У меньшинств были лишь немногие права, привилегии и возможности, которыми они пользовались на промежуточных территориях.
Периферийные регионы отличались не только большим культурным, но и административным и правовым разнообразием по сравнению с центральными районами России. К ним относятся Крым и Казань, другие губернии Волго-Камского региона, степи юга России и большая часть других территорий, расположенных по краям старой Московии. Несмотря на внутренние различия, эти регионы отличались и от центральной России, и от дальних рубежей тем, что сохраняли культурную неоднородность, характерную для периферии, при этом постепенно сливаясь с центром как в народном воображении, так и в практике административного управления81. Тем не менее понятие «промежуточные территории» является изменчивым и ситуативным. Оно отражает скорее краткосрочные, чем долгосрочные тенденции. Эта категория помогает выявить общие черты разных регионов, но в то же время она скрывает разнообразие. Сеймур Беккер был, безусловно, прав в том, что в поздней царской России сосуществовали различные типы империй82. Каждый регион был уникален в своих отношениях с центром, с другими регионами и с территориями за пределами имперских границ. Более точные концепты могут помочь отразить региональные особенности, например понятие Келли О’Нилл «Южной империи», которая включала Крым: не столько территория, определенная формальными границами, сколько открытое пространство, сформированное торговыми и миграционными потоками, которые процветали благодаря множеству пересекавших эти границы дорог, рек и морскому сообщению83.
В то время как промежуточные территории становятся объектом анализа во все большем числе работ, они остаются недостаточно изученными с юридической точки зрения. Существующие работы по Крыму и Казани посвящены постепенному включению этих регионов в состав империи, анализу меняющейся политики в отношении меньшинств, изучению религиозных, особенно мусульманских, организаций и их взаимоотношений с государством, а также взаимодействию и диалогу между центральными, региональными и местными акторами84. Однако, поскольку эти исследования уделяют лишь незначительное внимание правовым вопросам и игнорируют повседневное взаимодействие нерусского населения с государственной судебной системой, они не в состоянии проследить важность правовых институтов для строительства империи и их роль в выравнивании и скреплении разнообразного и глубоко иерархического общества.
Когда в середине 1860‐х годов юристы представляли свой доклад о возможности введения реформированных судов в Крыму и Казани, им, возможно, и в голову не могло прийти создавать специальные правила или институты для нерусского населения. Отчет не содержал никаких этнических или религиозных соображений, кроме общих заявлений о том, что эти два региона культурно неоднородны, и введение окружных судов было рекомендовано без каких-либо оговорок85. Поскольку дискриминация меньшинств была обычным явлением на протяжении веков, а значительная часть нерусского населения империи, особенно к востоку от Уральских гор, оставалась юридически отделенной (см. следующую главу), поразительно, что к периоду Великих реформ казалось бесспорным и даже естественным распространить новую правовую систему на промежуточные территории и предоставить всему их населению равный доступ к этой системе. В данной книге показаны последствия этого выдающегося решения и сохраняющейся двойственности интеграции и дифференциации не только для судебных реформ в России, но и для имперскости России в целом. Хотя я согласен с Валери Кивельсон и Рональдом Суни в том, что царская Россия, как и другие имперские образования, стремилась осуществлять свое правление посредством культивирования различий, а не интеграции или ассимиляции, я утверждаю, что реформированные суды подорвали эту форму управления и стали мощным толчком к достижению большего равенства86. В то же время данное исследование подчеркивает неоднозначность этих событий. Промежуточные территории позволяют проследить конфликт между стремлением к большему единообразию, признанием, даже поощрением различий и сохраняющейся дискриминацией. Хотя в Крыму и Казани усилия по интеграции этнических и религиозных «других» были более значительными, чем в отдаленных приграничных районах, меньшинства продолжали занимать неопределенное положение.
Анализируя споры и преобразования в имперском центре, а также взаимодействие государства и общества в залах суда и деревнях, данное исследование рассматривает ряд вопросов и обстоятельств: замысел и саму идею реформированных судов; принятие новых правил и процессуальных норм в Крыму и Казани; возникшее при этом взаимодействие между различными нормативно-правовыми порядками; организацию и проведение судебных процессов; сложные взаимоотношения между обычными людьми, представителями правоохранительных органов и юристами. Рассматривая политику, правовое взаимодействие и практику обращения в суд, эта книга также проливает свет на ряд более широких исследовательских проблем: право как средство модернизации, право как орудие империализма и право как инструмент интеграции меньшинств. В ней исследуется не только степень, в которой правовые реформы были предтечей введения принципа «верховенства права», основанного на европейских образцах, но и значение возникшей правовой системы для расширения и поддержания имперского правления. Российский историк культуры и социолог Борис Миронов характеризует Российскую империю между 1830 и 1906 годами как «правомерное» государство, то есть еще не «правовое» государство, а государство, в котором закон стал единственным определяющим критерием «преступления» и в котором все права, предоставленные населению, тщательно охранялись все более совершенными государственными институтами87. В последующих главах идея «правомерной империи» подвергается эмпирической проверке, исследуется масштаб и опыт этой «правомерности» среди обывателей в Крыму и Казани.
Несмотря на частое упоминание «позднеимперской России», в этой книге я преимущественно затрагиваю период с середины 1860‐х до середины 1890‐х годов. О потрясениях, предшествовавших революциям 1905 и 1917 годов и после них, уже написано немало. Корин Годен справедливо отмечает, что гораздо меньше внимания было уделено не столь зрелищным «повседневным контактам между чиновниками и крестьянами на уровне деревни в периоды относительной политической стабильности»88. Три десятилетия после Великих реформ, пусть и относительно, представляют собой один из таких стабильных периодов. В эти десятилетия не обошлось без террористических акций, рьяных поисков настоящих и мнимых революционеров, периодических восстаний и беспорядков на западной и южной границах. Однако за пределами столичных центров и некоторых приграничных регионов основная масса населения была гораздо меньше охвачена политическими волнениями, чем до или после этого периода. В научных трудах революционный пыл 1900‐х и 1910‐х годов, как правило, объясняется нерешенными проблемами и тлеющим недовольством после Великих реформ, и, исходя из этого, никакое обсуждение пореформенных лет не может закончиться их революционной кульминацией. Однако, хотя такая причинно-следственная связь между недовольством и протестом часто подразумевается, доказательства этому весьма скудны. Безусловно, можно полагать, что революция была продуктом деятельности наиболее активных участников политического процесса в некоторых частях империи после 1900 года и что она произошла вопреки относительной стабильности предыдущих десятилетий, а не вследствие глубинных проблем. События, описанные в этой книге, возможно, даже в немалой степени помогли избежать системного кризиса89. Конечно, недовольство было, но, как показывают многие эпизоды из новейшей истории, недовольство не означает революцию. Именно поэтому имеет смысл изучать период с середины 1860‐х до середины 1890‐х годов как самостоятельный, а не как прелюдию к неизбежным потрясениям XX века.
Уделяя основное внимание Крыму и Казани, эта книга вступает в дискуссию об интеграции мусульман в Российской империи. Позицию, высказанную татарским историком Ильдусом Загидуллиным, можно рассматривать как пример аргументации, часто используемой в работах местных ученых, а также в некоторых западных и советских публикациях90. Загидуллин придерживается жесткой дихотомии, согласно которой имперская политика в отношении казанских татар рассматривается через призму антагонистических отношений между империалистическим российским государством и угнетенным меньшинством. Для него пореформенные годы стали продолжением «национального и религиозного гнета» более ранних периодов91. Он отводит ключевую роль в поддержании неослабевающей хватки государства судам, полиции и другим государственным институтам92. По его мнению, новые суды были инструментом порабощения нерусского населения. Историки Айдар Ногманов и Диляра Усманова во многом разделяют эту точку зрения, добавляя при этом некоторую пространственную дифференциацию: в целом, по их мнению, в Казани политика была более репрессивной, чем в Крыму и на более отдаленных территориях93.
Любое противопоставление имперского государства угнетенным меньшинствам маскирует куда более сложную действительность. Татары XIX века испытали на себе широкий спектр политических решений: как в Крыму, так и в Казани центральные и местные власти неоднократно применяли против них насильственные меры, тогда как в других случаях они помогали сохранить мусульманскую идентичность. Роберт Джераси и Галина Емельянова проследили это многообразие политических мер на примере борьбы за власть и разногласий как внутри министерств и других государственных учреждений, так и между ними. Что касается Крыма, то О’Нилл документально подтвердила попытки частично восстановить и преобразовать, а не просто уничтожить местную застройку и окружающую среду, где по-прежнему ощущалось сильное татарское влияние94.
Данное исследование развивает эти аргументы и точку зрения, что мусульмане не жили в консолидированных общинах, обособленных от остального общества. Исследования мусульман в России до сих пор, как правило, были посвящены религиозным и «коренным» институтам; в них обсуждались трансрегиональные и трансимперские связи и сети, но никак не интеграция мусульман в общеимперские институты95. Неудивительно, наверное, что в этих работах подчеркиваются культурные различия. Эта книга, напротив, не посвящена ни мусульманским институтам, ни мусульманской правовой культуре – для этого пришлось бы гораздо подробнее исследовать практику разрешения споров муллами и имамами, а также вопросы неформального урегулирования конфликтов. Здесь речь идет о том, как этнические и религиозные меньшинства взаимодействовали с судами и другими институтами, введенными в 1860‐х годах. При этом подробно рассматриваются отношения, которые нерусское население поддерживало со своими русскими соседями. То, что татары составляли крупнейшее меньшинство, a в Крыму даже большинство населения, объясняет тот факт, что они занимают особое место в последующих главах. С небольшими изменениями, однако, основные аргументы также справедливы для караимов, греков, армян, чувашей, мордвинов и представителей других этнорелигиозных меньшинств.
Рассмотрев, как мусульмане использовали различные правовые институты для урегулирования религиозных споров, Роберт Круз уже предложил своевременное противоядие тезису, что отношения между мусульманами и государством были враждебными96. Однако он также не учел многие временные и региональные различия и таким образом преувеличил значение своих выводов, настаивая на том, что власти сделали ислам опорой имперского общества и что мусульмане стали рассматривать государство как гаранта своих прав97. Натан Спаннаус привел более убедительные аргументы: сосредоточившись на судебных разбирательствах дореформенного периода, он показал, что между мусульманами и российским государством существовали неоднозначные, но тесные отношения98. Данная книга развивает этот тезис и применительно к пореформенным годам. Однако самое главное – в ней утверждается, что взгляд на татар преимущественно через призму их набожности и религиозного воспитания не дает представления ни об их повседневной жизни, ни о многомерности их идентичностей. Жизнь татар в первую очередь определялась тем, что они были крестьянами, землевладельцами, поденщиками или мелкими городскими чиновниками; богатыми или бедными, преступниками или законопослушными, религиозными или равнодушными к религии; они принадлежали к различным этническим, гендерным и возрастным группам. Большинство из них были частью обедневшего сельского населения и не имели средств, позволявших богословам, интеллектуалам и купцам регулярно перемещаться между регионами или даже империями.


