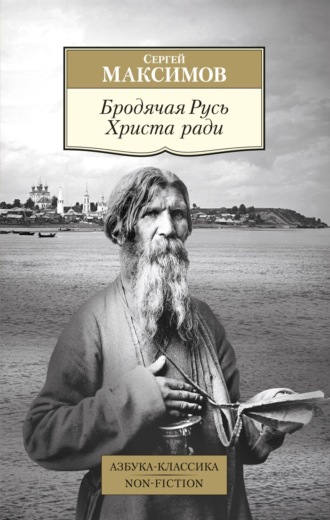
Сергей Васильевич Максимов
Бродячая Русь Христа ради
Глава II
Вот какими невеселыми впечатлениями встречает нас город, вчера издали показавшийся нам очень красивым, а теперь вблизи – очень бедный, хотя, по-видимому, порядочно обстроенный.
Город беднеет в особенности в еврейском населении; многие отсюда успели уже выбраться в Россию от недостатка средств к жизни, в Крым, на Волгу, да и не пересчитаешь, кто куда выбрался. Мстиславль, как и все прочие белорусские города, бедняк безвыходный, особенно с тех пор, как ослабела некогда шумная и веселая ближняя ему ярмарка в Хославичах и сам он дотла (в 1858 году) погорел. После пожара он стал гораздо хуже и очень туго исправляется: остовы каменных домов так и стоят неисправленными, а на крыше сгоревшего и полуразрушенного костела успел даже вырасти кустарник.
Впрочем, все эти внутренние недостатки не умаляют достоинства и красоты наружных видов, открывающихся глазам с городских гор, и особенно с той, которая называется Замковой. Вид отсюда – на широкую долину, образованную рекой Вехрой, текущей в Сож. Леса порядочно-таки опустошены, и горизонт очень расширен, но сильная растительность взяла свое и пустила новые березовые рощи. Таких видно с горы очень много; таковые же завязались везде там, где обсохли болота и красиво зеленеют во всех тех местах, где устроились закутанные в зелень панские фольварки.
Около одного фольварка сохранился дубовый лесок, а липовые рощи всегда указывают на те места и земли, которые принадлежали ксендзам. Таких очень много.
Лента Вехры прихотливо извивается по долине и оживляет всю эту красивую окрестность в такой степени, что можно несколько раз сряду на эту Замковую гору возвращаться и любоваться вновь с обеих точек зрения: и как на прелестную местность, одну из наилучших во всей губернии, и как на замечательную твердыню, способную постоять за себя при древних способах осады и обороны. Она, впрочем, несколько раз и отстаивалась от московских войск, когда западная Русь отошла к Литве. Выведены мстиславские укрепления все в северо-восточную сторону – стало быть, прямо против Москвы. На крепость твердыни положились жители и в то время, когда царь Алексей принял под свою защиту угнетенную Малороссию, послал на Литву войска, успел отнять Смоленск, Витебск, Полоцк, Быхов и Шклов. Мстиславцы, не принимая этого в расчет, на крутых горах своих вздумали упорно сопротивляться. Они раздражали воеводу русского, князя Трубецкого, а когда изнемогли в силах и покорились, были все изрублены с таким ожесточением, что это событие осталось в памяти народа под названием Трубецкой сечи (резни), а за мстиславцами современными осталось прозвище недосеков (потомков недобитых) вот уже на третью сотню лет после исторического события.
Следом за историческим преданием и не сходя с Замковой горы – вблизи и воочию живой исторический памятник: величественный каменный древний католический костел. Выбрал он для себя самое лучшее, красивое место, несомненно, в то время, когда католичество здесь начало хозяйничать с решительностью и ставило в самых отдаленных православных странах (на окраинах их) передовые свои посты в противоборство и противодействие. На севере Могилевской губернии, в местечке Обольцах, поставлен Ягеллом первый по времени в белорусском крае римско-католический костел еще в 1387 году, а вот второй, мстиславский, – на окраине литовских земель.
Громкий гул органа этого второго костела сильно и торжественно разносится на весь околоток. По четыре раза в день, неустанно и ежедневно, совершаются здесь церковные службы, и одна продолжается ровно два часа (с 8 до 10). В церкви на стене – изображения (al fresco) событий, прославивших костел.
На одном совершается приступ к городу: направо вырисовывается гора, та самая, которая под именем Замковой, и на ней, как голубок, белая православная церковь (теперь уже тут не существующая)[3]; налево – угол здания, того самого костела, который теперь остановил нас на пути по городу. Между православной церковью и костелом батарея из 4–5 шведских пушек, и при них два рыцаря в шлемах с перьями и в кольчугах. От горы заходят войска точно в таких же шишаках, которые при нас выкопаны были в Могилеве в горе, называемой Костернею. По церковной горе в разных направлениях катятся бревна – последние следы и остатки защиты против врагов. А вот на второй (левой от входа) картине и самая драма – избиение ксендзов у дверей этого костела, очень похоже изображенного, хотя изображение мечей и бритых голов с клочками волос по краям значительно попортилось. На этот раз шведы Карла XII мало на шведов похожи, согласно словам предания. Краски очень полиняли, а в других местах просто полопались.
Самый орган, под звуки которого мы переносились воображением в старину, расшатался от долговременного и частого употребления до такой степени, что сильно стучит и вводит новые неприятные и ненужные звуки, бесцеремонно заглушающие пение. Да и костел уже порядочно позастоялся, и все это ввиду того, что на иезуитском сгоревшем и заброшенном костеле выросли деревья, а противоположный ему костел на той же площади преобразован в православную церковь, принадлежащую Николаевскому монастырю.
Не значит ли это, что католические передовые посты забрались слишком далеко и жили не тужили при искусственной поддержке, а приняли подгнившие подпорки, и здание либо надтреснуло и стало разваливаться, либо совсем рухнуло.
Я заходил в костел несколько раз, но молельщиков больше 5–6 человек не видал, считая старух, из которых одна совершенно пластом (крыжем) лежала на полу и целовала кирпичи, порядочно-таки выбитые ногами. Две были бессменные, и обе – нищенки в качестве представительниц местного католичества, к которому, впрочем, очень много принадлежит окольной шляхты и землевладельцев. Тем не менее костел вместе с другими сделал свое дело и успел ввести в православный обычай и народную жизнь очень много такого, что не скоро и не так легко искоренят новые ревнители русского дела и веры.
Однако не о том теперь и здесь речь наша.
Поспешим от этого памятника, принадлежащего уже истории, к другим древностям, наиболее солидным и почтенным.
В той же красивой долине, которая прорезается Вехрой и стелется под высотами Замковой горы, верстах в 2–3 от города, бежит в реку так называемый Черный ручей, в воде которого накопляется достаточное количество грязи. Грязью мажут глаза. Источник чествуют и благодарят бросанием в него денег; творят приношения по древнему способу и с тех самых пор, когда предки белорусов – кривичи – веровали в источники, боготворили леса. Вот подлинная древность и древняя вера, через тысячелетие дожившая до нас в неприкосновенности и в такой целости только в одной Белоруссии.
Таких святых мест, обыкновенно в ложбинах, под горами, над чистыми ключевыми источниками, целые сотни сохраняются в различных местах Белоруссии, и все посвящены Пятенке (древнему богу женского пола), на место которой во времена христианства устроены часовни Параскеве Пятнице. В большей части из них сохраняются всегда очень старинные изваяния св. мученицы из дерева и всегда очень грубой работы тех далеких времен, когда не ведали долота и скобля, еще кое-как владели топором, и то не всегда железным. Плоские лики таких изваяний с трудом напоминают что-либо человеческое, но сплошь и рядом увешаны всякого рода приношениями, от серебряных вещиц до шелковых лент и кусков холста. Все такие от глубокой старины священные места носят старинное, везде забытое славянское название, ни к чему уже больше и по Белой Руси не применяемое, – название прощи, и «идти на прощу» – значит в крестном ходу на святое место, а «идти, як на прощу якую» – значит идти веселой толпой на девичье гулянье. Известное дело: девичьи хороводы и пляски натаптывают не только здесь, но и везде на Руси, все святые и почтенные места, и притом с большим усердием, именно в те самые времена, на которые указаны у древних кривичей и новгородцев с полянами дни празднования в честь богов.
На мстиславскую прощу некогда, во времена борьбы с католичеством, когда энергически заводились православные братства, ходил народ многолюдным крестным ходом (давно вышедшим из обычая). Мстиславские православные девушки ходили петь песни, водить хороводы и другие древние прародительские игры на так называемый Девичий Городок, на Троицкую гору (Кладбищенскую) и еще на одно место на так называемом Подоле (то есть узком побережье р. Вехры, отделяющем ее от городских гор, по тому же примеру, как на киевском Подоле, на могилевском и др. под., на этих местах первоначальных заселений).
Девичий, Девий, а может быть, некогда и просто Дивий (от «див» – божество) Городок – такой же примечательный остаток укрепления, как и замок, но гораздо меньше объемом и нижеобращенный, однако в ту же сторону, на реку Вехру, стоящий в долине, отдельно от городских возвышенностей. Тут и там возвышения имеют одинаковый вид с приподнятым, выше насыпанным одним краем и покатым другим: первый, конечно, против неприятеля, второй – подъемный к своим. Кругом того и другого возвышения насыпаны валы. На Девьем Городке – гораздо хуже: время почти сровняло их с площадкой возвышения, давая вероятие предполагать, что укрепление городка очень подержанное, старее замкового. К тому же и народ сохранил предание, что гору Девью натаскали фартуками девки-богатырки, засыпая могилу богатыря, доброго молодца, всеми ими оплаканного. Потом на горе этой в урочный день богатырки-девки творили по нем тризну, делали всякие игрища. Вот и следы кривичей.
Тут и теперь, как растает снежок, нынешние горожанки в шубейках поют веснянки, пляшут, играют, просо сеют, лен топчут, ребята играют в свинку. С возвышения этого один только спуск, направленный в сторону Подола – первоначального места мстиславского поселения. Во все другие стороны горка опускается круто, напоминая собой ванну обычной, всем знакомой формы. К тому же среди площадки глубокая выемка, такая же, как и на замке, только значительно меньшая. Замковая впадина, образованная нарытыми валами с хорошо сохранившимися амбразурами или впадинами, разрыта теперь огородами и обставлена семью избушками на курьих ножках, принадлежащими отставным солдатам и построенными в очень недавнее время. Площадка настолько большая, что могла вместить и Никольскую церковь, которую мы видели раньше на костельной картине, и княжеский двор с приспешнями. Солдаты, копавшиеся в огородах своих, откопали седло, совершенно сгнившее, с перержавевшим железом. Во многих местах отрывали гробы.
Площадка Девьего Городка настолько, однако, широка, что на ней могла установиться небольшая церковь – конечно, исчезнувшая церковь Ильи; вот по какому соображению[4].
На всех возвышенных местах, круто оступающихся в воду (как в данном случае на Девичьем Городке), по свидетельству наших летописей, ставили славяне изваяние своего верховного бога грома – Перуна, покровителя земледелия и семейной оседлости. Когда приходила на его честь и славу невзгода, катить его в воду было недалеко и нетрудно. Вот почему развенчанный бог всегда уплывал по реке, и народ бежал за ним по Подолу, прося его «выдыбать» из воды. В Киеве он послушался (на том месте теперь Выдубецкий монастырь). В других местах, где не брала его сила, о нем забывали, на место свергнутого бога ставили православную церковь и посвящали ее пророку Илие, который и до сих пор, по народному суеверию, производит гром колесницей и низводит молнию от копыт своих огненных коней. В Белоруссии до сих пор нет иного названия для молнии, как – перун. А между тем, по сказаниям летописи, в Киеве самая первая христианская церковь Ильи, в Чернигове и Полтаве – также. В Кричеве, соседнем Мстиславлю местечке, Ильинская церковь также на отдельной горе, круто оступающейся в воду р. Сожа; также и в г. Могилеве на Днепре, во Пскове над Великой и везде, где только население города самое древнее. Для белорусского края это неизменный закон, который мы теперь не развиваем подробно: пора выходить из трущоб седой старины и из мстиславского захолустья-оврага, застроенного лачугами крайней мещанской бедности, на гору, в город. Здесь ждут нас более современные и свежие впечатления.
Полюбуйтесь.
Мы попали на ту сторону города, где въезд во Мстиславль из торгового местечка Хославич и из окрестностей, где разбросано наибольшее количество деревень. На улице, вблизи самой дороги, стоит большой точильный камень, предлагающий услуги тем, кто мимо идет, поточить топоры, косы, ножи: нечего хлопотать и искать точильщиков по городу. Точит еврей и собирает деньги.
Вот и шинок, а подле продавец бубликов: выпить и закусить не угодно ли? И тут и там, конечно, евреи.
– Чи не надо ли лошадь подковать?
Вот для этого три кузницы.
– Что продаешь? Покажи! Что везешь в город?
Для этой перекупки и поселились на этом въездном краю города (как и во всех) торговцы целым десятком домов.
– Куда торопишься? Подожди, вот поди выпей, а потом потолкуем. Я тебя угощу и деньги за тебя заплачу.
На наших глазах седой плут оплел молодого парня, и толковал недолго. Постояли – торговались: купец – 50, мужик – 85. Купец надбавил, побожился, что на базаре цена 70 коп. – и ездить-де незачем. Мужик сел на 80 и уперся. Купец больше 70 не давал; мужик тронул в гору, но купец, идя позади телеги, не выпустил его, ухватясь рукой за соблазнительный мешок с рожью. Вот уж и повернули в сторону – к дому покупателя.
Не доезжая до поворота, купец совал в задаток два пятиалтынных – остальные дома на дворе. Совал он задаток навязчиво и торопливо: с горы сходил рыжий торговец, говорят, самый опасный. Он уже окликнул продавца, но дело было кончено.
Я поспешил объяснить рыжему: продано, мол.
– Что?
– Рожь.
– За сколько?
– За 80 копеек.
– Даром взял.
Причмокнув языком и с отчаянием махнув рукой, поплелся мой рыжий в свой дом, который, как и все другие, по милости таких операций и на таких бойких местах, снаружи довольно благообразный, светлый и новый.
Также на краю города стоит и историческая святыня города Мстиславля, мимо которой также пройти невозможно, потому что она выводит нас уже прямо к цели. Это Тупичевский монастырь, сослуживший свою службу православию на грани с католичеством, вместе с Кутеинским (в г. Орше), как миссионер в прошлом. В настоящем это – деревянная развалина, приписанная к городскому каменному Николаевскому монастырю. Кругом Тупичевского монастыря низенькая каменная ограда, и затем все деревянное и ветхое. Кругом церкви обходит своеобразная крытая галерея-паперть. Три низенькие здания келий, одна жилая половина с бальзаминами и геранями на окнах; другая запущенная. В церкви – режущая глаза бедность; торцовый дубовый пол перекоробило до того, что есть опасность споткнуться и упасть: давно пол сделан и сильно выбит.
Возвратившись из монастыря по узенькой, обсаженной деревьями аллее в город, увидим каменный собор, переименованный в таковой из полковой церкви, выстроенной на казенные деньги, а затем все остальные приходские городские церкви деревянные. Все пять заветшали, и в особенности Афанасьевская молит о внимании и защите: на стенах, обитых тесом, буквально сидит заплата на заплате – истинное рубище, из-под которого даже невозможно распознать, в каком стиле задумана была и исполнена эта бедная, разрушающаяся церковь. И все это ввиду следующего, весьма оригинального и серьезного обстоятельства.
На том краю, где стоит Тупичевский монастырь и расположена Казимирова слобода (с бывшей униатской, также деревянной и ветхой церковью), выстроилась вторая отдельная слободка, не носящая особого прозвания. При посещении ее нас резко поразили дома знакомой великорусской конструкции, каких в белорусском краю слыхом не слыхать, видом не видать. В стенах крупные бревна, постройка на стульях; прорублены широкие окна по три и по пяти. Под крышей опять окно, и под ним классический великорусский балкончик с балюстрадкой, ни к чему, как известно, не пригодный, но тем не менее неизбежный. Дом резко выделяется из всех остальных полуразвалившихся низеньких землянок пригородной слободки. В бревенчатом (а не плетеном по белорусскому обычаю) заборе тесовые ворота с навесом.
Это дома кубраков, особого рода промышленников белорусского племени из мстиславских мещан, занимающихся сбором подаяния на церкви по всей России, в Москве, за Москвой и в Петербурге.
Промысел этот давний, так что до начала и корня его, как равно и до корня слова, выражающего прозвание, подлинным путем и добраться теперь за давностью лет невозможно. Несмотря, однако, на то, мстиславские кубраки городских церквей своих не поправили, а между тем занимаются сбором денег на церкви, кубрачат, говорят, человек до пятидесяти. В 1865 году могилевская консистория по наведенным в ней справкам выдала на имя мещан сборных книг в пользу церквей Могилевской епархии 27 и на имя других лиц 24 – итого 51.
В 1866 году новых книг выдано мещанам – 24
Того же года и тех же книг другим лицам – 28
Итого – 52
В 1867 г. первым скреплено книг – 25
вторым – 29
Итого – 54
При таком постоянстве цифры можно судить об устойчивости кубрачества и о твердости основ, на которых движется это странное немудреное дело.
А вот и дело в ходу, и книжки в деле по сведениям канцелярии спб. обер-полицмейстера, обязанной свидетельствовать все те из них, которые будут потом разноситься по столичным дворам, показываться и подноситься по петербургским церквам и частным квартирам. Из 580 (средним счетом) ежегодно свидетельствуемых здесь книг (иногда одну и ту же по два и по три раза в год) в 1868 году подписано крестьянам 208, мещанам 17. Между фамилиями этих мещан мы встречаем две таких, которые хорошо известны в Мстиславле (Голенок и Хижинский), но и в остальных выразились те, которые наглядно свидетельствуют о том, откуда вылетели птицы – певчие птицы петербургских дворов во всякое время дня без разбору (чаще, впрочем, после обеда)[5]. Прислушаемся к ним и познакомимся с ними.
Без дальних и окольных слов скажем прямо.
Кубраки – промысловые люди, характерные разве тем только, что народились в стране, где дремлют все промысловые силы и давно убито в коренном населении всякое ремесло, но где все сплошь земледельцы с ничтожными оттенками промысловых людей для неизбежных дешевых домашних надобностей. Кубрачество – промысел самого грубого дела, самым обыкновенным образом основанный на коммерческих расчетах и обставленный однородными же беззастенчивыми приемами. Где какой товар в ходу, чем больше торгуют, туда и за тем мы и едем.
Издревле в великой России велико усердие не только к храму Божию, но и к его благолепию. Золотят иконостасы, главы и крыши, не забывают даже и колокола: не только отливают их с громким звоном, но стараются навешать таких голосистых по нескольку. Мало того, навешавши множество колоколов, подбирают их под тон и заставляют звонить так умильно и согласно, что, например, в ярославский Ростов ездят слушать из Москвы нарочно. На постройки заново больших каменных храмов у богатого купечества являются крупные заветные и обетные суммы. Выделяются дни, особо посвящаемые многоразличным подаяниям на благотворительные дела, между которыми жертва на церковь полагается самым богоугодным делом. Ни одному просящему на церковное строение отказать не хочется, и последняя копейка даже крайнего бедняка сплошь и рядом звякает на жестяном блюдечке сборщика. Ни один трактир в Москве не откажет во впуске просителя на нужду церковную; один купец в Москве (Ив. Ив. Четвериков) собрал на церкви Северо-Западного края больше миллиона. На школу иной не даст, над богадельней задумается, на построение же и украшение Божьего храма у великорусского купечества растоплено сердце и нет заветной копейки.
«Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь» – гласит надпись на многих из московских церквей.
«Возлюбих благолепие дому Твоего от юности моея» – ответно гласит другая надпись.
За даянием на подобные дела не стоит коренной, обеспеченный в жизни русский человек. Попробовали проверить это на деле западные русские люди, когда началось в Малой и Белой России гонение на православную веру и православные церкви (а местные ревнители все обратились в католичество, и великие князья и княгини литовские, и Солтаны, и Ходкевичи, а православные братства успевали собирать только малые рубли). Попробовали первые ревнители сходить за помощью в православную Московскую Русь и самым делом убедились в том, что рука дающего там действительно не оскудевает. Сделались хождения эти обычным делом. Один выходил больше, умел просить и рассказывать, узнал подходы, проникнул в тайны благотворительных сердец и в свойства характеров благотворителей, – стало хождение это семейным достоянием, за смертью счастливого отца передаточным-преемственным для его сына, потом и родственников, а наконец, и ближних соседей, по справкам и наблюдениям и после откровенных разговоров.
– И наше дело требует науки, – наивно заметил мне один из мстиславских кубраков.
– Весь город Мстиславль есть кубрак, – откровенно высказывал мстиславский обер-кубрак, давая намек, что теперь все городские жители по родству принимают участие в кубрачестве.
Сделалось, таким образом, это занятие привилегированным для целого города. Объявились в нем такие мастера, что к ним хоть с заказом приходи (да так и делывали): лучше никто не сделает. На том встали мстиславцы и прославились. Кубрачит еще кое-кто из дубровенских (жители местечка Дубровны Оршанского уезда), да против мстиславских им не сделать, особенно с тех пор, как в благочестивый подвиг вкрались, греховным людским делом, злоупотребления и богоугодное занятие от разных посторонних соблазнов стало превращаться в промысловое предприятие, с вознаграждением за личный труд, когда, словом, стали нанимать кубраков и за известное вознаграждение посылать их на Русь за подаяниями. Ревнителей на такое дело нашлось много (даже известны имена многих из них). На поощрениях недобрые дела возросли и укрепились, а подходы и приемы приняли систему и законченную организацию.
Попробовали положить предел злу книжками со шнуром и казенной консисторской печатью.
– Попробуй вырвать, что написано, попробуй не донести тех денег, которые указаны в книге!
Завели книги, но забыли, что грамотных жертвователей на Руси еще очень немного: записал бы иной имена на поминовение, да писать не умеет, да на ходу и написать нечем. Из иной деревни за чернилами и грамотеем надо бежать до села и до самого отца дьякона. Забыли также и то, что истинно благочестивые вкладчики стараются жертву свою оставить в тайне и дают правой рукой, с тем чтоб не ведала и не видела левая. Но так как многие и пишут (надо же и записать кому-нибудь, чтобы принести что-нибудь), то, чтобы крупные деньги не вывалились из-за пазухи, можно подделать и подсунуть фальшивую книжку. Здесь, в Петербурге, не так давно поймана была сборщица, у которой в сборной книжке откровенно и бесцеремонно написаны были чувствительные и веселые стишки.
– Ох, много насеяно греха по белому свету! – говорил мне правдивый оценщик кубрацкого промысла из туземцев мстиславских.
– Дело кубраков – грех большой перед Богом: на церковь просит – на себя тратит.
Книжка сборная в неграмотной и бесписьменной России, к тому же раздающей милостыню по буквальному евангельскому слову, нерассчитанно придуманная, стала помогать делу далеко на меньшую половину, но обнаружила своего рода особенности: в числе вкладчиков оказались рядом с князьями – архиереи, рядом с жертвой в 2 коп. за здравие десяти человек (четко прописанных) – жертвы в 250–400–500 руб. за упокоение души усопшей. Книжка сборная, таким образом, оправдывает необходимость сборщика, который пришел бы ко мне и намекнул о нужде и, если я не в духе или без денег, понаведался бы в другой раз, когда у меня и деньги будут, и добро-елейное настроение духа меня не покинет.
Хорошие сборщики так и делают: кричат на одном дне по нескольку раз.
У мстиславских кубраков их промысловое дело повелось самым простым способом и в наше время руководилось такими приемами.
Скопивший деньги (без денег на кубрачество как на чисто коммерческое предприятие выходить уже давно нельзя) в ближайших деревнях нанимает работников в качестве пособников, человека 3–4. Между ними двое молодых, третий поопытнее, бывалый, но несчастливый. На этого последнего обер-кубрак сумеет выправить отдельную книжку и, таким образом, идет играть на две руки в один карман.
Впрочем, такие случаи редки. Обеспеченных собственным капитальцем можно, наверное, указать двух, действующих уже, конечно, шире, самостоятельнее и решительнее других. Чаще и обыкновеннее кубраки – люди смелые, но бедные: при легкости заработка привыкшие не ценить плодов его и пристрастившиеся пропускать их прахом, то есть пропивать. Тем не менее это люди, вкусившие соблазна до острой болезни, называемой попросту повадкой, или привычкой, или своего рода запоем.
Подошла с острыми клещами нужда – он и задумался:
– Надо добыть денег на дорогу. Ноют ноги, просят работы, давно не бывали в деле, в дороге. Давно по Питеру не гуливал, Москвы не видывал, в тамошних кабаках водки не пивал. Надоели до тошноты эти домашние шинки.
Сумма, нужная для того, чтобы собраться «в дорогу», собственно, и не Бог знает какая крупная, чтобы из-за нее искать Кронебергов и Ротшильдов. Таких богачей и во Мстиславле каждый кубрак находит для себя довольное число.
Для того чтобы подняться с места и пуститься в путь, полагают обыкновенно достаточным 200 руб. сер. Надо себе выправить паспорт и заручить таковыми же помощников, которые, сверх того, требуют еще задатков для домашних. Плачивали благочинным за рекомендацию консистории, плачивали в консистории за рекомендацию России и за то, чтобы получить книжку не на одну какую-нибудь церковь, а на всю епархию. Грехов и расходов было много.
Надо было лошадь купить, телегу; выезжали на Русь, как цыгане. Теперь необходимо и товарищей одеть по-русски: вместо колпака-магерки картуз с козырьком, вместо куцей свитки долгополый черный армяк, вместо лыковых каверзней и лаптей кожаные сапоги.
Теперь кто идет на чистые деньги и на богатые приношения парчей, шелковыми материями и церковными принадлежностями, тот прямо садится в Витебске на железную дорогу и едет в любую сторону: через Двинск в Петербург или через Смоленск прямо в Москву – куда возьмет смелость и куда наторена дорога. Впрочем, и теперь те, которые умеют ладить с деревенскими вкладами в виде холста, отсыпного хлеба, яиц и тому подобного, отправляются в путь старым способом – в телеге, а бывалые – не на одной, а на тройке. Первые уходят года на два, чаще на один год. Бедные и несмелые пускаются на промысел в ближнее соседство, в чужие губернии, например Смоленскую и Псковскую, раза два в год: уедут осенью, на зиму, а к колядам (Рождеству Христову) возвращаются. После Святок опять в путь до Великодня (Пасхи). Лето дома: занимаются хозяйством, помогают женам.
– Приходят и кому посчастливит, – объясняет знаток и руководитель мой во Мстиславле, – один с деньгами, а другой и так приходит, ворочается ни с чем. Тоже и у них кому счастье. Что наберут из товару, тем в городе нашем не торгуют (тоже совестятся!), продают где-нибудь на боку (по-белорусски; на стороне – по-великорусски).
– Уедет на плохой тележонке, лошаденку уведет маленькую мужичью – назад оттуда приводит коней во каких здоровенных! Продают их здесь с большим барышом. У счастливых промысел в руках очень выгодный. Поглядите их в церкви (молиться они любят и крест кладут не по-здешнему, а размашисто: ото лба до подпояски с заброской, а от плеча со спины до другого плеча со стуком и с вывертом).
В церкви мы видели кубраков в суконных сюртуках, при жилетках, в брюках и смазных сапогах. Серый белорус совсем в них исчез. На головах на улице в праздник круглые шляпы, ценой рубля в три.
– Женам привозят пояса дорогие, – продолжали мои толкователи, – привозят дорогие материи. Вон кубрачка идет, а на воре и шапка горит: материя-то на платье такая самая, из которой ризы шьют. Ох, велик их грех, и не умолить им его!
– Знаете что? У нас такая вера про них: ни один кубрак в родную землю не лег, помирал где-нибудь на боку (на стороне). Сказывают, недалеко где-то корчма есть такая, а кругом могилы: все это кубраки. Опиваются.
– Пришел домой – праздник: давно не видались, вживе нашли. А у него деньги. Давай пировать на радостях. Сегодня пир, завтра пир. Так и опиваются. Где пил, тут и слег, а опивцов не велят класть на кладбище, ховают (хоронят) их на околицах. Вот слово-то про них не мимо шло, и поверье свято. Про это в наших местах и уличные мальчишки смекают. Кубрак кричит своим голосом «на каменное строение», а они за него докрикивают «на кабацкое разорение».
– Каким способом они промышляют?
– Нам за горами не видно, а знаем, что через полгода вышлет домой хозяйке сто рублей. Хозяйка 50 спрячет, 50 за долги отдаст. Прошел год – опять присыл: опять хозяйка половину на себя, другую половину – за долги. Сама защеголяла: беспутные они у нас. Муж вернется, а долги кое-какие все еще ждут его и стоят у ворот. Начнет его кредитор пропекать, только отмахивайся. От этого одного они часто опять уходят «в дорогу».
– Кубрацкие жены (надо говорить правду) никакими работами не занимаются. С них довольно присыльных денег. Правда, свиней разводят – это для нашего города хорошо.
– Мы судим дела их по-здешнему: как сбирают? Пришло сюда письмо с деньгами от московского купца на новоявленные мощи, и имя сказано. А сказано имя живого архимандрита. Так-то один голубчик и попался, да который – узнать не могли: ушло их много.
– Еще доходили слухи, что такой-то в Кронштадте по кораблям стал ходить и хорошо ему там было: собирал много. Стал один монах следить за ним. На американских кораблях насбирал он, по его счету, тысячи две. Спросил он у него книгу, а там его рукой копейки записаны, рублей нет. Отписал монах секретно куда следует: «Такой-то-де то и то, вернется – поверьте его книгу». А он вернулся да домик себе подновил. Этот опять на промысел пойдет – занимать денег не станет.
– То и худо, что такие стали малых ребят брать из деревень и учить нехорошему своему ремеслу. Обученные спознали науку, сами стали этим заниматься. Вышло кубрачество из нашего города в деревню – вот худо! Короче сказать, их уличные мальчишки так дразнят: «У Голенкиной рощи проявилися мощи – дайте на покрывало». Этим они очень бывают недовольны и обижаются.
– Знать, нехорошо занятие, и сами они его не хвалят, когда свой язык выдумали: когда они промеж себя говорят, разуметь их никак невозможно, только и слышишь: шайкашири, шайкашири и какие-то опять слова; тарабарщиной они такой разговор свой называют[6]. Такому языку своему и ребят-учеников они выучивают.







