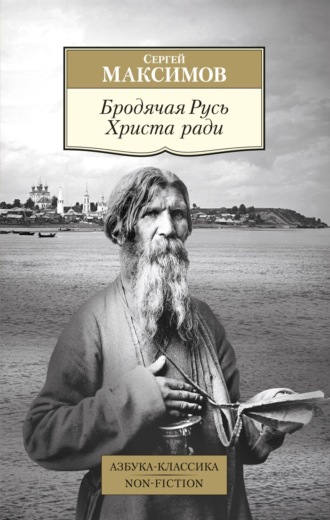
Сергей Васильевич Максимов
Бродячая Русь Христа ради
Прошакам в дорогах не теряться стать, на пути надежных сборов немудрено попадать, и на выбитых колеями и ямами торговых площадках они не споткнутся: здесь их сила еще не находила соперников и противников.
«Если человек из дальних трущобных стран вышел пешком, шел впроголодь и ко мне пришел, значит велика его нужда и я ему нужен, для меня он пришел. Надо разом два дела делать: и ему помогать, и спасать свою грешную душу. Дареные гроши на построение храмов Господних хоть и такие же коротенькие, как всякий базарный грош, да тем они хороши, что горячи очень и сильны; эти жертвы на церковь окупают и замаливают самые большие и тяжкие грехи, какие содеял и за которые и попова молитва, и твое собственное покаяние не всегда сильны и действительны. Чем больше и чаще даешь на церковь, тем больше и вернее смертных грехов откупаешь» – так думают верующие люди.
Богатые из них по таким делам совершают изумительные подвиги: строят не только обширные церкви, но и целые новые монастыри.
– Дашь одному, не откажешь другому: сколько за тебя молельщиков-то в разные стороны по православному миру разойдется?
– Чем тяжеле у купца лежит грех на совести за обиду мужичью, – замечает народ, – тем он звончее льет колокола, тем выше кладет колокольни и шире строит церкви. У таких и на подаяния скорые руки, и на такой конец выбран в году день, да и не один, а у хорошего до десятка. В такие дни всякий входи к нему смело и принимай милостыню.
Принимают и такие, что из ворот милостивца да прямо противу его дома – в кабак. Впрочем, не судите, да не судимы будете.
Плечо о плечо, тесной стенкой в строго вытянутую прямую линию, не толкаясь и не ссорясь, как нищая братия, но со смиренным видом, эти положительно смиреннейшие люди на всем лице земли русской стоят на всех главнейших пунктах народных сходок. Скрипучие голоса их резко выделяются монотонными звуками среди певучего речитатива о двух Лазарях слепой нищей братии и время от времени осиливают крикливый говор тысячеустого базара, который любил говорить с откровенностью громко и вслух и очень шумлив, потому что всегда спорит о крепко нужной и дорогой копейке, которую стараются выторговать у него владеющие тысячами рублей. Протискиваясь между телегами, ныряет своей непокрытой головой в волнистом, неустанно колеблющемся море базарных голов прошак наш, разыскивая ту сдачную копейку, которую на церковь Божию никому не жаль отдать, так как она пойдет молить Бога за укрепление сил трудового рабочего люда, большей частью тогда, когда эти силы изнемогли и следом за ними напал неизбежный страх бессилья. Осенью, когда загудят сельские базары после костоломных летних полевых работ, обязывающих русского человека сделать в пять месяцев то, что другие, счастливее обеспеченные природой, народы делают в двенадцать месяцев, – осенью прошаки счастливее. Это время считается ими наиболее удачным и урожайным. В это время на храмы Божии поступает помощь прямо из народа, непосредственно из его трудовых честных рук.
Итак, осенью на базарах, зимой по домам, летом и весною в больших городах и на столичных дворах: вот немудреная программа задачи всякого прошака.
…И дают ему прохожие.
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы Божии
По лицу земли родной, —
скажем словами поэта.
Глава V
Походил прошак, повидал свету, с людьми ознакомился. Если бы идти снова, наверное, теперь он собрал бы больше, многих ошибок не делал бы. Впрочем, надо отдохнуть, посмотреть, что станут делать на собранные им деньги, за которыми сам архиерей к себе приглашал, благодарил, благословил иконой и книжкой своего сочинения. Есть чем и на селе похвастаться.
Впрочем, и без этого он несет к своим на себе и в себе много такого, вследствие чего теперь ему другая цена. Прежний человек вдруг преобразился, стал казаться на глазах соседей совсем другим. Не возобновлялись насмешки. Озорных стали останавливать те самые, которые прежде их натравливали. Домашние, привыкшие поглядовать искоса и исподлобья, теперь поворотились прямым и открытым лицом и сделались приметно ласковее.
– Ты теперь всю землю прошел, как нам с тобой и говорить-то?
– Сподобил его Бог великое дело сделать! – разъяснял недоразумение священник.
– Свят стал, блаженным мужем сделался! – поддакивал причт.
– Надо быть, он теперь не нам чета.
– Надо, видно, ему шапку снимать и низко кланяться. И умудрил его Господь на такие слова и чудесные рассказы, что по соседству у нас таких и не сыщешь! – толковали вслед за другими деревенские соседи, отпустившие ему грех бесполезного житья в качестве земледельца и тяглового человека.
На селе и по деревням ему почет пошел.
Почет увеличивался и уважение возрастало по мере того, как вычинивалась церковь, украшались ее внешность и внутренность. С окончанием работ торжество прошака самое полное. Искренно же и простодушно торжествовал он сам, внутренне. Ему самому почувствовалось собственное обновление и перемена внешних условий жизни прямо на лучшее.
Явилась солидность в движениях, сдержанность и рассчитанность в речах. Много переговорил и наговорил он, много видел от своих рассказов: и непритворные вздохи, скорые и легкие бабьи слезы. Этим он всем угодил и, заставив забыть прошлое, вынудил глядеть на себя совсем другими глазами. Когда все улеглось в обычную и обыденную колею и жизнь поволоклась медленными и тяжелыми шагами от воскресенья до воскресенья, наступило время поверки самого себя.
Что оказалось?
Скучно стало дома. Приволье и разнообразие чужих мест со всякими диковинками и разными неожиданностями снуют в воображении неустанно и надоедливо. Первая чарка вина выпита, и вина такого вкусного, что руки тянутся к нему опять и неудержимо. Снова бы сходил, снова бы пошатался! Ни к чему теперь, и в самом деле, не годен стал, кроме этого хорошо и доточно охоженного и понятого до подноготной дела.
– Но как и куда пойти?
Над этим не заставят задумываться те, которые видели результаты трудов и хлопот. Починки церквей всегда и везде найдутся. Слухом земля полнится. До прославленного человека немудрено дойти: хваленого все укажут.
– Не возьмешься ли?..
– С полным моим удовольствием, радостно и охотно.
Опять путь-дорога, и опять все сначала, как бесконечная сказка про белого быка.
Раз попавшийся на эту зарубку – не соскакивает и очень часто всю жизнь свою изнашивает на подобных странствиях, пока не подломятся ноги и хвороба или дряхлость не уложат на печь прислушиваться к чуткому звону церковного колокола, вылитого его усердием и бескорыстным и неустанным стяжанием.
Глава VI
Кроме православной Руси, существует еще, как известно, Русь староверская или, вернее сказать, старообрядская, широко распространенная и несравненно более многочисленная, чем обыкновенно привыкли о том думать. Не столько, в сущности, старая вера, сколько в действительности старый обряд в ней держится на двух главнейших основах: с беглым попом и без попа.
Поповщина с церковным обрядом и зависящими от него общественными обрядами и обычаями не слишком далеко отошла от православной обрядности, особенно в том ее виде, в каком является она в старинных и глухих лесных местностях.
Беспоповщина, принужденная урезать и сократить церковную обрядность в контраст прочим, дошла во многих случаях до полного сокращения ее и удержала за собою только те обычаи, которые глубоко вкоренились в быт и издавна составляли народную русскую особенность.
В то время, когда влияние прогрессивно развивавшегося духовенства и развитие самого народа, не стесненного строгими претензиями и ревнивыми правилами секты, изменяло обычаи, упрощало и сокращало обряды в средине православия, – старообрядство полагало все свое спасение в том, чтобы удержать завещанное предками и пережитое веками. Отсюда в жизни старообрядцев и их верованиях с верным и наибольшим успехом можно находить остатки языческих времен и языческого культа, бережно сохраненного уставщиками одной крови и плоти с народом. Беглый поп, являвшийся крадучись изредка гостем, на короткое время, вполпьяна, с главной целью – за совершение обрядов получить поскорее плату, не пользовавшийся никаким уважением и доверием и допускаемый с приметным оттенком презрения, не имел никакого влияния на религиозную, общественную и домашнюю обрядность и мог лишь вредно действовать на церковную. В беспоповщине и это вредное влияние устранено: церковная обрядность ослабела даже до Спасова согласия, характерно прозванного также нетовщиной, а семейная и общественная жизнь еще больше удержалась на основах старого доисторического народного быта.
Обе гонимые, но первая несколько успокоившаяся в единоверии, обе принужденные забегать в глухие леса и там скрываться. Сверх сплошных поселений в ближайшем соседстве, обе обрядные веры приобрели на свою голову отдаленные, разрозненные пункты. Они требовали общения и, мало того, даже простого заявления о своем существовании в виде небольших селений в десяток изб или в образе скитов – одиноких лесных жилищ, в большинстве случаев в таких неблагодарных северных местах, где наличные слабые человеческие силы изнывали в борьбе и ничего не могли сделать с гигантскими силами первобытной природы. Приходилось подавать о себе слухи к богатым милостивцам, успевшим при известной трезвости и бережливости (характерных особенностях старообрядцев) нажить в больших городах и около них крупные капиталы. Приходилось давать о себе знать из непролазных корельских болот с рек Выга и Лексы, с Топ-озера, из мезенских тундр, из скитов Онуфриевского, Керетского, Игнатьевского, Амбурского, с реки Мягриги, из чернораменных керженских лесов, из лесов уральских и т. д. Естественным образом на деревянные лесные избушки с рукописными церковными, старопечатными книгами, с иконами, источенными тараканами, для полуголодных скитников и скитниц надобился особый ходатай. Он-то и держал общение и крадучись пробирался к благодетелям под видом такого же прошака, сменившего лишь название у старообрядцев на запрощика и, конечно, без внешней формы и без атрибутов, не крикливый, но молчаливый, осторожный и искусившийся высматривать беду и выслеживать ее издали верхним чутьем и настороженным слухом.
Сбором людей этих исключительно держались все эти большие сотни старообрядских скитов, и вмешательством их поддерживалось твердое стояние староверства в своем деле и упорство его против всех поползновений к нарушению его целости и численности.
Волей и неволей запрощики одновременно совершали два дела: кроме роли сборщика, обязательно исполняли они должность проповедников, и, конечно, с бо́льшим успехом, чем удавалось это делать прошакам из православных. Порассказать им было что.
Из наиболее голодных и сильно ревнующих скитов выходил очень умелый и искусный запрощик. Выбирался не только грамотный и строго безупречной жизни, но и важный видом, сановитый. Большая широкая борода по чресла и длинный ус в таких случаях в глазах простодушных милостивцев много значили и для пущего успеха непременно требовались. Удовлетворяли эти телесные красоты без особенных затруднений. Успевали запрощиков подбирать и так, что складная речь, умелая находчивость, знание ими Писания, на медоточивых устах обилие священных текстов являлись неизбежными принадлежностями такого идеального ходатая и усиливали соблазнительную красоту его личности. Истовому крестному знамению, налагаемому им по «начале», следовало подражать; указаниям его на исправление служб надлежало бесспорно следовать; довести до ареста такого бесценного человека было бы большим несчастьем для всех, твердо держащихся древнеотеческих преданий. Непосвященным людям таких дорогих людей видеть было невозможно, а слышать удавалось только исправникам и судьям в коротких ответах на казенные вопросные пункты, и то в звании бродяг, отлучившихся от места жительства без указанного вида.
Тип такого рода прошаков неуловим, а потому и очень малоизвестен и в народе, и в литературе, а тем не менее следы его деятельности громадны по сравнению совершенно одинаких обрядов выгорецких скитов с уральскими, архангельских с керженскими и казачьих с сибирскими. Со времен знаменитого запрощика, инока Корнилия, ходившего по скитам и богатым городам за сбором еще во времена патриарха Никона, таких людей прошло в старообрядстве тысячи, и на этих тысячах крепилось и зиждилось все это громадное и многознаменательное явление русской народной жизни – раскол.
За это долгое время могли изменяться физиономии людей и самые люди, но едва ли изменились приемы и способы ведения дела. Как инок Корнилий, как Аввакум-протопоп и братья Денисовы могли в старинные времена рассказывать о жестокостях никониан и о стойкости мучеников, творившей чудеса, достойные удивления и благоговения, так и современные запрощики могли порассказать многое, не слишком отдалившееся от старины, без риторических рутинных приправ, а со всей голой истиной и при возможности указывать и опираться на живых и очевидных свидетелей.
Рассказы этого рода на успех сборов, конечно, имели самое существенное влияние.
Керженский, например, запрощик мог рассказать:
– Жил в лесах старец. Жил – укрывался. Видели его только те, которые приходили из дальних мест за благословением и наставлением. Жалел он их и допускал к себе. Дорога к келье известна была только немногим. Прознала полиция. Заподозрила в старце денежного монетчика. Собрали понятых, оцепили землянку. Сбежалось народу великое множество: с лесных промыслов, с гонок смолы и дегтю. Ждали отчаянного сопротивления: шли осторожно, оглядываясь. Впереди шел проводник, припал к землянке ухом и гнусливым голосом запел в трубу: «За молитв отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Сказал старец «аминь» – значит дома. Проводник спустился в землянку. Стал звать начальство: смирный-де старец, как голубок.
– Нет, лучше пусть сам старец выйдет.
Старец не пошел; велели вязать и тащить. Оказалось излишним: проводник вынул его, как перышко, и положил на камень. Дряхлый старик и сидеть не мог.
На допрос ответил охотно, что он – беглый дворовый человек, что спасается в келье 70 лет.
Были товарищи, да все перемерли. Другие разошлись; 30 лет живет совсем один, питается ягодами да грибами. Набожные люди приносят изредка мучки – колобки печет.
Пошли чиновники в землянку за вещественными доказательствами.
Вот и доказательства: стоит почернелая осиновая колода – гроб: это-де постель. У образов священные книги: это духовная пища и душевное утешение. Вот и телесная пища: в кадушке с полпуда муки; на деревянном крючке связка сушеных грибов. Еще на нарах кочадык, лыко да заплетенные лапти – вот и вся монетная фабрика.
Чиновники осматривали. Старец изловчился усесться на камне, перебирал лестовицу, читал молитву и старческим видом своим возбудил в зрителях почтение и благоговение.
На вопрос его: оставят ли его умереть под этими деревьями, вместе с ним состарившимися, – отвечали тем, что начали ломами щупать землю в стенах и на полу, велели вынести гроб, поставить его на обрушенный потолок и зажечь этот гроб и землянку.
Не скоро двинулись понятые исполнять приказание. В толпе любопытных послышался громкий ропот, и, когда вспыхнула землянка, полились слезы у свидетелей. Когда же пронесся между ними шепот: «Гроб-от занимается», старец вышел из забытья, очнулся, встал, оправился, твердыми шагами подошел к землянке и начал спускаться вниз, говоря: «В гробе сем испущу дух мой!»
Опаленного и дымящегося, его оттащили и посадили на камень.
Он пал на колени, шепотом читал молитвы и наконец припал к сырой земле.
Когда залили головешки и обратились к старцу, он оказался мертвым.
Никакая брань и угрозы чиновников не могли остановить бросившийся к трупу народ, набожно целовавший усопшего и отрывавший лоскутки одежды его себе на память как святыню.
Таких рассказов много могли разносить даже в недавние времена с реки Керженца и в особенности с злополучных рек Выга и Лексы эти живые свидетели и действующие еще рачители староотеческих преданий, осторожные и красноречивые запрощики. Да в этом, само собою разумеется, и заключается основная сила их дела и успеха. Для этих путешественников пути хотя и были длинны, но дороги узки и скользки. Хотя они не спотыкались на них, но попадали в сети, расставленные неискусной, но крепкой рукой.
Вместо добровольных путей для таких прошаков указывались потом пути подневольные, казенные, и притом совсем в другую сторону, где уже приводилось весь остаток жизни сбирать только на себя. На Сибири кончались их странствия. В глухих ссыльных местах умолкал их голос.
Часть II
Кубраки и лабори
У Голенкиной рощи
Проявилися мощи:
Дайте на покрывало!
Белорусское присловие
Глава I
Странствуя по невеселым захолустьям Могилевской губернии, ехал я из города Горки, замечательного только тем, что в нем некогда существовал земледельческий институт, превратившийся в очень скромную земледельческую школу, и в самом деле имеются две-три горки.
Не крупными впечатлениями наделил меня городок этот; без особых приятных воспоминаний остался он теперь назади, заслоненный густым лесом. С трудом пробивается узенькое полотно дороги посреди непролазных трущоб этого белорусского леса, веками выраставшего на сочной почве без всяких помех, и выходит в поле, закиданное камнями, под защитой которых ютится тщедушная рожь.
Затем опять лес и опять – не всегда – луг и поле, а вернее, болота, которыми, как известно, и в самом деле, несомненно, с сокрушительным избытком засыпана эта мокрая, лесистая страна Белоруссия.
Навстречу нам в одном месте вышло такое болото версты на четыре поперек, верст на десять в длину, с неприятным кислым запахом. Это не багна (топь), не багниво, или нажма (топкое место), не наспа (болотная росль, болотный лесок) или нимяреча (заваленное валежником мокрое место), а подлинное болото, как мы привыкли понимать его в России, с одной лишь разницей в произношении, болото не только с дрягвами – вечно дрожащими топкими местами, трясовинами и нетрами – совсем непроходимыми местами, – но и с тванями, иловатыми топями глубиной иногда до трех аршин, на которых уже ничего не растет и из которых продолжают сочиться подземные ключи. Там и аржи – места с накипевшей ржавчиной болотных руд и железной окиси, и мшары – места, поросшие мохом и кочками, и крутеи – водовороты, и иная болотная благодать и разновидность, на названия которых белорусское наречие настолько же по закону необходимости богато, насколько богаты, например, названия видоизменений приморских берегов на севере, лесистых местностей в средине России, разновидностей гор, долин и уступов на востоке России и в Сибири и т. п.
Местами спопутное нам болото успело просохнуть и превратиться в луговины, на которых поставлены стога с сеном и растет ситник (трава, похожая на мелкий тростник), охотно употребляемый белорусами на постели. На лугах маленькие ростом белорусы – мужики и малые ребята – убирают сено: мечут не в стога, а в копенки; большие ворочают, мальчики возят домой. Подпоясавши рубашку веревочкой и обвязав голову полотенцем, жнут рожь бабы, еще более маленькие ростом, чем мужчины.
Дорога наша кое-где идет гатью, но всего чаще по свеженабросанным ветлам. Вместо мостов встречаются лишь признаки таковых, и вопреки правилу русских почтовых дорог, словно торжествуя победу, дорога взбирается на мельничную плотину, выстроенную частным лицом про себя, вовсе не для подобных неожиданных целей. Маленькие мужички на маленьких лошадках и телегах могли проторить дорогу лишь очень узеньким полотном (сравнительно с общерусскими). Малое движение на нем с редкостным встречным обездолило дорогу еще тем, что проложило только одно узкое полотно, и делаются два лишь там, где надобятся объезды. Во многих местах битая дорога совсем заросла травой, и давно. В иных местах, среди самой дороги, выросли густые кусты – могучая сила природы одолела бессильного человека. В отчаянии он опустил руки, опустился сам и запустил все кругом себя, время от времени просыпаясь только для мелких и ничтожных починок и поправок, а не для энергической коренной перестройки, как бы следовало. Вот на том месте, где произошли растани, то есть встретились две дороги, по древнему русскому обычаю на таком крестце выстроилась часовенка с неизменным резным распятием.
На этот раз около него поставлены две резные из досок фигуры, имеющие изображать двух Марий; одну перегнуло ветром – и никто не поправит. Нарисованному распятию и признаков нет; дожди загноили и ветры зачернили все фигуры до такой степени, что лучше было бы, когда бы их совсем тут не было. Запущенность и уныние на каждом шагу навязчиво бросаются в глаза и наводят на сумрачные думы, для которых много простору. Белорусский ямщик не развлечет: он не поет песен и не разговаривает, он весь углублен в себя и, разбуженный настойчивыми вопросами, является плохим толкователем виденного.
– Отчего трудные работы делают у вас бабы, а легкие – мужики?
– Мужики к жнитву непривычны. За бабой у нас еще кросна, пряжа. Потому ей и цена такая малая.
– Да ведь она, стало быть, больше мужика работает?..
– Ну так ведь она и податей не платит.
Затем опять, помолчав очень долгое время, говорит белорус:
– Баба хороша тем, что, когда мужик придет в избу, изба теплая: баба вытопила.
Он замолчал надолго: тряхнуло нас так, что он чуть не соскочил с козел. Меня метало из стороны в сторону еще очень долго все по той же ломаной дороге, которая то брела по оврагу, то поднималась на гору и награждала тут и там толкотней по болотистым накатам и бестолково разбросанному фашиннику. Вот наконец и станционный домишко, до невозможности безобразный. При этом он так стоит под крутой горкой, что разбежавшихся лошадей трудно остановить у крыльца, а шальная дорога то и дело заворачивается, вертится, кубарем бежит под гору. Для того чтобы попасть на станционное крыльцо, надо проехать его мимо и опять вернуться назад на гору.
– Вот и в рай приехали, – заметил ямщик, силясь острить, и добавил: – Из пекла (совершенно справедливо) в самый рай приехали.
При этом он вяло улыбнулся. Действительно, мы приехали в селение Рай, названное так потому, что и соседний фольварк носит это сильное и красноречивое название, ничем, собственно, не оправдываемое и присвоенное местности, вероятно, каким-нибудь затейником и шутником-паном.
Впрочем, в Могилевской губернии есть еще один Рай да три Раевки, одна Раевщина. Сейчас за тем Раем, где я меняю лошадей, по дороге – в контраст – деревня Чертово, стоящая в ущелье и в местности очень скучной. Но этот Рай – не цель нашей поездки. Цель еще впереди на целый перегон.
Поредели леса, обещая скученные селения, и наконец они совсем исчезли, когда селения чаще и чаще стали выбегать навстречу и виднеться во множестве с обеих сторон; сбиваются в группы и как бы силятся тяготеть к ближнему, большому и сильному центру, который в этих случаях охотливо подозревается.
Кое-где виднеются рощи, большей частью сплошные липовые, искусственно насаженные при усадьбах. Одна роща стоит дубовая, нарочно сбереженная и бережно охраняемая. Усадьбами или фольварками изрезаны все окрестности.
– Тут что ни хата, то и пан, – объясняет ямщик.
Селения эти – околицы, некогда основанные для ополячения края и населенные шляхтой.
Но вот, не доезжая 12 верст, на высокой горе выясняется красивый город, даже белеющий церквами, что большая редкость в уездных белорусских городах.
Эта цель нашей поездки – город Мстиславль, превратившийся на белорусском языке в Амцислав (по тому же закону, как из орловского Мценска стал Амченск). Мстиславль – город почтенной древности, одно из первых заселений края, укрепленный в те времена, когда русские князья не придерживались еще христианских имен, а назывались по старой привычке народно-славянскими.
Укрепил селение городом и дал городу имя своего сына – Мстислава – смоленский князь Роман Ростиславич раньше 1180 года.
Впрочем, не для археологических разведок и раскопок мы сюда приехали, хотя в бедной впечатлениями белорусской стране стараемся взять все, что дадут.
Охотно идем навстречу этим подачкам. Они на первых шагах и на первых порах во всяком городе и местечке всего западного края одни и те же, как заказные. Пройти мимо нельзя, потому что очень навязчивы, и у нас, в Великороссии, вовсе не известны. Первый знакомый – еврей, и первый разговор неизбежно с ним, когда бы ни приехали – положим, вечером, как случилось со мною во Мстиславле.
Не успел я отыскать гвоздь, чтобы повесить запыленное пальто, как в полуотворенную дверь классическим полуоборотом, столь всем известным даже по александринской сцене, уже протискивался еврей с предложением:
– Послать не надо ли куда?
За ним другой с новыми услугами:
– Булок не надо ли?
Он видел, как третий еврей, фактор постоялого двора, самовар раздувал.
– Баранок не угодно ли?
Это уже третий. Для удобства мучить приезжего труд разделен: один булочник с белым хлебом, другой исключительно с одними баранками, которые, кстати сказать, евреями, искусившимися на национальных пресных хлебах, пекутся очень вкусными, не хуже исторических валдайских.
Когда принесли самовар, евреи-продавцы дали отдохнуть.
Убрали самовар – новое предложение услуг новыми торговцами, новые мучения.
От одного:
– Спички.
От другого:
– Золотые и серебряные вещи, так купить на выбор и на деньги или поменять на что-нибудь.
Опять:
– Спички! Не надо спичек? Так дайте заробить что-нибудь.
На этот раз не Христа ради, а «на сабас».
Что-то долго не является еврей с материями шерстяными, московскими и материями шелковыми. Вот и он; есть у этого, сверх того, еще ленты шелковые.
Впрочем, он, собственно, пришел затем, чтобы по системе Бобчинского сказать, что есть-де такой магазин с такими товарами. Понадобятся они – не ходите к другим. У него еще брат есть. У брата: сыр, чай, сахар – все есть, все самого лучшего сорта; сам за товаром ездит, сам его выбирает.
– Может, календарь на новый рок требуется? – спрашивает в дверях Бог знает который мучитель.
А впрочем, и этот о товаре не хлопочет. А не дадите ли и ему что-нибудь заработать?
К вечеру обыкновенно продавцы стихают.
Спустились на землю и город Мстиславль глухие темные осенние сумерки.
Пора ложиться спать и отдыхать после мучительно тряской и скучной дороги. Сейчас дверь заложим крюком, и пусть хоть лбом бьются о нее неустанные мучители.
Однако мысль наша уже предугадана, и крючка мы наложить не успели.
Скрипнула дверь и полуотворилась. Влез еврей с пачками папирос и, получивши отказ, не уходит, а, напротив, весь протискивается в дверь. Стало быть, не в папиросах тут дело. О них он также особенно не хлопочет.
– Может, так не надо ли вам чего?
Он лукаво улыбается и подмигивает.
Вот, собственно, какого стола он начальник, какие дела ведает и за какими справками ходят к нему.
Предлагая товар, комиссионер старается выхвастаться им до возможной степени доброт и красот.
Когда вы уже прогнали одного, по всем вероятиям последнего, когда дверь на крюке и вы в постели, сквозь полудремоту можно услышать еще не один раз, как шевелят ручкой двери другие поставщики и комиссионеры, вероятно, все того же однородного живого товара.
На другой день вам на свежую память – полнейший простор для размышлений на вчерашние вечерние темы, напомнить о которых не замедлят тотчас же, как только вы спустили ноги с постели и не надели еще сапог:
– Постричь, побрить не угодно ли?
Вот у него через плечо и кожаная сумка с орудиями и принадлежностями ремесла.
– Мыло с духами заграничное.
Опять: «булки», затем «баранки», галстуки, перчатки: все, надо заметить, разыгрывается как бы по нотам, то есть в порядке и строгой постепенности ваших утренних занятий и надобностей: будете, вставши, умываться, чай пить, собираться с визитами или просто осматривать город. Можете в дороге растеряться, забыть чем-нибудь запастись из необходимого и т. п.
Вот, не угодно ли: все это вам принесли и охотно предлагают.
И в самом деле – будет, пора оставить докучную квартиру, которая успела достаточно очевидными доказательствами убедить вас в том, какая там, за стенами этого дома, живет непокрытая бедность, крупная нужда, которая вынуждена так громко и настойчиво кричать за себя. До того нужда эта крупная, что один случайный проезжий способен стать соблазном и приманкой для двух десятков бедняков, и около этого временного заезжего группируется целый базар. Если не покупаете, дайте хоть так заработать какую-нибудь копейку. Этим только вы спасаете себя от дальнейших навязчивых предложений и даете некоторое утешение истинно неимущему, оборванному и общипанному.
Посмотрите, как суетливы улицы, как кишат по ним мужчины-евреи, бегая так скоро, что положительно сверкают пятки, машутся фалды долгополых сюртуков и светятся на солнышке их камышовые, наведенные лаком палки в руках.
Женщины сидят на лавках и зазывными криками мучат неотвязчивее и неистовее, чем знаменитая ножевая линия московского гостиного двора.
В одной такой еврейской лавке действительно понадобилось мне что-то купить и полученную сдачу вздумалось отдать вертевшемуся тут кудрявому красивому ребенку; надо было видеть радость матери, восторг вспыхнувшего краской ребенка! Мать о такой щедрости поспешила даже выхвастаться соседке, которая в свою очередь позавидовала девочке: «Вот-де сегодня и ты нажила!» И долго все провожали меня глазами и гладили счастливую малютку по кудрявой красивой головке.
Прохожу мимо дома с открытым окном, и лишь только я поравнялся с ним – у окна стоит уже еврей, который тотчас же поспешил снять с головы ермолку и тотчас же заговорил:
– Не надо ли вам злотых? (Деньги менять.)
– Не надо.
– Не сшить ли вам что? Починка какая не требуется ли?
Все это он проговорил так быстро, что я не успел еще медленными шагами пройти мимо его утлой, полуразвалившейся хаты.
Но успел я полюбоваться и пожалел, что не владею кистью, – перед мною стоял характерный тип бедняка-еврея: на ногах клетчатые, полинялые и заношенные штаны, оканчивающиеся бахромой выше сапог, сверху такая же рваная жилетка. Из-под ермолки торчат запрещенные и преследуемые пейсы и клином выветрившаяся бороденка, на ногах тоже запрещенные башмаки.







