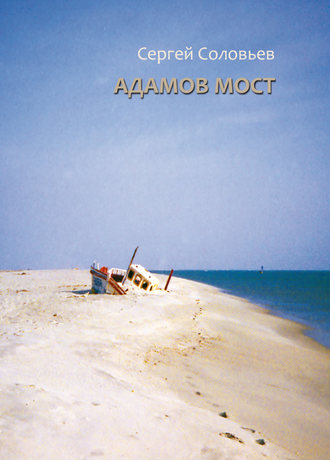
Сергей Соловьёв
Адамов мост
Раджаджи
Помнишь, спим, снится, глаза открыты, тихая флейта поет, уже не в раю, но еще не в изгнанье. Будто дверь подрагивает между ними, то откроется, то затворится. И ни души в обе стороны. Смертная даль, сладкая горечь. Там, наверно, за жизнью, где души, как пух тополиный, летят, оттуда этой мелодией, как сквозняком, тянет. Помнишь, в псалмах Соломона: но и они проходят; и мы летим…
И вдруг – будильник, ты завела его на пять утра. Вышли, как две сомнамбулы, во внутренний дворик, ты в сорочке белой во тьме, и я за тобой, река шумит внизу за решеткой. Обезьяны на дереве потявкивают, как утопленников, подтягивая младенцев, соскальзывающих вниз меж колен, в листву. А он сидит у решетки, мы не сразу его заметили. Немец, сосед. Такой же немец себе он, как небу облако, было – сплыло, другое будет. В каждом из нас сухостой, мхи, камни, много мертвого, углы, тяжесть. А в нем – нет. Не то чтобы нет, но и не скажешь: меньше. Отблески, как от огня, легкие полутени. Тинки-Винки, ты его назвала. Тинки-Винки. Почему?
Обернулся, флейта в руках. Большие ладони, как дальние страны, как книги в детстве. Из той эпохи – до Гильгамеша, цветы земли, середина пятидесятых, но за межой, один. Ищет певчий бамбук. У него был гуру – в Японии, вместе играли. Пепел учителя он перевез сюда. Маленькая урна стояла на тумбочке у кровати. Потом с настоятелем ашрама они развеяли прах над Гангой. Поначалу риши отказывался, ритуал не для пришлых. Но потом, высыпав в ладонь несколько крупиц праха, как бы взвесил их, вглядываясь сквозь большие очки в золоченой оправе. И, помолчав, сказал: святой человек. И развеяли.
Он приезжает сюда все реже, сидит у реки, в тиши, за излучиной, играет. На два голоса. Там, в Германии, у него дом в лесу, на границе с Чехией, несколько учеников из ближайшей деревни.
Берегите себя там, в джунглях, – говорит, глядя на ту сторону реки, уже залитую светом. Бубенцы звенят над ней, ветром сыпет их с одного берега на другой, как из ладони в ладонь. – Когда вернетесь, меня уже здесь не будет.
Длинный безлюдный мост, ярко-синий, на его фоне и небо – почти бесцветное. Ты идешь чуть позади меня, то и дело свешиваясь за перила, глядя вниз. Что они там ищут в камнях – рыбу? Золото? И догоняешь меня размашисто и немного нескладно, как всякое счастье. Косички ты заплела для меня веселые, ловишь меня на бегу за руку, оранжевый рюкзак на спине. Пусть идут, любушка, пусть они держатся за руки, эти мы, пусть говорят на птичьем. Может, там, впереди, подрастут, станут нами.
Чила, деревушка у края леса. Вошли в заповедник. Три тысячи лет. Три, не меньше. Этому часу полуденному, деревьям сновидческим, свету молочно-медовому, нам, грызущим эти терпкие райские яблочки, этой волшебной узорчатой книжке, севшей на твое плечо, она распахивается на разных языках и складывается, будто ошиблась страницей. Да, как тогда. Эти олени-девочки шелестят в кустах. Маленькие, пятнистые, как школьницы в байковых светло-охристых сорочках. А где ж родители? На лесных работах?
Несколько хижин, а крайняя к лесу – его, Дэнью, погонщика, вон он сидит на пороге. Семьдесят лет ему, и Кшетре, великой слонихе, ровно семьдесят, так и живут, с детства не расставаясь. Он на пороге лачуги сидит, дремлет, и она, напротив него, стоит, раскачивается, перебирает хоботом ветви у ног. И когда он роняет голову, она кидает ветку – навесом – к его ногам, он вздрагивает, открывая глаза, кричит ей: «грха, грха!..», и еще вдогон этот горячий щебень речи. А она смеется своей тихой руиной рта, смеется, опустив голову, перебирая у ног ветки. Был у нее муж, из диких, ходил из джунглей, когда была молода. Умер. И жена умерла – у Дэнью. Двоих сыновей оставила, хижина вся, как цветущим плющом, обвита внуками. Растут, а напротив, в простенке, она стоит, раскачивается, улыбаясь. Около двух пополудни, они спускаются к Ганге, и он садится на камень у воды, тот же камень, что и двадцать, и пятьдесят лет назад, а она входит в реку и валится на бок, и ее несет потоком, так, что только хобот виден над бурунами. Две женщины, две великих реки входят друг в друга, становясь единым.
А потом мы обхватываем ее хобот, и она переносит нас через голову и сажает на спину, голых, в такой же чистой грязи и пыли, как и она, и мы плывем над выжженной травой, и чувство такое, что роднее и нет ничего на свете.
Дэнью привстал, вглядывается против солнца, не узнает. Желтое редколесье зубов, борода окладом, седая, хной крашенная. Лысая голова, очки черные. Идет навстречу, вскипает голосом, как мотор, барахлит согласными, крестный отец джунглей. Обнялись. А где Кшетра? Там, у обрыва, над Гангой. А слоненок Йогин – отрок уже, на воспитанье отдан, вон он пасется, у дальней хижины. Вышли к обрыву. Вдвоем, пока Дэнью чай готовит. Да и не Дэнью он оказался, а Мохаммед-хан. А Кшетра… Какая, говорит, Кшетра? Это Арундати…
Ты идешь за мной, не касаясь земли, ты боишься проснуться. Она стоит над обрывом в густой зелени, перебирает ветки на деревьях, слушает, снизывает листву. И опять слушает, как слушают легкие у ребенка, рот приоткрыт, взгляд в сторону. Там река, как кинжал поблескивает меж любовниками, как кинжал в постели, между городом и природой. Подошли. Трогает руку, дышит в лицо – теплом, прелой соломой, памятью. Щекой прижался к ее хоботу, шепчу в него, слушаю эту влажную, перламутровую, дышит, шумит, как море. Помнит, кивает. И улыбается этим темным теплым древесным светом полуоткрытого рта, водит хоботом над головой, вяжет и расплетает там узелки, легкие, как кольца дыма.
Вернулись, чай пьем. Внучка его, Сарасвати, лет десяти, заплетает волосы тебе и незаметно, из-за спины, подцеловывает тебя. В плечо, шею, еле касаясь губами, на вдохе, на замиранье. Неразбуженная невеста, черноволосая, с уже поднывающей вьюшкой в груди.
«Маюр», гостевой домик при заповеднике. Английский газон, столики под фонарями, забор с колючей проволокой. Номера свободны, ни души. В саду сидим, ждем. Фонтаны включили, да, как тогда, похожие на фигуристок, когда они крутятся вокруг своей оси, снижаясь и вырастая. Повар заставил стол в полтора этажа и откланялся. Курица, зелень. Картофель масала. Ласси. Чай с имбирем. И вдруг вижу, как он перемахивает через забор по ветке и несется к нам, чуть подгребая под себя правой лапой, рыжий самец, обезьяний царек – долговязое тело в клочьях свалявшейся шерсти, суконно-засаленная голова в одуванном пуху. Рот оскален в скабрезной ухмылке, руки раскинуты по сторонам. Миг – и он на столе, схватил кусок мяса, впился взглядом в глаза, ты отшатнулась, я с размаху бью по столу ладонью, посуда подскакивает со звоном. Взвился, оттолкнувшись ногами от края стола – кульбитом – назад, через голову. Стол опрокидывается на нас. Он улепетывает, скрылся. Официант-петушок собирает осколки, поклевывает воздух по сторонам, не узнает нас, – к лучшему.
Два джипа и амбассадор въехали. Рука вышла, сверкая перстнями, за ней раджа в расписном халате, белый тюрбан, туго заплетенный, с алмазной брошью. Телохранители, пятеро, в строгих костюмах викторианской эпохи с игрушечными автоматами на груди. Прошли в беседку. Обедает, сверкает пальцами в тарелке, а те стоят навытяжку. Вплыл в машину. Уехали.
Помнишь ту белую реку, сверкавшую самоцветами, текущую вверх, в небесную синь, и заплетавшуюся там в чалму? А мы стояли на утренней улочке, у нашего ашрама, запрокинув головы, и медленно опускали взгляд: иранский принц с дремучей бородой и теплыми сумеречными глазами, – взгляд опускался: ожерелья, обереги, вспыхивающие мандалы, скарабеи, – взгляд опускался: царственная стать, запахнутая в белые текучие ткани, широкие рукава, скрещенные на груди, пальцы в тихих тяжелых перстнях, – взгляд опускался: тонкие белые щиколотки и – матерчатые пятидолларовые кроссовки. Этот принц, оказалось, бежал из Ирана в Индию, и теперь преподает в привилегированном колледже для иностранцев в Пенджабе, на границе с Пакистаном… футбол. А в свободное время с жадностью переводит… Хлебникова. С какого на какой? С английского на фарси.
Наш номер напротив кухни. Напрасно. Безмолвная и почти бесплотная обслуга к вечеру пробуждается, учиняя гудеж до утра, подростковый мальчишник. Привалили матрацем дверь изнутри, вроде потише. Ты заводишь будильник на полпятого утра, я укладываю рюкзак: фляга, завтрак, бинокль, нож. Легли. Только уснули, и… Это даже воем нельзя назвать. Псы беленели, захлебываясь рыхлым клокочущим лаем, мокрым от страха. Да, как тот, в Ришикеше. Свами говорит, собаки тут не агрессивны, даже лают редко, вегетарианцы. Помнишь, как мы вглядывались с нашего балкона через реку во тьму? Как он выводил нас из себя своим лаем: не заливался, а завивался в нем… Этот лай начинался сразу после захода солнца и не смолкал всю ночь. Что его понуждало к этой глоссолалии безумия? Если коровы или обезьяны, то почему он молчал тогда целыми днями? Кармическая цепь, говорит свами. Багряная шаль, открытая грудь, стоит на скалистом берегу Ганги, волосы развеваются на ветру, усы подкручены вверх, в одной руке посох, в другой яблоко, на ногах вьетнамки. Или чувствует смерть, говорит, надкусывая сочное яблоко. Это как приближение к темно-синему туннелю. С левой стороны. Собаки видят его смещения. Агхори, которые работают с энергией смерти, – чаще всего с собакой. Как правило, черной, медиумом. Здесь этот лай никого не смущает. И, по-трепливая по холке маленькую, пегую, величиной с собаку корову, тянущуюся губами к его яблоку: сказать наверняка, что это была реакция на Махакалу, тоннель смерти, трудно. Это могла быть и обычная паранойя. И отдает ей огрызок, она слизывает его и так и остается в этой позе с опущенной головой, глядя вниз, на зеленый бурлящий поток под скалой. Сидим, свесив ноги, ее голова – между нами, вниз смотрит. А ты рядом, мост фотографируешь, ищешь ракурс. За этим мостом, говорю, бродит черная сука. Она выгуливает стадо коров. Выводит их далеко вверх по течению Ганги, выбирает им место и возвращается в поселок. А к вечеру забирает их и разводит по домам. Да, да, он кивает, подкручивая ус. Корова косит глазом на его руку и снова тянет к нему губы. А позавчера, говорю, в новогоднюю ночь, мы пошли вверх по реке и пекли, как дети, картошку у костра, в тех скальных развалах, вокруг которых песок испещрен следами оленей, обезьян, леопардов, и река захлебывается валунами, пенясь в каменном рукаве. Возвращаясь, мы встретили эту собаку – она стояла там одна, в кромешной тьме, на раскачивающемся в небе подвесном мосту. И когда в порыве ветра мост уходил из-под ног, она оставалась висеть – в луче моего фонаря, висеть на вдохе и опускаться, когда мост возвращался, на выдохе. Пила прану… Пятна света на потолке от фонаря за окном. Что ж они так скулят надрывно, будто кишки по земле волочат.
Наутро мы поняли, в чем было дело и почему над забором колючая проволока в три ряда. Песок за оградой был весь испещрен следами. Ты присела, разглядывая. Леопард? Приложила ладонь, она целиком поместилась, и еще оставался зазор. Тигр?
Джайни-чок, джайни-чок… На юг. К храму Марса, к хроникам акаши, где, по преданью, списки судеб людских – прошлых и будущих. Туда он едет. И нам предложил. Восемьдесят к двадцати, говорит, что ваши списки там. Свой он нашел еще в первый приезд. Все, говорит, совпало. И день смерти указан? Да. Поедем. Не за судьбой, а на юг, с ним. И еще потому, что здесь, в Индии, свет у тебя за плечом, и дороги, как тени, скользят чуть впереди тебя.
Не спим, лежим с закрытыми. Помнишь, Битов говорит: «Летят три пичужки через три пустые избушки. Ну кому я это объясню?» О языке. А тут и язык – как тот пес черный, медиум, в стороне. Кому? Не тебе ведь. Только сейчас мы пришли к порогу полного непониманья мира, в котором живем, точней – жили. Тысячи лет спустя нашего самозванства. А там уже никого. Летят три пичужки… Что мы знаем о них, о животных, растениях? Ничего. Собаку Павлова. Помнишь те кадры документальные: крокодил схватил антилопу, маленькую, еще подростка. Волочит в реку. И вдруг бегемот – бежит, таранит воду, отогнал крокодила, стал на колени, дышит в лицо ей, щекой трется, а она, бездыханная, глядит на него влажным остановившимся глазом. И крокодил лежит у воды, замер, смотрит на эту сцену. А бегемот все стоит, то к небу взгляд, то на нее. Лир над Корделией. Зарезали мою девочку…
Что мы знаем о них? Если дерево или птица не могут сложить табуретку или компьютер, значит, ниже нас по развитию? С той же логикой – если мы не можем воскресать из смерти, как зерна, или отращивать новые ноги вместо отсеченных, как саламандры, или менять пол органично, как рыбы, или владеть световой речью, как глубоководные существа, или перестраивать свой молекулярный уровень, переговариваясь на больших расстояниях, как акации, – то что? Наша техника в большинстве случаев – плагиат. Сальери у Моцарта. А этот бред, которым нас пичкают еще со школы, – инстинкты. Каким инстинктом влекома пустынная эфа, ползущая десятки километров, в районную больницу, чтобы свернуться на груди умершего там мальчика, которого лишь мельком видела, свернуться и уснуть навсегда? Или та косатка, помнишь, выхватила из стада детеныша тюленя, и бросала его в небо вдали от берега, и ловила, – хищник жертву, а потом вернулась и носом подоткнула его под мать, невредимого. Или те морские львы, чей инстинкт – жить в стаде, ушли вдвоем, он и она, в маленькую скальную бухту, сильные и молодые – на весь свой век, до старости. Лотман где-то писал, что с точки зренья животных мы – существа непредсказуемые, то есть безумные. Это еще мягкий взгляд. Светает уже. И псы на дворе смолкли.
В лесу еще темень. Просека чуть светлеет. Прохладно, пришлось надеть свитера. На поясе нож, на груди бинокль. Океан леса, по дну идем. Ты вдруг обняла меня, глаза певчие, вся в смятенье от этой нежности на иголках, держишь мое лицо в ладонях, как расплескать боишься. Тише, смотри: стадо оленей вышло на просеку. Колеблются в мглистой воде воздуха, как снимки в проявителе. Хруст в кустах, шелест. Вот он, шагах в двадцати от нас, кабан, нет, самка, маленькие арестанты бегут за ней, скользят в траве, в полосатых пижамах. Вышла на просеку, вспыхнула, стоит в луче горчичном, дымится. Смотрит, головой потряхивает, глазки копеечные, вертятся на ребре, тяжело ей под маской. Дернулась, затрусила в кусты. Паруса света плавают меж деревьями, прибывают. Крик вдали, в чаще. Будто кого плетью бьют, голос фаянсовый, чуть надтреснутый: а! а! а! – с равными промежутками для вспорха плети. Павлины. К весне готовятся, репетируют. Мангуст пробежал, обернулся. Улыбнулась, так и осталась с улыбкой. Какое чудесное слово: манг-уст, – тихо, одними губами, и тянешься ими ко мне. Как мало нужно тебе для счастья. Один мангуст…
Развилка. Светло уже. Земля в следах вся, огорошенная, в копытцах. Свет настаивается, вязнет в хвое. Орех, ветвистый, стоит и трясется, плоды сыплются, листья. Кто? Лангуры. Снежные человеки. Чуть сероватый снег. А пальцы в тонких черных перчатках. И лицо обугленной красоты. Желтые угольки глаз, нервные губы. А этот, на нижней ветке, сидит спиной к нам, смотрит в просвет меж деревьев на восходящее за рекой солнце. Не шелохнется. Самочка подобралась, в лицо заглядывает. Не поворачивает к ней головы. Солнце уже в глаза, а он все сидит, прикрыл веки и медленно разжимает ладонь, смотрит на орешек в ней, и видно, как долго он возвращается, из каких далей, и провожает взглядом его, летящий к земле.
Идем вдоль берега под юбочным навесом кустарника, он ниспадает с напуском с невысокого песчаного обрыва, образуя и тень, и подобье укрытия. Олени плывут через реку. Большие, бурые, с костяным лесом на головах. Малыши посередке, между мамаш, а вожак уже переплыл, первый. К нам идет, не оборачивается. Вышел из-за скалы, замер. Куст, за которым спрятались, не так уж густ. Еще шаг, уже неуверенный. Опускает голову, смотрит. Видит. Чуть не в лицо дышит. Вскрикнул, и нет его, ветка подрагивает. Аист кружит. Шея алая, как струя крови. И на крыльях – алые иероглифы. А это кто? Вспорхнул, длинноклювый, висит над водой в юбках горящих. Шахерезада? Кинг-фишер, вроде нашего зимородка. Присядем, передохнем.
Опустила взгляд на свою ладонь на песке, ногти надо б подстричь, подумала, и – рядом след, свежий, может быть, с полчаса, – тигр. Не леопард? – вдруг перейдя на шепот, переглянулись. Нет, тигр. Странно, такое острое чувство, да? Куда ж оно делось через минуту? Будто мазнуло когтем и тихо поджало его в подушечку.
Вернулись к полудню. Лес к тому времени уже опустел. Ни шороха. Одни только цапли в вязком мареве дежурили у реки, как маленькие медсестры. Прислуга в отеле, похоже, тоже жила по этим природным часам. Наконец нашли одного из их великолепной семерки. Он спал на заднем дворе, сидя на шаткой табуретке. Это был самый продвинутый из них, который умел варить кофе. Круглые очки с надтреснутым стеклом на большой, явно переросшей его голове. Похож на защемленного во времени школьника, навсегда оставшегося на продленке жизни. Спал, две лимонницы вились вокруг него, играя.
Выпили кофе с тостами, легли в тень на газоне. Ты вспомнила сласти, те, ришикешские, в лучшей кондитерской, куда нас водил свами с… Как его звали, ученика его, брахмачарью? Да, Рам. Похож на Иисуса, на брата его, младшего, если б он был у него, помягче, в мать. Сласти переполняли витрины, глаза разбегались, тысяча и одна, рукодельные, в серебре, золоте. Сладкоежки, отцы семейств, припавшие к стеклу. А витрины тянутся в глубь кондитерской – от простых недорогих сластей к шедеврам, симфониям. Свами переводил палец от одной сласти к другой, перечисляя состав. А Рам в белой долгополой ткани с широкими рукавами тихо улыбался в бороду, опустив голову, перебирая четки. Он сразу притягивал взгляд, но не ростом и красотой, а этим мягким незримым свеченьем, внутренним, необъяснимой женственностью, не физической, а где-то над драмой полов, там, где уже не нужен ни жест, ни голос. Он наклонился к тебе с улыбкой: больше одного рая не съешь ведь, да? Съела, за милую душу. И, как от солнечного удара, все поплыло в глазах.
А потом, в тот же день, мы поехали дом покупать. Чтобы жить навсегда. Это были уже третьи, что ли, смотрины за ту неделю. Рам впереди на своем мотороллере, а мы с Джаянтом на его новом, только что купленном опеле. И дорога, то есть эта козья тропа, петляет вверх по ущелью, теснясь меж домами, которые то и дело ее заступают. Рам машет, чтоб мы пропустили стадо ослов, навьюченных мешками с песком. Пастух подгоняет их палкой, сгрудились, тычутся в бампер, не разойтись. Потом и поселок кончился, Тапован назывался, «лес тапаси», когда-то был местом испытаний аскетов, дорога сузилась, становясь круче, втягиваясь в ущелье. Путь паломников к монастырю, который стоит в снегу, на вершине, слишком высоко, чтоб увидеть отсюда. Да, вон та точка, уже скрылась за облаком. Вот и участок – от ручья до горы, хорошее место, по законам Васту. Рам и Джаянт вернулись, а мы остались, чтоб оглядеться.
Солнце в этом зазоре стоит часа три-четыре, не больше. А в остальном – дивно: тишь, ручей, джунгли. Свами сказал, тигры наведываются, семья слонов тут поблизости зимовать осталась, слоненок не смог перейти гору. Вот эту, над участком. Давай поднимемся на нее, до того уступа с какими-то мексиканскими кактусами, посмотрим сверху. А себе свами присмотрел землю в полутора километрах выше по ущелью, дальше только тропа в завалах камней. Будем жить по соседству, на чай ходить под руку с обезьянами. Будем жить не тужить, по джунглям бродить, писать книги, спускаться к людям, и не ждать ни гостей, ни писем. Да, любушка, и ребенка родить, чтобы был счастлив.
Поднялись. Стоим на краю скалы, ветром пошатывает, ущелье внизу, на ладони. Оба почувствовали. Еще на подходе, подсаживая друг друга, вытягивая за руку из мшистых разломов камней: змеи, их царство. И то, что их не было видно, только усиливало тревогу. Ими было пропитано все, каждая складка воздуха. И эта душная тишь, чуть кислящая, обложная. Спуск был не из приятных. Норы, трещины, из каждой, казалось, мерцали глаза, фитильки трепетали. Ты вскрикнула. Между скалой и твоим животом взблескивал, подрагивая, длинный сухой чулок. Глянул вниз, там лежали еще два таких же. Кобра, королевская, метра два, не меньше.
Джаянт потом кивал радостно: да, да, хорошее место, у меня в доме тоже живет, но сейчас они спят, зима. А в сентябре наведалась, родила. Не надо бояться, они это чувствуют. А место хорошее, по законам Васту.
Вспомнили тот рассказ свами о кобре: вползла в дом ночью и ужалила роженицу, на девятом месяце, спящую, в лицо. Здесь, вон в том доме. А факир, знахарь, говорит: только в госпиталь не везите, нельзя ей вводить сыворотку, я все сам сделаю, я знаю, что и как. Не поверили ему, муж повез. А этот знахарь ему цветок дает, на мальву похож, и себе такой же сорвал, это наша, говорит, с тобой связь будет. Как телефон. Когда я буду говорить здесь в этот цветок, ты там, в больнице, свой цветок к уху поднесешь и будешь слышать меня. И вот лежит она в реанимации, в коме, а муж в коридоре сидит с этим цветком у уха. А факир здесь, за двадцать километров, стоит, окруженный людьми, и вдруг глянул на этот цветок в руке, понюхал и говорит: всё, ввели сыворотку, скончалась. И вот проблема, оживляется свами, как хоронить ребенка – вместе или отдельно? То есть как, говорю, отдельно – вырезать его из ее живота, что ли? Помолчал, улыбнулся: нет, конечно. Это же смерть от укуса кобры, а она священна. Как и невинность. Это здесь лучший удел. Таких не кремируют, а опускают в реку, как святых..
Джайни-чок, джайни-чок… Что ж это за слово такое, и не вспомнить, что означает. Наваждение. Джайни-чок… Да, я б тоже окрошки поел, жарко. Райта, у них называется, на кефире. Пойду спрошу. Слушай, а где наш нож? Смотришь на пояс мой – пустой чехол висит. Там, в лесу, перед мостом, на обочине, когда орехи ели, ты его вынимал. Да, похоже. Пойдем поищем? Сейчас? Жарко еще… Пойдем, пойдем, тут ходьбы-то минут пятнадцать.
Идем, а я все прибавляю шагу, ты говоришь: да куда ты торопишься, – а я и сам не знаю, и предчувствием это назвать не могу, в эту сторону и не думал даже, иду, а сердце меленькой колкой рысцой бежит впереди меня. Вот это место. Блеснул в траве. Ну что, говоришь, пойдем назад, там уже окрошку нам приготовили? Нет, покачиваю головой, давай немного еще прогуляемся, до затоки, да? Говорю и думаю – какой смысл, четвертый час, лес мертвый, ни звука. Это потом вспоминали, какая тишь – даже птиц не слышно. А тогда не заметили, просто жара, морок.
Идем, тихо с тобой разговариваем, о чем? Милую чепуху несем. Помнишь, какие чудные были имена у барбосов в прежние времена. Пиф, Трезор, Полкан, Джулька, Найда… Да, ты другие помнишь. Это как Битов об этажерках – куда они вдруг исчезли? А дед мой звал маму Джойкой, когда та была маленькой. А жену – Бобик. При том, что она была утонченной красоты, бледные сумерки, хрусталь, туберозы… Собирала в своей коммуналке богему тогдашнюю киевскую, застолья по средам, а он, дед мой, стоял, часами никем не замеченный, у печи, молча, грел спину. Она и вышла-то за него, не заметив, листая книгу… Бобик… Может, пыль надоело с них вытирать, с этажерок? Милая чепуха. И ты ловила мою ладонь на ходу легким хлопком, касаньем. И что ли не поднимали глаз, не смотрели вперед, на дорогу, да?
Я вздрогнул и сжал твою руку. Он шел навстречу, низко опустив голову и чуть раскачивая ее. Будто о чем-то думал, будто скулами терся у самой земли об этот душный вязкий воздух. Замерли. Только удары сердца, глухо, в грудь, в кость. Тигр. Ты вглядывалась близоруко. Я медленно поднимал бинокль к глазам. Он был уже в шагах тридцати от нас. По сторонам дороги – кустарник, сплошной стеной. Стоим, не двигаясь, смотрим, а он начинает исчезать – снизу, с лап, будто погружается в воду, исчез. Это рытвина на дороге. Бинокль у глаз. И вдруг – прямо в зрачки вплывает – всей головой, горящей, с тяжелыми желтыми глазами. Назад отклоняюсь и не могу опустить бинокль. Ты в мой пояс вцепилась и держишься, держишь. А он как из земли вырастает: голова, грудь, лапу занес для шага, медленно, помнишь, как медленно он поднимал голову? Будто уже знал, что мы стоим перед ним. И только вослед, как бы нехотя, поднял взгляд.
Надо бы в глаза не смотреть, мелькнуло. Или наоборот? Спокойно. Ты, судя по твоей руке, спокойна. Это не страх, нет. Другое. В упор смотрит. Чуть ощерен. Усы подергиваются, вверх-вниз. Ни звука. Будто тик такой. Мутно-желтые, а зрачки неподвижны. И какое-то мучительное томленье у незримой черты. Он трогает ее на весу, лапой, эту черту. Клонит голову набок. Щерится, холка вздыблена. Ребра ходят, как тяжелый ковер встряхивают. И – не прыжок, не шаг, даже лапы не сдвинул, просто нет его там, где стоял. Хвост втянул, и сомкнулась стена. Сплошная стена кустарника.
Ну что, говорю еле слышно, все еще не поворачивая к тебе головы. Вперед, так же тихо мне отвечаешь. Вперед? – этого я не ожидал услышать. Идем, чуть касаясь земли, вслушиваясь. Странно, шепчешь, он совсем не такой, как рисуют или в кино. Жухлый, выцветший. Как под слоем пыли. Дошли до развилки, остановились.
Да, где-то здесь, в эту стену зарослей он скользнул. Протянул руку – густые, жесткие, спутанные, как проволока, даже ладонь не просунуть. И вдруг – отпрянул. А рука, казалось, еще висела, протянутая к кусту. Рык? Это и звуком не назовешь. Будто вспорол с головы до пят и сердце вынул. Нет, не страх – только тишь внутри, безжизненная. Сколько длилось, секунды? Как во сне или перед смертью. И отдернул руку. Назад, шепчу. Нет, не спиной, – лицом! Пятимся, медленно, еле земли касаясь.
Отошли на то расстоянье, откуда его увидели, повернулись друг к другу, выдохнули. И тут же – в шаге от нас, из зарослей – рык, и следом еще и еще ближе… Назад, глазами показываю, назад…
Мост, деревня за ним, солнце садится. Да, ждал, затаившись, когда подойдем. А потом крался за нами сквозь заросли и ни одна ветка его не выдала. Обернулись. Вон он – у рытвины, стал поперек тропы, смотрит. Долгий взгляд. И мы стоим, не отводим. Твой лес, твой. Опустил голову, исчез.
Кажется, это еще не конец, говорю. Молчишь. Знаю, о чем ты. Встреча уже сбылась. Чего же еще ты просишь? Там, показываю на холм, я чувствую. Нет, говоришь, поверь, не надо…
Поднялись на холм, сели в зарослях, ждем. Олениха, из тех, бурых, вышла на луг. За ней самец. Она впереди, траву щиплет, а он тревожен, голову вскидывает, вслушивается. Лес замер, как нарисованный. И от этих ярких карандашей – еще зловещей. Идут – прямо к нему, к тропе, к рытвине. Я перейду, говорю, чуть правее по склону, а ты здесь побудь, смотри отсюда.
Перешел, спрятался в зарослях, вглядываюсь. И вдруг – рык, раскатом, и вслед за ним – краткий, глухой, там, внизу, в буреломе. И стихло. Чей? Не его. Не совсем. Но и не оленя. А как-то между. Если сложить в один, последний. Смерть. Да, кажется. Будто ею налился воздух, луг темнеет, пропитываясь, как бумага. Или это тень от облака? Тень. Встать, выйти? Жди, не испытывай…
И тут слышу – какой-то шум у меня за спиной, шелест в кустах. Замер. Медленно оборачиваюсь: ты. Не видишь меня, идешь. Взроня… Взроня… Зовешь, пошатываясь, спотыкаясь, слезы в глазах, а в руке – камень. Тише! – привстал с пальцем у губ. Села на землю, как подкосили. И эта улыбка бедная места себе найдет. Думала, всё, шепчешь, нет тебя… Подошел, сел рядом. Ну и что б ты делала этим камнем – била по голове его, оттаскивая меня? Киваешь, плечами вздрагивая.
Окрошка ждала нас в саду, почти выклеванная птицами, юшка одна осталась.
Наутро вышли затемно, до рассвета. Пересохшее русло, трава высокая, острая, продираемся, прикрывая лицо рукой, горы по берегам, но их не видно еще. Мохаммед-хан говорит: нельзя, люди туда не ходят. Тропа узкая, заболоченная, ты впереди, я за тобой, подсвечиваю фонарем. Прогалина. Топкая грязь. Следы. Копытца и птичьи трезубцы. А это что? Присела, разглядывая отпечаток лапы. Тигр? Да. Самка. С детенышем. Огибаем лужу по следу, он уводит в густой тростник. Стоим у кромки, чуть шелестит, сунешь руку и не видно ее. Дальше тропа раздваивается, выбрали левую, шагов двадцать и – топь. Вернулись. Вот тут и вошел он в нас, страх. С которым мы, каждый по-своему, все еще молча, боролись. Шли, не давая ему овладеть нами. Там, у лужи, когда вернулись, – след, ее, поверх наших следов. Свежий, только еще набрякал водой. Может, сейчас стоит в тростнике за нашими спинами, смотрит, вся подобравшись, готовясь… Надо бы резко повернуться, встретить лицом… Да, этого она и ждет, когда ты повернешься, теперь ты спиной к ней…
Солнце взошло. Свитера сняли, проламываемся почти вслепую, руки иссечены. То теряем тропу, то снова на ней, петлями. И ее следы петлями. То за нами идет, то навстречу, то поперек. Не намного хватило нас, да? Ладно бы напряженье, но эти приступы, спазмы, перед которыми ты бессилен, когда – вот она, приникла к земле, шаг тебя отделяет, ты это чувствуешь, прыжок… Не оборачивайся, не поддавайся. И еще часа полтора это длилось, пока выбрались. И ушли вверх по склону, непролазному, на весь день. А потом, уже на закате, спустились к обрыву, сели на кромке, свесив ноги. Пойма под нами, луг.
Вон там, говорю, мы шли этим утром, лет двести тому назад. Скажи: «и раз», и кидаю камешек вниз. И раз. И что? Это атака тигра – двадцать пять метров в секунду. Штормовой ветер. А еще что ты знаешь? Голова твоя у меня на плече, вымотались. Еще? Их рык затрагивает низкие, недоступные нам частоты, парализуя жертву. Краткий ступор, сбой волны. Пентагон этим интересовался, моделировали суггестивное воздействие на людей. Слоны тоже на этих частотах переговариваются. И кто-то в океане. Киты? Амба – у нас в тайге его звали. Значит, хана. Хан, Шер-хан. Шер – тигр. Амба – мать, на санскрите. Четыреста их осталось, амурских, на всю землю, и хана, мон шер. А бенгальских было сто тысяч – при наших дедах. Теперь – в двадцать раз меньше, за два поколенья. И три вида тигров уже исчезнувших, навсегда. Туранский, который в Средней Азии был. На Руси барбом его называли. Купец Котов его описал впервые, в семнадцатом веке, кажется. Хорошая фамилия для этого дела. Аввакум житие пишет, Котов – барба, и Тишайший над ними. А Христос был десятилетним мальчиком, когда в Европе тигра увидели, в римском цирке. До этого, по Геродоту, тигры – почти мифические существа. Аватары ветра, который зеркальцем ловят. Особенно, разъяренных тигриц, у которых детенышей увели. Зеркальце, представь. Между Горгоной и Нарциссом. Да, а еще они думали, что и у слонов коленных чашечек нет, что ноги у них не гнутся, так на колоннах и ходят. Что-то я отключаюсь совсем. Может, полежим чуть-чуть? А Далай-лама речь о тиграх сказал, знаешь? Чтобы беречь их, не убивать. Так по всему Тибету костры запылали. Жгли шкуры, шапки, приданное невест, украшения, всё, что ценного было в доме. Изо всех деревень подводы тянулись к райцентрам. Огромный костер, тысячи шкур горят, тысячи глаз глядят, поют. Горы, небо, снега. Представь. Он и не думал, Далай-лама, что так обернется. А может, это тигрица была, не тигр, вчера, в лесу? Самое время это выяснить было. Зашили нитками рты змеям, понимаешь? Простыми нитками. Сотни змей, в ящиках, в Шереметьево. Все скончались. В девяностые сплошным потом везли. Птиц, рептилий. Кажется, мелочь. А знаешь, какой оборот по миру? Второе место, после наркотиков. Почти полмиллиона слонов в год убивали в Африке, недавно совсем, при нашей жизни. Леопардов – сто тысяч в год. Принцесса Бутана летит в Китай, в багаже – двадцать два рога носорога. И дипломатический паспорт в руке. По три тысячи тигров в год, в семидесятые. То есть столько же, сколько всего их сейчас на свете. Ну тише, полежи спокойно. Шкуру снежного барса в советское время можно было обменять на двух баранов. Или сдать государству: четыре рубля семьдесят копеек. Этот вид уже, наверное, не спасти. На нашей планете тигры не водятся, сказал маленький принц. Не гуди так, я уже сплю. Блейк и Борхес о них писали. Оба в глаза не видели, книжники. Ну, по отношению к Борхесу это неделикатно. Неделикатно – что? Назвать ягуара тигром? А Киплинг? Злодеем изобразил, коварным и трусливым. Всё, замолчи немножко.




