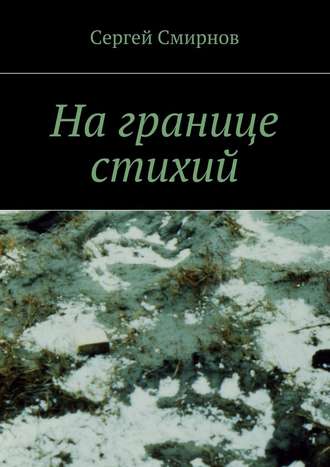
Сергей Смирнов
На границе стихий. Проза
– Ладно, будем!
…А утром…
Утром словно не было этой тяжкой бесконечной ночи.
Циклон ушёл дальше, на север, сгруппировав армады снеговых туч над Холерчинской тундрой. Там, почти в ста километрах, возвышалась исполинская фиолетово-чёрная башня, соединяющая притихшую в ужасе землю с торжествующими небесами. Ослепительное утреннее солнце подсвечивало клубящиеся лохмотья туч, закручиваемых в гигантскую воронку.
Тысячи птичьих стай, больших и маленьких, разорванных и перемешанных ночным ветром, кружили, метались с безысходным криком вдоль неприступной стены, закрывшей места гнездовий. Горячий весенний свет палил их уставшие головы и крылья, мелькающие белым пунктиром на фоне бушующей черноты.
Зелёный вездеход стоял у траншей полного профиля, выкопанных в снегу армейцами-связистами. Лица их были черны, шапки с кокардами сдвинуты на затылок, – светились белые, не загоревшие лбы.
Они были пьяны и улыбались.
Один держал за шею тощую измождённую тушку журавля со слипшимися перьями и старательно предъявлял её всем, кто, перевесившись через борт, зубоскалил по поводу единственного трофея.
Река искрилась под солнцем последним зимним снегом, накрывшим и зимник, и тальниковые берега, и далёкие чукотские горы. Авдюшин с Нырковым, стоя в кузове, смотрели на север, Коля Чижов красиво ехал на снегоходе, лицо его было по-индейски невозмутимым.
– Авдей, кружку давай! За первую добычу пить будем! – крикнул из кабины Ластовский.
Но Авдюшину не хотелось ни пить, ни расчехлять ружьё, и, тем более, стрелять: такая навалилась на него весенняя истома, так мощно и ровно грело спину и плечи, и он, изо всех сил прищурившись, вглядывался, впитывал, втягивал глазами этот всем доступный, открывшийся для всех пейзаж, не понимая, что за слёзы текут из-под сомкнутых век.
Вверху, прямо над его головой, проскрипели три большие усталые птицы: лебедь, гусь и журавль. Они построились клином и тяжело шли в сторону Холéрчи, тоскливо крича каждый на своём языке…
Спустя несколько лет Авдюшин с напарником сплавлялись геологическим маршрутом на моторке вниз по реке к посёлку, до которого оставалось ещё километров триста, и остановились переночевать у заросшего травой зимовья. Утром, путаясь в космах тумана, они собрали палатку, закидали всё в лодку и сели, прикурив на дорожку.
Никто Авдюшина в посёлке не ждал, – жена два года, как уехала на материк. А его звезда по-прежнему отражалась в колымских плёсах и стремнинах…
По земляным ступеням с крутого берега спустилась маленькая эвенская женщина, одетая в детское пальтишко, застёгнутое на все пуговицы и перетянутое вместо пояса верёвочкой. Шерстяной платок был обмотан вокруг головы. Она вытащила из кустов брезентовую лодку-ветку и, увидев людей, всплеснула руками.
– Драствуй, куда плывёте, нюча? Посёлок? Далёко, однако! Домов много! Людей много!
Она стояла, прямая и тоненькая, с детским сморщенным личиком, сжимая в руках мешок для улова. Туман киселём колыхался у её ног. Авдюшин с трудом разобрал, что она немолода.
– А Сеньку, Сеню Семёнова не стречали там?
Авдюшин сделал вид, что пытается вспомнить.
– Племянник мой, однако. Говорят, в милиции работает.
Тут его осенило: это ж Семён Васильевич Семёнов, рябой начальник милиции!
– Ох-ох, – запричитала она, – я ведь тётка ему, и его мальчиком помню! Нянчила Сеню-то. – И тут же с печалью добавила: – Забыл он нас… забыл… и жив ли? Уже лет тридцать не приезжает, однако… Как давно это было… и было ли…
«Да, – подумал Авдюшин, – был ли когда-нибудь Семён Васильевич маленьким мальчиком, помнит ли добрых и мудрых бабушек и тётушек, воспитавших его? Не помнит… Тогда зачем же оно было, то доброе детство…».
И опять, в который раз, вспомнил тот лунно-холодный, негреющий душу приют охотников в том далёком далеке, когда собрались они все в неслучайной охотничьей компании со своими заботами и нерешёнными делами.
Вспомнил и дымчатую стремительную рысь, качающуюся в клетке из угла в угол, словно маятник, отсчитывающий отпущенное им время.
Никто не предвидел своей судьбы, как и те растерявшиеся в непогоде птицы.
Осенью того года Нырков провалился на озере под лёд вместе со снегоходом, – тормознул, чтоб топор у майны подобрать, добрые люди с берега крикнули, лень им было самим идти.
«Было ли? Было, конечно, было! Да, никто судьбы не предвидел, – думал Авдюшин, – но ведь она уже была определена, где-то и кем-то. Или мы сами её определили?.. Тогда, в набатовской бане…».
Следующей зимой умер Колька Чижов. Ни с того, ни с сего запил на неделю, пил коньяк у себя на ферме, среди коз и коров. Авдюшин тогда подумал: тошно ему стало, Кольке Чижову, среди людей. На охапке сена нашла его жена, оторвавшись от шитья ондатровых шапок. Несколько часов Колька ещё полежал под капельницей, – давление забрасывало кровь наверх, в бутылочку.
И жена, надеясь, говорила сквозь слёзы:
– Смотрите, он улыбается, он будет жить!
А через год, весной, вытаял из снега Боря Клязьмин с пулевым отверстием между глаз, под обрывом, на котором стоял магазин «Малиновая рыбка». Осечки, и правда, не случилось.
Авдюшин знал, почему улыбается перед смертью Колька Чижов, – Мартын ждёт его и уже налил в кружки спирт, разбавив его колымской водицей…
2001—2014
А ПОМНИШЬ, СЕРЁГА?
Сергею Давыдову
КАК УМИРАЛ АСПИРИН
Весна на Колыме никогда не бывает ранней. Ждут её, ждут, а приходит она, когда захочет. Ещё с осени лёд на Пантелеихе гладкий, можно сквозь лёд смотреть, но не увидишь, что там, в глубине. Синь и глубина.
А той весной Аспирин, отслужив свою собачью работу и биографию, лежал на проталинах. Первострелы голубые, потом синие пёрли из отмякшего грунта. Лапы у него болели, выкручивало суставы натруженные. Скулил. А на солнце весеннем и полегче. Сколько ж нарт перетаскал, кто ему упряжь надевал, не помнилось. Ну, может, был человек один, так давно его уже не видно. А суставы… да не суставы, лапы болят, ломит их как у живого. Аспирин на Серёгу поглядел, – пойду, слушай, на лёд схожу, весна же. Хрен с ним, что лапы болят, лёд же! Хромает Аспир, а сам думает – вот сейчас весеннею весною подойду к майнам, где чебака ловят. Полежу, посмотрю, как они, нынешние собачата, своим служат.
А Серёга сверху смотрел, с бугра, как Аспирин умирать будет. Время пришло, Аспир и сам это понимал. Откуда знал. Да не знал, чувствовал.
Колыма – простор широкий, что их, лихих дураков, занесло туда, на Пантелеиху. Два раза крючок дёрнули, на забаву, как там дробь выскочит.
Аспиру хорошо стало, не болят лапы, в щенка молодого превратился.
По весне запах крови, как человеку с лимоном – морду корёжит.
Истома весенняя – возвращаться нужно, пьяному.
Серёга только что и успел в глаза Аспирину посмотреть.
Тут Аспир и заплакал.
Што им дома-то не сиделось?
КОЛЫМСКИЙ ЗАКОН
Всё, что стоит на столе,
принадлежит сидящим за столом.
Можно налить, сколько хочешь,
и выпить в одиночку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
у Колымского закона есть производные.
Поехали мы с тобой к Сане Скотникову, он тогда живой был, мудрый, свёклу и капусту на колымских кочках выращивал. Две жены у него было – Скотникова Татьяна, красавица юкагирка, и казачка Людмила. По весне на кривом «буране» приехали в гости, печка тёплая, а Сани нет в зимней избе.
Он для себя своё примитивно-охотничье обустроил, а для козы, гусей возил кирпич в этакую даль, печку для них поставил. Дух в избе был животный, чистый.
Приехали, а Сани нет, в Анюйск уехал.
Сковородка полна ножек ондатровых. Сладкие они, вкусные. Ты, Серёжа, после «бурана» и мороза устал, осоловел, спирт мы с тобой по дороге выпили.
А у Сашки, простой души, всё на виду. Вьетнамская водка тогда на Колыме ходила, по сухому закону. Эх, взяли из ящика полупустого бутылочку – колымский закон.
А как он даётся?
Переспали, ондатры наелись… Утром, как вертолёт гудит.
Ох, Колыма ты моя, Колыма, не даёт пропасть. Едет Скотников с друзьями и гостями, а тут мы, прихлебатели пустые…
Обнялись, поцеловались. Саня из Анюйска ещё привёз.
– Серый, как про бутылку сказать?
– А не говори, он не заметит.
Через полгода я Сашкиной Людмиле дарю ограненный сердолик, камень счастья. Она – это ж дорого. Дорого, когда от души с одной и с другой стороны.
Я про Колымский закон думаю, а Саня молчит.
– Люда, вы ж уезжаете, возьми…
– Нет – говорит, – лучше б вон те серёжки.
А серёжки из рекламного набора, жалко отдавать.
Посмотрел на Скотникова, а он так влюблённо на Люсю свою смотрит, и что в ней такого нашёл, а серёжки те и правда к лицу ей.
Мусолил, мусолил, так и не отдал серёжки. Пожалел.
Разошлись они с Сашей, посконно русским, саратовским мужиком. Она, казачка, с тем камнем счастья и уехала. Может, выбросила, а Саня потом помер в своей зимней избе.
Татьяна Скотникова мне малахай юкагирский подарила, когда я с Колымы уезжал. Его потом дура-баба чужая на кусочки порезала.
Вот так, Серёга…
ЛЮБОМИР
Откуда такое имя на Колыме. Так его все и звали – Люба. Любо, братцы, любо…
Один глаз у Любы был стеклянный. Стрелял Люба целко. Сохатого, так сохатого. Подошёл обдирать, а лось рогами дёрнул, и Любомиру в глаз. Потому и стекляшка.
Жена Любина спилась, и по морозу сгинула, замёрзла.
А Люба любил её, избу такую построил, что любо дорого глядеть. На втором этаже – теплица. Колымский мороз отступает. Там огурцы можно выращивать, опылять только нужно пальцами, мухи нет.
Как жена замёрзла, Люба пить начал, и сам бы замёрз, когда изба сгорела. Кореша за шкурками приехали, и нашли его полутрупом.
Люба однолюб был. Другую избу построил. Но без теплицы, не нужна она уже была. Приговаривал – якут траву не ест. Блин, неуёмный какой-то.
И эта сгорела.
Кореша его в посёлок свезли, а он – везите обратно.
Когда в 1991 году мы с тобой, Серёга, приехали к Любе на тоню, у него «казанка» с булями две тонны ряпушки приняла, благо на берегу стояла, но прокисла свежанина, потому что тёплая осень была, а совхозный катер не успевал улов собирать. Хотя, что ж, на приваду ж тоже надо, тогда Люба ещё живой был, промышлял. И глаз стеклянный ему не мешал. Кстати, глаз был правый, прицельный.
А Любомир и с левого валил, как хотел.
Что мужику баба? Что, он сам себе и ей еды не припасёт, не наготовит? А вот замёрз, пошёл за ней тихой смертью.
ШКВАЛ
Вот поехали мы как-то с женой в июле в деревню Пантелеиха. Жара была на Колыме, как в Сочи. Я письмо от отца получил, думаю, по дороге почитаю.
Лодка «сарепта» ничего не боится. Борт озёрного класса 65 сантиметров, винт пластмассовый, с регулируемым шагом. Жена в сарафанчике с бретельками, на восьмом месяце. По Пантелеихе вверх всего-то двадцать пять камэ. Там искупались, сетку проверили, «пятиминутку» муксунячью заделали, так хотелось. А в жаре синие тучи появились. Затихло всё.
Отец писал, что всё хорошо у них, огород сажают и поливают. Ты-то, сын, как там на Колыме.
Едем обратно, я в майке.
Морок кругом, кто на севере бывал, тот знает – ненастье будет.
Пантелеиха перед выходом в Колыму делает резкий поворот влево, перед сопкой.
И тут – с чего бы – у Вовы Калиничева шпонки срезает на «вихре».
Кричит:
– У тебя бронзовые есть, чтобы гвоздь не рубить?
– Да, – кричу, – есть.
Шпонки отдал, а сам на середину Пантелеихи, чтоб мухи не заели, жена ж в бретельках. Кружу.
Тишина-то тревожная. У Любашки глаза… Похолодало. Майку с себя снял и на неё.
А впереди сопка, река поворачивает влево к Колыме. Над сопкой пыль уже завевается.
И ветер в харю, река вздулась, пришлось рядом с берегом идти в двух метрах.
Кричу:
– Любашка, ложись поперёк лодки, не вдоль!
Восьмой месяц же.
Хотя какая, к чёрту, разница, лодка уже как лошадь скачет. А у берега… сети, мать их! Пошёл на середину, прямо на стоячие валы, в глазах – темень. Не растрясти бы младенца.
Ветер навстречу страшный, холодный, обвалом. Повернули к Колыме, Вова сзади…
Снег пошёл.
У Вовы в лодке бабушка-тёща сидела, так она уже в пальто, а нам и надеть нечего.
Пристали к тебе, Серёга. Бабушка «скорую» вызвала, «уазик», она там работала. Всё на берегу бросили…
Вот так, Александра, ты почти и родилась.
Колыма за те двадцать минут, пока шпонки меняли, вскипела.
И четырёх человек в себя приняла. Не подавилась.
Мы никогда не знаем, Сашулька, почему мы живём.
А в ноябре того 1993 года на праздники случилась авария в котельной, и батареи стали остывать очень быстро, мороз уже под сорок. Только свет был в лампочках.
Тебе, Сашуля, и двух месяцев не было. Любашка тебя к себе прижала, я вас двумя одеялами накрыл. Сам свитер надел водолазный, непробиваемый. В окно смотрю, а лампочка горит жёлтой спиралькой, потому что все обогреватели включили. Достаю теплоизоляцию газопроводную, это дядя Лёша мне подарил. Ещё хуже, спираль вообще тухнет.
Тут ты звонишь, Серёга Давыдов с Пантелеихи, между нами четыре километра. Трамваев и электричек на Колыме не бывает.
Не, говорю, подождём. Ждали часов двенадцать. Я, что ли, не мужик, не могу семью обогреть?
Ты же, Серёга, не выдержал, авто к подъезду. Коляску в багажник, Сашульку в одеяло, носик красненький. А у Серёги с Аней печка кирпичная, отдали они нам свою широченную кровать… А тепло такое, мягкое… Девочку колымскую поближе к красным кирпичам.
Как же ты, Сашулька, этого не помнишь, улусная девка?
А ведь Колыма отнять тебя у нас с Любашкой хотела…
КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ
Перевод английской речи – вольный
Ты, Серёга, не был ещё в те времена профессором, знатоком парниковых газов, только подбирался к теме. Не было ещё твоих публикаций в «Science». Ходил в таких штанах с начёсом, философствовал, жил вообще в бочке, как Диоген.
Границы наши северные несуществующие тогда открылись. Иностранные учёные, японцы и американцы, сразу к нам хлынули, те, кто хотел понять наш Север как источник парниковых газов для всей планеты, и узнать, что мы за люди, что нас там, на Северах, припекает.
Тогда всё человечество боялось озоновых дыр, хотели даже спреи на основе фреона запретить.
Кто-то и приборы стал привозить, оборудование для мониторинга, а кто-то с видеокамерой, чтоб запечатлеть наши серые героические будни… А мы все велись на иностранщину. Серёга Тяжов отдал одному из голливудских кухлянку новую просто так, а тот – нет, ты мне дай потёртую, с пролысинами от ремня ружейного и колымской моли.… Ну, на, из старого сарая.
– Good! – и видик за этакое старьё.
Уклад наш колымский, туземный, и Закон не понимали. А мы думали – во, жизнь какая наступила! Нам бы, главное, по видику отхватить. Тоже кое-что забывать стали…
Эду было за пятьдесят, привёз с собой кучу блестящих ящиков, Голливуд, по-взрослому, «без трусов». Сто седых косичек, чёрная кожа и умные глаза.
Ты мне, Серёга, звонишь, приезжай на Пантелеиху, как с этим чёрным говорить, не понимаю ничего. А Эд – негр, и косички у него седые, и в Штатах уважаемый человек.
Приехал, конечно. Ты чай наливаешь колымский, в двух банках варенье, клоповник и лимонник. От лимонника сердце сразу к горлу, выпрыгивает. А клоповник успокаивает, истомляет, не даёт бежать, куда глаза смотрят.
Живём полчаса, как на качелях, – то вверх, то вниз. Кружка чая то с клоповником, то с лимонником.
Эд с косичками говорит, я из Лос-Анжелеса, из города ангелов. С Голливуда. Прилетел снимать дикую колымскую природу.
И рассказывает вдруг историю, а она у него, у Эдика, как американская мечта. Красивая.
– Заработал денег, – Эд говорит.
Мы с тобой, Серый, смотрим на него и думаем, а у нас-то и ума палата, и без мяса не сидим, а денег заработать не можем.
И решил вот Эдик на эти деньги дом себе купить. Поехал в пригород города ангелов, там дешевле…
– А что поехал-то? – ты у меня спрашиваешь, чтоб я ему перевёл.
– А-а, мы, американцы, очень ценим недвижимость, если она у нас есть. А мне, – Эд говорит, – захотелось как раз такого, как у тебя, Серж, – в бочке пожить, философию жизненную познать. А то у нас одни деньги на уме.
Ладно. Эдик до того на клоповник налегал, а тут лимонника хватанул, и понеслось.
– Красное дерево, секвойя, у вас на Колыме не растёт. А его даже древесный жучок не ест. В 19 веке пол-америки бы жучки съели, если б не секвойя. Нахожу место, где все дома из красного дерева, старые, по сто пятьдесят лет. Хочу купить, а соседи у виска крутят, – охренел, старьё брать, всё белой краской закрашено, – это у нас, американцев, основное – внешний вид. Смотрел-смотрел, и потихоньку всё лишнее убрал и увидел, каким построили его хозяева, и купил. Мы с женой краску ободрали, а под ней и красное дерево, и изразцы на печке (он сказал, на камине), и витражи. И у хозяина всей этой махалú, квартала, стали американцы покупать другие дома и так же очищать от лишнего.
– И вам сразу подняли плату за воду, электричество, газ, – это я уже порадовался за капиталистов.
Эд на меня вытаращился:
– Почему подняли, наоборот, тэксиз нам снизили. За то, что мы дали хозяину дополнительный доход, он с нами поделился.
Тут мы с тобой, Серёга, на него вытаращились: у нас в России такого не бывает.
А я сижу и думаю, чем же Эду отомстить. И придумал, примеры же на каждом шагу:
– Послушай, Эд, как у нас всё устроено. Смотри, говорю всего одну фразу, и ты всё поймёшь. На реке встречаются две баржи, гружённые песком, одна идёт вверх по течению, другая вниз.
Эд опять вытаращился, не понимает. Я повторил, но он не засмеялся. Наверно, не поверил.
Вот, как мы с тобой американцев уели, а?
ДВА ПАТРОНА
Честные мы были геологи, и упёртые. Уже геологии-то самой не было, а мы всё сопли морозили, не хотели Севера покидать, за горизонт рвались. Кто в грузчиках, кто в бичах, азарт и фарт водкой заливали.
Я к тебе, Серёга, пришёл, десять отгулов в «Колымторге» заработал.
– Дай «буран» до Гальгаваама доехать, всего-то пятьсот вёрст.
Ты говоришь:
– Охренел, что ли, в одиночку ехать, да на казённом аппарате? А если что?
– Поехали тогда вместе, меня Москва попросила газовую съёмку сейчас по апрелю сделать.
…Через день укатил я со Стасом, прикомандированным москвичём. Здоровенный мужик был, мосластый, гирями качался, у тебя все дрова, листвягу, за сутки переколол, секса гигант.
Но на Северах первый раз. А ты ехать не захотел. Вот и пришлось мне дрожь в коленках унять, Стаса на задник нарты усадить и двинуть в белое безмолвие.
Любашака на меня смотрела… блин, как в последний раз. Но молчала, знала, что говорить бесполезно, жена ж геолога.
А мне тридцать семь – возраст самоубийц. Стасу пятьдесят, но тоже, смотрю, безбашенный. Куда с добром?
Через пóлтора суток мы уже на берегу Колымского залива были, прошли Чаячьей протокой. Полсотни проб снега взяли. Днём тепло, солнечно, «буран» греется. Я ему, бедняге, снега на цилиндры накидаю, он пыхтит, шипит, плюётся. А сам в сумерках еле сапоги заледенелые от носков отодрал, валенки надел. В унтах на Колыме только фраера ездят.
Холостым ходом до устья Большой Чýкочьей часа три, через залив. Едем, на застругах прыгаем. Стас сзади в нарте, в пыли снежной, как грузчик в муке, за растяжки грузовые держится, терпит, зубы сжал, молчит, как олень. И пар изо рта не пускает.
Посредине залива антенну раскинул и в рацию:
– Здорово, Гвоздь! Что у вас на ужин?
Там на льду топографы стояли, промерщики, на будущую навигацию работали, там меляки везде, осушки.
Коля Гвоздёв пробубнил из тепла:
– Я тебе, шалый, ведро с солярой зажгу. На него от Чукочьей и езжай. Там всего двенадцать километров. Смотри, мимо не проскочи.
А в заливе темно, хоть и звёзды светят и сияние зелёное.
Стас в куржаке, на полусогнутых:
– Давай ружьё соберём.
– Зачем?
– Знаешь, вдруг я по дороге выпаду… А тут, сам же говорил, медведи белые родятся, в оврагах…
А я думаю: если с нарты свалится, ружьё точно сломает, тогда мы даже застрелиться не сможем.
– Ружьё, – говорю, – Стас, в чехле на шею повесь. Вот тебе два патрона, пулю в нижний ствол, а картечь в верхний. Если с первого выстрела не завалишь, картечью застрелишься.
Постоял мужик, подумал, патроны в карман положил, ружьё на шею, и сел на нарту.
Послушный, мышцóй не играл. Понял, во что попал.
С устья Большой Чукочьей хорошо огонь виден, и рядом, как будто, а в залив не могу уйти, торосы вдоль припайной трещины с двухэтажный дом. Свет от фары по ним скользит, и про медведей не думается, тут стена непреодолимая, это хуже.
А шестнадцать часов за «бураном»? Рукавица к «газульке» примёрзла, я уже ладонью на неё давлю из последних сил.
Что, вот, углеводородов, нефти и газа у нас в СССР не хватает, чтоб так мучиться? Не могу же ледяные эти горы перелететь, и «буран» казённый, Серёга, погубить. Хороший ослик-то, тяговитый, и ест мало. Такого редко встретишь.
Прыгнул я, полуживой уже, с заструга, он твёрдый, не хуже льда, лыжа хлопнула, – испугался, не сломалась бы, – и ослик наш умолк.
– Ночуем, Стас.
– Где? – москвич этот долбаный спрашивает.
Чай варить сил уже нет, не Стас же это будет делать, ещё сгорит, это ж не дрова колоть. Кое-как палатку на ящик из-под холодильника набросил, в нём бензин в канистрах, пробы в стеклянных баночках от детского питания, сало, примус, бутылка спирта, – удачно заглохли, субширотно, – ветерок с севера тянул низовой.
Ты, Серёга, помог нам тогда, к «бурану» дóхи дал и штаны из меха зимнего оленя, Татьяна Скотникова их шила. Только маленькие они, блин, юкагиры. Мы со Стасом богатыри против них, да ещё, если поверх ватных брюк и телогрейки натягивать, совсем коротко получается.
Всё нам, северянам, не так: то рубашка короткая, то хер длинный.
Очнулся я, Серёга, – где? Не могу ничего понять, усы к дохе примёрзли, волосинки оленьи бьются травинками заиндевелыми под неслабым ветерком. Ощущаю морозец, по предположенью, под тридцатник.
Минут десять соображал, пока звук неуместный на льду не услышал. Бляха-муха, это Стас храпит! А эхо в торосах гуляет, заблудилось.
Встаю, качаюсь. Стас с южной стороны лежал, его сразу холодом обдало, он глаза открыл, почмокал, как ребёнок, и захрапел опять, ладошки под щёчку.
Меня пóтом прошибло: поднимать его надо, он уже туда пошёл, к юкагирским праотцам верхним. Пинка ему в зад. А «буран» -то заведётся на тридцатнике с ветерком? Или паялкой греть придётся? А лыжа как там, пополам?
А соляра гвоздёвская горит, сияет маяк, двенадцать километров до него. Гвоздь не дурак, верхонок старых в ведро накидал, они больше суток гореть будут. Видно, ветром огонь расплёскивает.
И опять та же мысль – чего дома-то не сиделось?
Стас уже стоит в позе замерзающего, руки к груди, себя, любимого, обнимает. А я вспомнил: он же жениться собирался на двадцатилетней. Как вернусь, говорит, с Колымы, так и женюсь. Не зря он на дровах тренировался. Ну-ну. Вернись попробуй. Сначала вон палатку собери, уложи, брезент каляный затяни, и на правильный узел завяжи, чтобы потом ногти не ломать, развязывая. Я тебе не дам фал капроновый резать.
Говорю:
– Бегай вокруг нарты.
Побежал, конечности, как у куклы, болтаются вокруг тела. Гляди, щас отвалятся.
А сам к ослику нашему. Ну, подсос, рывок?
Да, Серёга, не зря мы с тобой столько водки вместе выпили. Колымский закон нас не осудил.
Биноклем прошёлся по горизонту – балок с чёрным дымом! Рядом – трактор! Двух километров, блин, не доехали! А от того балка Гвоздь трактором пýтик через торосы проломил и вешки даже поставил. Это ж не кто-нибудь, а топограф Николай Гвоздёв, брат по разуму.
Любашка, жди мужа-геолога, он вернётся, обещаю. У нас же дети…
После гвоздёвского борща и жареной оленины – в сон. Мы ж пока эти двенадцать километров проехали, я три раза чуть с «бурана» не упал. А так туда хотелось, в сладкую смерть.
Так оно бы и состоялось, промедли мы чуть-чуть. Апрель – ветреный мужичок, Пургею свою наслал, она двое суток нас охаживала, лезла, дрянь, во все щели, песни пела – заслушаешься, и то плечиком приложится, то коленкой, а то и грудкой своей колкой холодненькой навалится – не вздохнёшь. Ловко бы она нас прихватила у Большой Чукочьей, залюбила бы насмерть.
Вверх по Чукочьей в десяти километрах изба, конечно, была, да попробуй найди её, занесённую…
Пока дуло да свистело, я, Серёга, «буранчик» твой посмотрел, пружинки-мружинки, сломанные об колымский лёд, поменял, звёздочки те же беззубые заменил, кулачки поприжал, а то щёлкали они как-то не разом, один за другим. Непорядок это в такой ситуации.
Стасу всё показал:
– Вдруг, Стас, я с «бурана» упаду, ноги-руки переломаю, что делать будешь сам-один?
А до Гальгаваама ещё километров триста пятьдесят, и гаку сорок. Страна же нефти и газу хочет, а мы тут, с москвичами…
Хотя она, страна, в тот момент совсем другого хотела – свободы, демократии. А у нас, у колымчан, всего этого было, хоть завались. Колымский закон же действовал, и мы, что хотели, то и делали.
…Следующее пристанище мы со Стасом нашли легко, хотя, кроме горного компаса, чтоб направление по нулям держать, ни карты, ни аэрофото не было, – бесполезно это, только на удаче. Ехали вдоль берега залива, он кокорами чётко отмечен, они, чёрные коряги, из снега и льда торчат полосой метров в пятьсот, пробы брали, нормально работали.
Стас опять стал медведей бояться. Я одного увидел, так тот оленем оказался, и на лёд перед «бураном» выбежал, поворачивать стал, поскользнулся, бедолага, грохнулся. Стас сразу осмелел, орёт сзади: бей его! Среди москвичей тоже, гляди, азартные попадаются.
А я смотрю на телка безрогого, одной рукой за руль, подмышкой ружьё, и стрелять не могу, любуюсь, и жалко мне его, как он оконфузился. А если б волки были? Не пожалели бы.
Стас телесами своими мохнатыми навалился: что, гад, не стрелял!
Беда с ними, с прикомандированными.
Пришлось объяснить туристу московскому, что «бурашка» ещё восемьдесят килограммов груза не потянет, а если обдирать – час, минимум, потеряем. Не мог же я ему прямо сказать, что живое намного красивее, чем мёртвое. Мы же не голодные, и спирт у нас есть, и надо пробы брать, чтоб страна дальше жила, и балóчек ещё не нашли.
Где он, а?
Вот когда печку в нём затопили, супцу на сале заварили, спирту по соточке, до Стаса дошло. Вынул из кармана два патрона, что я ему посреди залива дал, положил на изрезанный ножами стол. А я уж забыл про них, про патроны эти…
Глянули мы друг другу в глаза, и смех пробрал, хохочем, нет сил остановиться. Ну, видать, каждый по своему поводу.
– Прости меня, – Стас говорит, – я всё понял. Возвращаю патроны.
…В общем, Гальгаваам нас дождался, оставалось-то до него всего сто пятьдесят вёрст. Работу мы со Стасом завершили, пробы в детских баночках нормально доехали, не побились, Стас их потом с собой в Москву увёз, и аномалии газовые были обнаружены.
Жалко, Стас так и не женился, вернулся с Колымы, а невеста его к московскому парню ушла. Быстрые они тоже, москвичи, но у них другие понятия о геройстве.
Мы со Стасом обратные эти пятьсот километров легко сделали, катились, как с горки. Я только тогда понял, что если на север идёшь, то как в гору, тяжело идти, с напрягом. Что-то в голове там напрягается, то ли от страха, то ли от полей электрических и магнитных, хрен его знает.
Ты, Серёга, когда меня увидел, и «буран» целёхонький, как бы и муха не сидела, говоришь, этак посмеиваясь:
– А я уж думал, не увижу тебя больше, Серёга.
Бляха-муха, ну, ты, Серый, даёшь. Дать бы тебе в глаз.
Но не смог на тебя, Серёга, обидеться, нет… Ты тоже хорошо на язык острый, да и рад был, ясный пень, что я вернулся, пошутить решил, понятно. «Буран» твой прошёл больше тысячи километров по тем местам, что и космонавтам не снились, и, главное, работу сделал, ослик наш, не чихнул, не пёрднул.
И Любашка дождалась, любовь же у нас была, и дети общие. Не мог я не вернуться.
И мы с тобой на сутки загудели… Любашка потом неделю со мной не разговаривала.
Скажи, было же и у нас с тобой, о чём поговорить?



