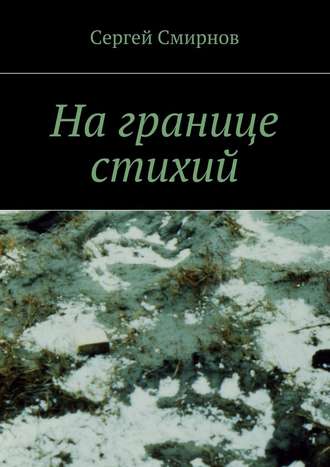
Сергей Смирнов
На границе стихий. Проза
Светкина щека была того же цвета, что и пыль, губы только чернели.
– Сунь ей два пальца, сразу полегчает.
– Света, дыши! – Это Зойка лупила уже что есть силы по серым щекам. Тут и я начал кое-что соображать. – Умерла… Пульса нет… – рыдала Зойка, и голос ее был полон бессильной злости. Её просто трясло, так она, видно, обозлилась. Всю жизнь о смерти думаем, а когда она тут как тут, не готовыми к ней оказываемся, не можем, выходит, постоять за себя и своих ближних. Есть от чего разозлиться. И я тоже не знал, чем ей помочь, что делать. Стоял столбом и смотрел, как в театре. Не верилось, что все это наяву происходит, на моих глазах, потому что вокруг ну ничего не изменилось! Как же это, а?
– Ты, фраер, дави сюда, – зло сказала Зойка, – дави и отпускай. – А сама глубоко вздохнула и припала ртом к чёрным этим губам. Как будто от чужих глаз закрыла. И правда, смотреть на них было неприятно.
– Да не стой ты, пень с глазами, – снова зашипела Зойка. И мы заработали, заработали, как заведённые, как… я не знаю кто. Но думал я уже, если вообще думал о чем-нибудь, не о смерти, а о том, какая же это трудная работа. Руки-утюги налились чугунной, неподъёмной тяжестью, и я уже, наверно, не помогал, а крушил тоненькие Светкины рёбрышки. Мне до слёз хотелось, чтоб она ожила. Что же это за работа, если результатов не видно? «Пень с глазами, пень с глазами», – шептал я бездумно,.. И что-то билось у меня под горлом.
– Эй, на дебаркадере! – донёсся откуда-то издалека голос Славика, страдальца неудовлетворенного. Он так, видно, и не понял, что к чему, нёс как всегда что-то из своих севастопольских рассказов, и тишина, окружавшая нас, ушла, взлетела куда-то вверх, как будто лопнул тугой и плотный пузырь, из которого хлынула лавина звуков. Я услышал скрип щебёнки, посвист ветра, хриплое и тяжёлое Зойкино дыхание. Я услышал, как светит солнце, и как движется над землёй ночь, – вот она, оказывается, какая – Вечная Тишина. И ещё я услышал этот проклятый «марафон», и увидел Славкины ботинки, заляпанные грязью, и низ его обтрёпанных брюк. И тогда Зойка сказала ему что-то, а я никак не мог разжать зубы и всё смотрел, как удаляются, не торопясь, эти обшарканные ботинки и уже тихо его ненавидел.
Зойка устала, и мы поменялись, и я полной грудью вобрал холодный прозрачный воздух, наполненный солнцем, и выдохнул его вместе с перегаром, изо всех сил прижавшись к чёрным опавшим губам.
Нет, она не хочет возвращаться…
Плыл перед глазами кровавый туман, надвигался, нависал над дорогой, и ветер качал его тугие струи… Кто-то пнул меня в бок, я поднялся, переполз на четвереньках и снова заработал, как автомат: вниз-вверх, вниз-вверх…
А потом мы со Славиком сидели в металлическом кузове, и вокруг грохотало и тряслось, и ржавая бочка прыгала, как живая, и мы отпихивали её ногами, а позади самосвала качался столб оранжевой пыли; был длинный пустой коридор и звон в ушах. И кто-то в белом халате бежал на кривых ногах по освещённому солнцем коридору… Сухой воздух царапал глотку, воды, воды, воды…
Славик держал Светку за руки, а я за ноги, и мы медленно поднимались по лестнице. Удержать навесу Светку, такую маленькую на вид, было просто невозможно, и мы клали её прямо на ступеньки головой вниз. И снова брались, и снова клали. Голова её откидывалась, рот безвольно открывался, одежда сползала с провисшего тела, и не было, наверное, на свете ничего более дурацкого, чем это бесконечное восхождение с элементами ёрзанья на месте. Но мы очень торопились, хотя нас никто не подгонял, и мы не нанимались таскать на третий этаж без лифта, а там, наверху, не ждали цветы и награды. С нас, как с кочегаров, катил пот, но Славик, бугай ненормальный, все пёр и пёр и останавливался, только когда Светкины ноги выскальзывали из моих обессилевших рук и грохались об лестницу. Славик ждал, пока я ухвачусь, и всё начиналось сначала. Зойка помогала, как могла, и всё время пыталась натянуть задравшуюся рубашку на непослушную, оголившуюся Светкину грудь. Мы задыхались, и запинались за каждую ступеньку, а наверху в белом халате стоял кто-то и молча смотрел на нас.
В палате, – стараясь ничего не задеть, такое всё вокруг было чистое и хрупкое, – мы уложили Светку на клеёнчатую кушетку. Славик тут же испарился, а я медлил уходить, переминался с ноги на ногу, как будто всё ещё могло чудесным образом исправиться и превратиться в безобидную игру. Хотелось крикнуть: хватит уже, хватит притворяться, вставай и пошли! А вокруг неё уже засуетились, забегали. Я одёрнул на Светке рубашку и отступил на пару шагов.
– Вместе пили? – это уже мне. – Любуешься? – Я успел заметить выражение брезгливости на лице медсестры, готовившей шприц, и напоследок услышал: – Такая молодая, а второй раз уже…
Славик и Зойка сидели в коридоре на подоконнике, – грязные, растрёпанные, покрытые пылью с ног до головы, в потёках нездорового пота, а у меня весь бок был то ли в мазуте, то ли в масле. А, всё равно теперь.
Славик сидел прямой и каменный, как скифская баба, – где-то я её видел? – только у бабы в руках чаша каменная, не для воды, конечно, а у этого – магнитофон, набитый сексуальными негритянскими голосами, которые шептали своё заветное слово «марафон». Как не расползались они вокруг, больничная тишина загнала их всё-таки в конец коридора. Но они выхлёстывали, вырывались оттуда, полные бешеной шизофренической энергии, в ушах начинал тогда завывать кто-то грубым утробным рыком, которому вторили тонкие подголоски, начинавшие вдруг сбиваться с ритма и частить, рык пытался их догнать и припадал к самому уху: «У-ха-ха-а!».
– Жить будет, – сказал Славка, – куда она, на фиг, денется, и не таких откачивали. Вон у нас на плавбазе буфетчица была…
– Заткнулся бы ты, – говорю, – хоть ненадолго.
Время тянулось медленно, как на стояночной вахте. За дверью было тихо, иногда только что-то еле слышно звякало. Рыжая Зойка смотрела куда-то мимо нас, что она там такое видела? О чём думала?
Славик вдруг встрепенулся и даже магнитофон свой выключил и от груди оторвал.
– Слушай, Вася, а что, если в пароходстве узнают?
– Не бойся, – говорю, – с пароходства из-за тебя ордена не поснимают.
– Да нет, Вася, тут главное сейчас – не проболтаться, – зашептал Славик на весь коридор. – Чтоб не узнал никто, чуешь? – И стал мне в глаза заглядывать честным и выразительным взглядом.
Но я промолчал, не ответил ему ничего, чтобы он, недоумок, помучался. Что зря воздух-то колыхать. Я уже понял, с ним по-другому нужно, – табуретку сначала надеть на голову, а потом уже прописные истины втолковывать. С суперменами только так, иначе доходит плохо.
– Покурить бы, – сказала Зойка. – И попить.
Славик ёрзал на подоконнике, дышал, как больная корова – маялся, бедняга.
Вот так мы и ждали, и мир был пуст и втиснут в этот больничный коридор. Солнечный луч делил его на две части, тёмную и светлую, и умирал у наших ног.
Наконец, дверь отворилась, вышла медсестра и, не глядя на нас, быстро ушла. Вернулась она минут через пять и тут уж конечно увидела всю нашу распрекрасную компанию, мы даже с подоконника спрыгнули.
– Идите, проспитесь, устроили тут!
На улице на ступеньках мы сели перекурить. Славик нас своими угостил. И тут я подумал: а зачем мы её спасли, что от этого изменилось-то? Ведь бог троицу любит, да и какая разница – в третий раз или в десятый? Он же обязательно наступит!
Ей, может быть, и никакой.
И всё-таки на душе было хорошо. Несмотря ни на что. Не то, чтобы птицы пели, а так, легко как-то. И Зойка, как сидела рядом, так и прижалась ко мне и руку в волосы запустила.
– Холодно, – говорит, и я обнял её и ещё крепче к себе прижал. И так мы сидели долго-долго, а рыжее солнце било сквозь золотые Зойкины волосы, и получался золотой нимб. И если бы солнце погасло вдруг, и на землю хлынула самая чёрная темнота, какая только на свете есть, этот нимб остался бы, и все заблудшие и потерявшие себя во мраке сразу бы увидели, за кем нужно идти…
– Ну что ты, бедненький, не плачь, – шептала Зойка, – не плачь, всё уже кончилось. А я-то испугалась, чуть вместе с ней не умерла… Зачем же мы столько пили, ведь знала же, что у неё сердце слабое… Послушай, Васенька, пойдем ко мне, куда ты грязный такой, я тебе постираю всё, пойдем, а?
– Погоди маленько, уж больно уютно сидим, – проскрежетал Славик. – Так что ты там про Толика несла? Мужа собственного, значит, в покойники записала? Скажи, вот ему скажи, – он кивнул на меня, – кто твоего муженька на московский рейс провожал. Скажи! Чистенькой хочешь быть! Скажи тогда, что тебя муж бросил, и мы с тобой потом год прокувыркались. А то ещё давай к корешу одному заглянем, недалеко тут, магнитофон вот отдадим, выпьем да послушаем заодно, что он нам про тебя расскажет.
Славик изрекал, выдавливал из себя слова, – они тяжело слетали вниз, и воздух вокруг нас становился всё более плотным, густел, затвердевал, и дышать им было уже невозможно. Я чувствовал, как вздрагивает под моей рукой Зойкина спина.
– А то, может, и Васюрика возьмем, поучаствовать…
Я не смог хорошо размахнуться, потому что я сидел, а он стоял, но попытался всё же ногой его достать, а он магнитофоном закрылся, и удар прямо по центру пришелся. Что-то там завыло, как от боли, и негры те сексапильные «марафоном» своим захлебнулись. Не помню, что я такое кричал ему, – Святославу, кажется? – но только он боком-боком и отвалил куда-то, к корешу своему, наверно, подался. Я бы при случае и для кореша такого мешок с апперкотами развязал. Слышу только, из-за угла ветром донесло:
– …ждите… сволочи…
Да уж, из-за угла-то они все умеют.
Докурили мы с Зойкой и пошли, попылили по дороге, как две букашки по травинке, которым и ползти весело, и летать – в радость.
…А навигация началась только через неделю, когда на бар подошёл атомный ледокол «Поярков», первым протащив «на усах» «пьяный» пароход. В трюмах его было полно воды, – этикетки на бутылках выцвели от морской соли и отклеились, – но он, бедолага, всё-таки шёл какое-то время своим ходом в караване сквозь ледовые поля, торопился.
Мне повезло, Зойка помогла договориться на гидробазе, и меня взяли матросом-мотористом на лоцмейстер на всю навигацию. Оказывается, это он и был, тот самый чокнутый буксир, что пробивался через лёд своим ходом.
Зойка дождалась меня, и даже пришла на пирс, когда мы входили в порт уже по серьёзному ледку. И я остался в Посёлке-Раз насовсем. Это ведь только кажется, что северная навигация короткая, – просто она не терпит простоев.
1982
ПРИЮТ ОХОТНИКОВ
Охотники уже сидели в открытом кузове вездехода ГАЗ-66, дожидаясь запаздывающего егеря Сашку Ныркова, когда медленно и неотвратимо повалил снег. Каждую снежинку размером с пятак можно было, не торопясь особо, рассмотреть в вечереющем воздухе, пока она, покачиваясь, падала к примороженной к ночи земле, а потом лежала преспокойно некоторое время на рукаве телогрейки или на брезенте, прикрывающем охотников, искажаясь неуловимо, гася один за другим острые лучики неземного заоблачного света.
Время шло, второй машины всё не было, под брезентом лежали, тихо переговариваясь, – звуки были приглушены падающим снегом, только водитель «шишиги» и начальник партии Ластовский, оба топографы, топтались, покуривая, возле кабины, похрустывали настом. За их спинами можно было разглядеть по-весеннему грязную улицу посёлка, по которой должен был приехать Нырков, серые двухэтажные дома и освещенную фигуру вождя с поднятой рукой. Издали казалось, что какой-то полоумный путник стоит у поворота вот уже битых полчаса, голосуя на дороге, которая заканчивалась в темноте за ближайшим фонарным столбом.
Авдюшин, задумавшись, тупо смотрел на эту хорошо знакомую картину, ничего не видя и не понимая, пока до него не дошло, что лежит он в кузове «шишиги», что идёт снег, что наступила, наконец, весна, что едут они с егерем Сашкой Нырковым на гусей к Лёхе Набатову. А ведь и погоды нет, и чего-то стоим, ждём, и левая нога затекла, а тут всплыла и основная, гложущая сознание мысль, что вот этой уже весной нужно уезжать на материк. Не «пора», не «хочется», а «нужно» и всё.
«Геология давно кончилась, – думал Авдюшин, – народ разъезжается, сколько можно свиные туши таскать, – не жирно ли будет «Колымторгу» грузчика с высшим геологическим образованием иметь!? У них, у торгашей, вместо мозгов – грузчики. Это перетащи сюда, а вот это на то место, где до этого лежало вот то. Тьфу… Дома жена пилит и пилит, – едем, мало тебе, грузчику, платят, е-дем!
Вот, когда сам начальником был, никто куском не попрекал. Попробовали бы только. Всё ведь было! А уж сохатина-оленина, рыба там, нельмушка, чир озёрный, муксун, ряпушка на столе вместо хлеба. Да и сейчас есть…
Ну а главное-то – не жена, не рыба, а вот снег этот последний. Или первый… в сентябре… тихо-тихо так ложится… что слышно, как скрипят по нему заячьи лапы, и вдоль чёрной воды белая полоска… Ну, ты и сказал – главное!».
Тут Авдюшин вспомнил Большой Остров, на котором они искали касситерит, по полгода не вылезая из снега и холода, и особенно тот сентябрьский закат, багровые отблески на косой поверхности снежника, сдуваемые отчётливо синим ветром. Они стояли тогда втроём, один на один с этим сумасшедшим закатом, до него, казалось, можно легко дотянуться, перешагнуть только забитый льдом пролив, мёрзлую лепёшку Малого Острова, и проскользить дальше по блистающему ледяному уклону моря Лаптевых к нестерпимо горящим холодным облакам. Вспомнил, как нащупал в кармане полевых штанов забытую с материка десятку, вынул её, невесомую, под этот пронизывающий свет и, глядя, как она бьётся на ветру, спросил:
– Что они стόят здесь?
И неожиданно осознал, что всегда относил себя к той меньшей части человечества, которая знает ответ на этот вопрос. Разжал пальцы и едва успел проследить недолгий кувыркающийся полёт бумажного прямоугольничка.
«А ведь если, на самом деле, отбросить все эти мелочи с работой, с зарплатой этой, с вороватыми торгашками, с тем, что и поговорить-то толком не с кем, заглянуть внутрь, туда, откуда вылезает постоянно чувство это, тоски и беспокойства, то ведь окажется-то… Что окажется, ну? А вот то и окажется, что уезжать не хочется. Н-е х-о-ч-е-т-с-я!»
Авдюшин посмотрел в сторону Колымы, закрытой завесой снегопада, и снова увидел голосующего вождя.
«Вот наваждение», – улыбнулся он и шевельнул затёкшей ногой.
– Авдей! Кружку давай! Выпьем, иначе он вообще никогда не приедет!
Как только Боря Клязьмин расплескал по кружкам американский спирт и поставил на заснеженный брезент котелок с десятком очищенных луковиц, сверху по улице прошелся жёлтый луч фар, и второй «шишиган» встал рядом с первым.
Виновато улыбающийся Нырков, в форменном бушлате, перепоясанном потёртым брезентовым патронташем, с рюкзаком и зачехлённым ружьём под мышкой, крякнув, залез в кузов и, перегнувшись через борт, сказал тонким голосом:
– Однаха, трогаемся.
Все, дружно запрокинув головы, выпили, Боря подхватил котелок и заёрзал, освобождая место Ныркову. Ластовский буркнул:
– Наконец-то. – И забрался в кабину.
«Шишига» рванул с места, буксанув всеми четырьмя колёсами, и пошёл, набирая скорость, вдоль реки, потом, у аэродрома, скатился вниз и в фонтанах смерзающихся брызг выскочил на лёд.
Машину слегка водило на гладком льду, в кузов забрасывало выхлоп, но охотники налили ещё по одной, Ныркову двойную, – зимник был уже рядом. Впятером, – двух мужиков Авдюшин видел впервые, но понял, что они из местной военной части, связисты, – в кузове было просторно. Снег немного поутих, развиднелся даже противоположный берег, – чёрной полоской леса в двух километрах от них.
Зимник шёл посреди реки и зимой выглядел лучше иного шоссе, можно ехать быстро: и сто, и двести, если выжмешь, только тормозить на нём – нельзя. Сейчас, в мае, снежные брустверы осели, но тáлице некуда было деваться, истечь, пока не прогрызёт она, не проест двухметровую ледяную броню, и «шишига» шёл по двум чёрным колеям, казавшимся бездонными, пересекая иногда целые озёра воды.
Ластовский часто останавливал машину, заглядывал в кузов и просил чего-нибудь налить. Прыщавое узкое лицо его было красным, то ли от спирта, то ли от страха. Он гугниво говорил:
– Фу-у, мужики, дайте перекурить. Я уж и дверку не закрываю, жду, вот сейчас, сейчас… На хрена я с вами связался! Машина вот казённая. Если что – не расплачусь.
И тут же начинал смеяться, ухая, как филин.
– Ну, давай, али-да-да, али-нет-нет!
Но пересесть из кабины в кузов никак не хотел. Здесь, под хмурым колымским небом, было совсем нежарко, – а, как известно, даже маленький Ташкент лучше, чем большая Колыма. «Шишига» шёл дальше, словно катер, оставляя позади кильватерный след.
Авдюшина трясло вместе с кузовом, он привычно отрешился от холода и реальности и пьяновато думал о своём.
«Вот Боря Клязьмин. Что ему-то там надо, у Набатика? Гусей, что ли, пострелять больше негде? Хм, может, и негде… Сам-то ты зачем едешь за сто километров? Вот так-то. А у Набатика хороший участок, в лесной зоне, соболя там, хоть… Да и мужик он неплохой, юморной даже… Хотя на первый взгляд и несерьёзный. А что мы, один раз выпивали с ним в посёлке, что можно о человеке сказать после литра на двоих, но – не дурак, нет… Да и чтоб участок промысловый держать, сколько нужно вложить, и труда, и всего… Крутиться надо, сколько в совхоз сдавать, сколько налево. Бензин купи, запчасти достань, приваду заготовь, собак накорми, дров навози-напили… Ужас! А что Боря Клязьмин?.. Постой, он же в „Малиновой рыбке“ тогда…».
«Рыбкой», а потом «Малиновой рыбкой», называли в посёлке магазин «Рыба». Небольшое, отдельно стоящее над обрывом здание, выкупили у пошатнувшегося с перестройкой рыбозавода местные бандиты, или Краснянская мафия, по названию порта Красный Яр.
В этом магазине было всё, кроме рыбы. Всё, очень важное и притягательное для северного человека, рыбака, охотника, да любого, кто не хотел ходить пешком на рыбалку и охоту и носить зимой и летом чёрную зэковскую телогрейку. А краснянские относили её не по одному году.
На полках возлежали перестроечные символы: видеомагнитофон, японский телевизор, видеокамера, и – главное: лодочный мотор, сеть-кукла, болотные сапоги и, и, и… Всё в единственном экземпляре, обычный северный советский дефицит.
За прилавком сидел смурной, нечёсаный продавец с вечной сигаретой в зубах и смотрел боевики, почти никогда не отрываясь от своего занятия, – посетители заходили редко из-за сумасшедших цен. В основном посмотреть на огромный аквариум с живыми золотыми рыбками.
Секрет «Малиновой рыбки» заключался в том, что она работала круглосуточно, а подсобные помещения были забиты палёной водкой. Мужик за прилавком потому и был всегда смурным, что неделями не выходил наружу. Только краснянские и были постоянными покупателями и частенько устраивали там гулянки с музыкой, мордобоем и выпадением из окон.
«Малиновая» – это от слова «малина».
И вот однажды, – Авдюшин слышал этот трёп практически из первых уст, – краснянские пригласили материковского авторитета посетить забытый Богом и ментами Прибрежный край. Перетолковать, понятно, о том, о сём, как жить дальше и лучше. Уважение было проставлено, естественно, в «Малиновой рыбке».
Ну, деловой разговор: рыбка такая-сякая, и даже в пресервах, мясцо, камушки, бивни, соболя, золотишко, – пошло-поехало! Братва окосела: водка – дармовая, а перспективы – доступные.
«Эх, пацаны! Развернись, судьба, вставлю!».
Давай показывать, на что отмороженные северяне способны. У кого наган гулаговский, у кого китайский ТТ, у кого тесак шириной с весло! Дело среди бела дня было, но стрельба началась, как в тёмном Шервудском лесу: пуля в пулю. Народ в посёлке притих, сторонится «Рыбки» и всё тут. А напротив разгулявшейся харчевни, на берегу реки, находилась районная прокуратура. Вот как раз в окно ему, прокурору, пулю спьяну и всадили… А пуля эта была клязьминская…
«Шишига» замедлил ход, а потом совсем остановился. В сером сумраке виднелся снегоход без капота и силуэт человека, который размахивал руками и что-то кричал в их сторону.
– Колька Чижов, однаха. Забирать его нада, – сказал Нырков, как будто мог видеть сквозь брезентовый капюшон, накинутый на голову.
Авдюшин подивился, что Нырков не только узнал человека в темноте по фигуре, или по снегоходу, но и точно знает, где этот человек должен находиться двадцать первого мая в одиннадцать часов вечера. Все, кто был в кузове, спрыгнули на лёд, а Колька уже подогнал «Буран» под красные огни «шишиги». Водила тоже помог, и снегоход ласточкой залетел в кузов. Ластовского же, видимо, совсем сморило, он даже и дверку свою прихлопнул.
Поздоровались, снова дёрнули спирта, перекинулись словом, словно мячиком.
Колька Чижов, начальник совхозного пушного цеха, из ближнего окружения: муж подруги жены Авдюшина. Только Авдюшину до фени были пушные дела, да и скорняцкие, которыми занималась чижовская жена, шила ондатровые «обманки» всему посёлку, – всё-таки детей пятеро! – он к Чижовым и не лез, но общаться было интересно, особенно с Колькой. Чижов был всегда немногословен, невозмутим и независим, пустых разговоров не вёл. Все действия его были уверенны и красивы, – и печёнку жарил, и корову доил, и карабин держал, и кухлянку носил, и даже ходил как-то красиво.
Волевой мужик, одиночка – так о нём уважительно говорили в посёлке.
И ещё, Колька разделял всё человечество на тех, с кем он здоровается, а с кем – нет. Но делал он это так естественно и необидно, что те, с кем здоровался, ценили любой знак внимания с его стороны, а с кем – нет, сразу понимали, что он спустился с других, заоблачных высот, и зла на него не держали, как журавль на лебедя, – разные стаи. И язык вроде птичий, да непонятный, и перо как перо, а любая пташка в шляпку бы воткнула.
«Ну и компания собралась, – думал Авдюшин. – Ай да Нырков! Якут-якут, а дело туго знает, организовал же, чёрт. Когда на Омолон ходили, сопровождал же нас до Первого камня, как и договаривались. А мог бы и бросить на полпути, – дела, дела.
При нём рука стрелять не поднимается, – вот, бляха-муха, государев человек! – а в заповеднике и подавно, даже мысли не пришло, а олень хар-роший был, Омолон переплыл как перешёл, рога метра на полтора тянули, вышел, отряхнулся, оглянулся так лениво, постоял и растаял, только попка белая мелькнула…
А пожар когда был на том же Омолоне. Медведи от огня все на Колыму пошли. Сколько же их было! Зоопарк! Сашка сам все стойбища, всех рыбаков объехал, нашёл даже на протоках юкагирский пароход «Тэки Одулок», и тех предупредил, чтоб не стреляли. А ведь у него детей-то шесть-семь, наверное, есть, а зарплата? Во-во, а на этом месте ведь озолотиться можно. А он как ходил в поношенном бушлате, так и ходит.
А Колька Чижов – деловой, районное начальство мехами снабжает, сыт-пьян и нос в табаке, и не подумает никто, что он – романтик, и на весеннюю охоту ездит.
Ластовский тот же – геодезист, нача-альник, пусть и себе на уме.
А Лёха Набатов! Герой-добытчик!
А мы с Нырковым – что? А мы с ним – одной крови, нищие дети природы, – хохотнул про себя Авдюшин, – тайги и тундры».
И с особой теплотой посмотрел на Ныркова. Наклонившись к Боре Клязьмину, тот щурил узкие глаза, слушая негромкое Борино бормотание.
Меж тем, кидало на зимнике уже прилично, а разводья становились всё шире и шире, и Ластовский увёл машину на целину, ближе к берегу. Снег пошёл гуще, береговые тальники с трудом ухватывались светом фароискателя. Возле чахлых кустиков спрыгнули в снег связисты.
– Может, сё-таки с нами? – крикнул Нырков.
– Да у нас всё есть, спасибо, не помёрзнем, – ответили из снега.
– На кой они тебе сдались, эти воины, – сказал Боря.
– Люди, однаха.
Ветер стих, в слабом лунном свете, бьющим через тонкие края облаков, Авдюшин увидел высокий заснеженный берег протоки и неимоверно длинную избу с тремя маленькими жёлтыми окошками, тени от переплётов, крестами лежавшие на снегу. Контуры остальных строений были тёмными.
– Приехали!
В избе было сильно накурено, дым пластами висел над головами троих, сидевших за столом у запотевшего окна: сам Лёха Набатов, его помощник Лёнька с хитрым длинноносым лицом и рябой Семён Васильевич Семёнов в казённых кальсонах и рубахе, начальник районной милиции. Поздоровался с Нырковым и Авдюшиным только Лёха, осторожно оторвав взгляд от засаленных карт, разложенных на клеёнке среди бутылок, стаканов и закуски.
Боря Клязьмин серой тенью промелькнул мимо стола.
Вдоль стены, уходящей в полумрак избы и завешанной залоснившимися телогрейками, по-тюремному, на корточках, сидело несколько человек, пуская к закопчённому потолку струи папиросного дыма. Никто из них не отреагировал на вошедших.
– Вот те на! – сказал вдруг Семёнов. – Никак охотнички! Вы что, не знали, что тут народу полно? Что здесь мы, и ночевать вам негде! Ты откуда, Нырков, свалился, с луны, что ли? Порядков не знаешь!? Или страх потерял?
– Думал, однаха, людей меньше будет, – Нырков стоял перед столом, как провинившийся школьник, теребя в руках шапку. – Нас и всего-то шестеро, по дороге Чижова подобрали, забичевал што-то, да двоих на косе оставили.
Услышав про Чижова, начальник нахмурился, хотел, видно, что-то сразу сказать, и рот уже открыл, но… передумал и бросил карты на стол.
– И на чём же вы приехали? – тут же с угрозой спросил Семёнов, увидев просунувшегося в избу Ластовского. – На государственной машине?
Авдюшин отметил про себя, что судьба оставшихся в пурге связистов никак не взволновала сурового начальника, а вот то, что Чижов здесь Семёнову совсем не понравилось…
– А чек на оплату предъявить можете? – продолжал рябой.
– Какой чек, Василич? Ты чё…
– Как «чё»? Дело на тебя, Ластовский, завести, как два пальца в рот, понял? Ты знаешь, какие времена нынче? Вот то-то. Кончилась колымская вольница.
Нырков вскинул голову и сказал:
– Ну, што глядите, айда в машину, щас выйду.
Ластовский выскочил первым, Авдюшин за ним.
– Вот попали, как сердце чувствовало, – заныл топограф.
– Да уж, гостеприимством здесь что-то не пахнет. А что это за мужики под вешалкой?
– Батраки, не знал, что ли? Помнишь, Вовка Мартын, охотник с Анюйского тракта, кореш чижовский, утонул на Большой Тонé, жена, двое детей. Там в живых один только бич остался, Лёнька этот носатый. Представляешь, полчаса его по реке носило на куртке болоньевой, пока катер не подобрал. Тёмная история.
– Река плохих не забирает… Ещё бы мне Мартынова не помнить!
Авдюшин тогда, в июле, избороздил с эхолотом всю Большую Тоню. Мартыновский «Прогресс» так и не нашли. Подняли несколько допотопных моторов, две дюральки, – чьи они и когда потонули, никто и не помнил.
Мартын всплыл на второй день, заметили с вертолёта белый свитер и синие джинсы. Носатый Лёнька рассказывал, что Мартын нырял за детьми и женой три раза, – Колыма его брать не хотела, – на третий не вынырнул, решил с ними остаться…
А жена Мартына, из местных, из походских, так и ушла вместе с лодкой, не смогла руку разжать, – там же дети малые сидели, в рубке…
Это особенно потрясло Авдюшина, и он до кровавых мозолей стёр руки о вёсла, перегребая течение Колымы, так ему нужно было найти утонувший катер и убедиться, что виною гибели всей семьи был неизвестно откуда взявшийся топляк.
Ну, не было, не было и не могло быть топляков на Большой Тонé! Вся тоня в сетях, и неводами пройдена от края и до края!
Хоронили всем посёлком. Родственникам мартыновской жены жалко стало обручальное кольцо на Вовкином пальце, хотели с распухшей руки снять, или палец отрубить…
Колька Чижов не дал, не позволил друга позорить, ему и говорить ничего не пришлось, только глянул в их сторону, как выстрелил. Потом поднялся на холмик растаявшей мерзлоты и голову Мартыну разбинтовал, в глаза ему посмотрел…
«Что ж вы, люди…».
И стояли люди, молчали, смотрели и слушали.
Слёз своих не постеснялся, махнул рукой – «Опускайте!»…
На поминки не пришёл.
Катер все рыбаки-охотники хотели найти, не верили, что просто так у него транец оторвало, подпилил кто-то транец-то…
Авдюшин посмотрел на всезнающего топографа:
– А Боря, что, тоже с ними?
– А то! Бригади-ир. У них, видимо, планёрка сегодня. Сколько чего добыли, кто, куда повезёт.
– А этот, мент который?
– Так он же и есть хозяин в посёлке и всея тундры! Он и тут в правах, видишь, как наехал, чего ему бояться! Но это, знаешь, у кого-нибудь другого спроси… я ещё пожить хочу.
Помолчали.
Вышел Нырков, взял рюкзак из кузова и вернулся в избу.
– Смотри, – сказал Ластовский, – у Лёхи рысь живёт ручная, вон там, за баней. Когда чужие приезжают, он её в клетку сажает. Для чужих она дикая и, знаешь, броситься может.
Топограф засмеялся-заухал и опасливо оглянулся в темноту.
…Наконец, собрались все в крохотной набатовской бане, затопили печку, разложили закуску, налили спирта.
Нырков невнятно матюкнулся, что за егерский постой на территории охотника плату стали брать, в данном случае литр спирта.
– Эт ещё по-Божески… – сказал кто-то из темноты, лампу не зажигали, – в окно мертвенным светом свирепо била луна.
– Семён Василич, рябой, так дело поставил, что теперь и охотнику за всё платить надо, – сказал тот же голос, им оказался Колька Чижов, – а с нас – так, вечерок скоротать… С совхоза, с пушного, тоже крови попил, упырина, план по выделке еле-еле тянем, уже непонятно, на кого работаем, на государство или на отдельно взятую ментуру.
– То-то ты ферму себе завёл, – нехорошо прищурившись, вставил Боря Клязьмин. – Две коровы, три козы, гусей целое стадо. Ты с чего завёлся, тебе с левака мало перепадает или просто… жена не даёт?
Все замерли. В тишине шипела печка, подсвечивая багровым напрягшиеся лица.
– Эй, охотнички, хоп, хоп! – тонко крикнул Нырков.
А ствол карабина уже смотрел на Борю, из темноты донеслось еле слышно: клац-клац-клац.
– Я, Боря, кроме пушнины ещё и оружейкой командую, у меня осечек не бывает. – Чижов выговаривал слова, покачивая головой, словно проверял угол прицела. – И с Мартыном я ещё не всё понял… Ваших поганых рук дело?
– Мартын! – деланно рассмеялся Клязьмин. – Что тебе Мартын! Полез, куда не надо, вот и…
– А детей зачем?
– Я за чужих детей не в ответе, – показывая зубы, ответил Клязьмин. – А своих у меня нет. И с чего ты решил, что это не случайность, не топляк, а?
– Да хватит вам, мужики, – Ластовский начал размешивать чай, громко стуча ножом по кружке. – Давайте выпьем, на охоту ж приехали!
Колька Чижов демонстративно задвинул карабин за спину и сказал:
– У мёртвого Мартына в глазах прочитал.
Авдюшин уже держал бутылку со спиртом в руке, плеснул чуть-чуть Чижову, его и литром с ног не свалишь, а Клязьмину налил полкружки, – чтобы забродившая кровь пополам со спиртом выбила дурь и злость из бригадировой головы. А то половина охотничков до утра не доживёт.



