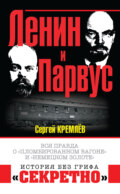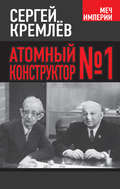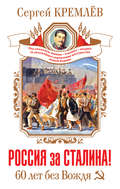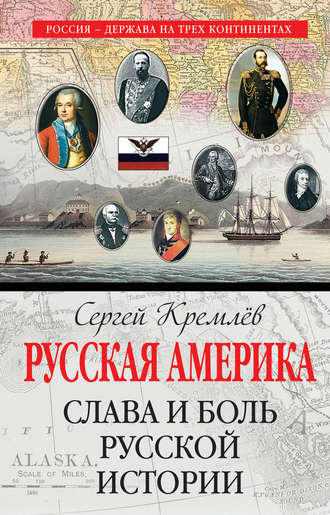
Сергей Кремлев
Русская Америка. Слава и боль русской истории
«А в какую сумму оная экспедиция стала, того, хотя точно ныне знать и невозможно, однако ж за истинну возможно принять, что не меньше полутора миллиона рублев, потому: понеже чрез десять лет отправлялося из одной Иркутской губернии по сороку тысяч рублев денег, да по штидесят тысяч пуд провианта, которой до Охоцкого всякой пуд в поставке по два рубли стоит, отчего как Якуцкой провинции якуты, так и пашенные крестьяне Иркуцкой губернии великие тягости и до ныне претерпевать принуждены…»
Сей «всеподданнейший» «экстракт» оказывался документом, любопытным двояко, и на нём надо остановиться подробнее…
Камчатская экспедиция Беринга была крупнейшим государственным проектом и длилась с перерывами почти двадцать лет. Состоявшая вначале из приблизительно 300 человек, к концу она насчитывала до 2000 участников, включая группы перевозчиков грузов по рекам Алдану, Мае, Юдоме и Ураку, артели плотников и т. д. Кроме того, на нужды экспедиции работало – как о том сказано и в «экстракте», русское и нерусское население Сибири.
И при всём этом материальное положение и быт непосредственно тех, кто являлся объектом всех забот и «тягостей», то есть прямых участников экспедиции, были более чем неблестящими. Процент заболеваний и смертности даже среди офицерского состава экспедиции и смерть самого Беринга не в штормах, а от тягот наземной зимовки говорят сами за себя.
Поэтому безымянный недатированный «экстракт» был, собственно, провокационным доносом, имеющим целью опорочить в глазах Елизаветы результаты Камчатских экспедиций и государственный потенциал их открытий. С другой стороны, в этом, крайне одностороннем, «экстракте» явно усматривается и ещё одна – менее отрицательно масштабная, но не менее подлая – цель: списать на расходы по экспедиции Беринга многолетние злоупотребления и казнокрадство как местных, так и, прежде всего, столичных чинов и сановников Анны Иоанновны… В том числе – в учреждённом 18 октября 1731 года аннинском Кабинете министров и в Адмиралтейств-коллегии.
Здесь не место анализировать взаимные интриги и обвинения в финансовых махинациях аннинских сановников Артемия Волынского, Фёдора Соймонова, графа Николая Головина, графа «Андрея» Остермана и т. д. Однако указать на них не мешает, отметив, что сами не всегда чистые на руку Волынский и Соймонов выпустили даже сатирический памфлет на деятельность гр. Николая Фёдоровича Головина (1695–1745) – главы Адмиралтейств-коллегии и сторонника экспедиции Беринга, но одновременно – и сторонника Остермана. В то же время в 1739–1740 годах группировка Волынского – Соймонова подготавливала решительный удар группировке Остермана – Головина в виде плана замены выходца из Дании Витуса Ионсенна Беринга другим выходцем из Дании – Мартыном Шпанбергом.
Волынского обычно подают как национально настроенную фигуру, но тогда для него и для опытного морского офицера Соймонова было бы логичным выдвижение кандидатуры энергичного Чирикова. Но, вот же, они почему-то ставили на бездеятельного Шпанберга. Особенно это удивительно для Соймонова – фигуры в целом вполне привлекательной, о чём позднее будет сказано.
При этом имелась ещё и третья, так сказать, «сторона медали» – внешнеполитическая. В записках маркиза Иоахима-Жака Тротти де ла Шетарди (1705–1758), бывшего послом Франции в Петербурге в 1739–1742 и в 1743–1744 годах, имеется следующее злое замечание: «Цель русского двора – по отзыву француза Лалли – бросать пыль в глаза Европе. Нет такого необыкновенного и дорогого проекта, который, быв предложен русскому двору, не был бы принят, так, например, проект о торговле с Японией через Камчатку, проект об открытии новых земель в Америке, проект о ведении торговли с бухарцами и монголами, проект о сделании петербургского порта судоходным, проект о соединении Волги с Доном… Цель двора достигнута, если в Европе говорят, что Россия богата: «посмотрите, какие чрезвычайные расходы делает Россия»…»
В словах Шетарди сквозили раздражение и зависть одновременно. Даже при технических и коммуникационных возможностях того времени в упомянутых французским послом проектах не было ничего фантастического и «необыкновенного» при адекватном и вполне посильном для России финансировании – посильном, конечно же, в том случае, если бы силы державы и народа расходовались на дело, а не на придворные увеселения и прихоти сановной сволочи.
Но все подобные российские проекты, включая дальневосточные и тихоокеанские, при их реализации усиливали Россию в реальном масштабе времени, а особенно – в перспективе, и поэтому Европой одобряться никак не могли. А вот противодействовать им по мере возможностей Европа была не прочь, и возможностей на сей счёт у внешних врагов России в аннинском Петербурге хватало.
К тому же злой гений тогдашней России – Эрнст Иоганн Бирон (1690–1772) в 1738 году при содействии Анны Иоанновны был избран герцогом Курляндским, но предпочитал управлять Курляндией (как и Россией) из русской столицы. Кто и из каких столиц управлял при этом самим Бироном – об этом писаная история России и Европы умалчивает.
После смерти Анны Иоанновны и свержения мимолётного малолетнего «императора» Ивана VI в результате переворота в пользу Елизаветы Петровны в Петербурге, даже после всех отставок, ссылок и опал, сохранились, конечно же, те силы, которые в ХХ веке назовут «пятой колонной». И уж тем более в Петербурге продолжали действовать против русского дела как легальные силы – в виде иностранных посольств, так и нелегальные – в виде высокопоставленной агентуры этих посольств, то есть тех, кого в ХХ веке назовут «агентами влияния».
Внесли ли внешние силы свой вклад в инициирование и составление направленного против Беринга «экстракта», представленного Елизавете, не скажет сегодня никто. Но предположить их участие в этом мы вполне имеем и право, и основания. Ведь ещё толком не открытая, ещё лишь будущая Русская Америка заранее обеспечивала головную боль элите не только Парижа, но и Вены, Лондона, Амстердама, Мадрида…
ГОВОРЯ о подступах к Русской Америке, никогда нельзя забывать о Сибири – она десятилетиями была той системной, материальной и кадровой базой, на которую опирались российские американские колонии. А говоря о Сибири, нам надо вспомнить и Фёдора Ивановича Соймонова (1692–1780). В конце карьеры – генерал-майор и вице-президент Адмиралтейств-коллегии, он начинал как гидрограф и картограф, описывал Каспийское море, в 1727 году был переведён на Балтийский флот, в 1731 году издал лоцию Каспия, а в 1734 году – лоцию Балтийского моря. Соймонов (Сойманов) находился в союзе с Артемием Волынским, в 1740 году был вместе с ним обвинён в заговоре против фаворита Анны Бирона и сослан на каторгу. Попав в Сибирь как каторжник, с воцарением Елизаветы Соймонов был освобождён, возглавлял Нерчинскую экспедицию, а с 1757 по 1763 год занимал пост сибирского губернатора. В последнем качестве Соймонов организовал несколько исследовательских экспедиций, результатом которых стало открытие ряда островов в Северном Ледовитом и Тихом океанах.
Соймонов поддерживал любую разумную инициативу. Так, в его губернаторство московский купец Иван Никифоров снарядил судно «Святой Иулиан» (передовщик – яренский посадский Степан Глотов), на котором в плавании 1758–1762 годов были открыты острова Умнак и Уналашка. В 1760 году селенгинский купец Андреян Толстых привёл в русское подданство шесть Алеутских островов. И это – далеко не полный перечень имён, маршрутов и открытий «соймоновского периода» истории освоения русскими северной части Тихого океана.
На посту сибирского губернатора Соймонова сменил в 1763 году – до 1781 года – генерал-майор Денис Иванович Чичерин (1720–1785).
Полезным и активным помощником Фёдора Ивановича Соймонова был его сын – полковник Михаил Фёдорович Соймонов (1730–1804), кроме прочего бывший после отца и начальником Нерчинской экспедиции. 13 июня 1763 года обоих перевели по указу Екатерины II в Московскую сенатскую контору для «присутствия по всем делам, которые касаются Сибирской губернии» и «исправления оных». Михаил Соймонов стал одним из организаторов горного дела в России, в 1773 году основал Горное училище (Ленинградский горный институт) и был первым его директором. Был он на своём месте и позднее, возглавив Берг-коллегию. Оба Соймоновых – и отец, и сын – удостоились благожелательных статей о них во 2-м, «сталинском», издании Большой советской энциклопедии (БСЭ).
С деятельностью Соймонова в Сибири связано и имя Фёдора Христиановича Плениснера (?–1778), о котором тоже есть статья во 2-й БСЭ (зато в Большой русской энциклопедии 2014 года о нём нет ни слова).
В 1741 году Плениснер участвовал в плавании капитан-командора Витуса Беринга к берегам Северо-Западной Америки в ходе 2-й Камчатской экспедиции. 7 декабря 1741 года капитаном Алексеем Чириковым был составлен «Список служителей пакетбота «Св. Петра», которые ныне в вояже». Открывал список «капитан-командор Витес Беринг», затем следовали офицеры, «кананеры» (артиллеристы), «матрозы», солдаты, мастеровые – всего 68 человек.
А далее Чириков писал: «Да сверх вышеписанных 68 человек еще имеются з г-ном капитаном-командором Берингом на пакетботе «Св. Петре» в вояже, о которых в преждепосланном от меня при репорте списке не показано, а имянно: Академии наук адъюнкт Георг Вильгельм Штеллер (Стеллер, известный натуралист. – С.К.), да с ним Большерецкого острога казначей Фома Лепихин, да взятой от Охоцкого правления капрал Фридрик Плениснер. Итого три человека. Всего по сему списку всех чинов служителей 71 человек».
Так на страницах писаной истории появилось имя «живописца» Плениснера (Пленистера) – пока ещё капрала. А при Соймонове бывший скромный рисовальщик был назначен в Охотск с поручением состоять в Анадырской экспедиции. С 1761 по 1766 год Плениснер был правителем Анадырского округа и главным командиром Анадырского острога. В 1763 году он снаряжал казака из чукчей Николая Дауркина в поход для исследования и описания Чукотки.
По инициативе Плениснера предпринималось и собирание известий об Америке и островах Тихого океана. С 1766 по 1772 год полковник Плениснер правил Охотским и Камчатским округами и был главным командиром Охотского порта, организовав, по распоряжению Соймонова, осмотр Курильских островов. Это дело было поручено тойонам (родовым старейшинам у якут) и толмачам (переводчикам) Н. Чикину и Н. Чупрову вместе с казачьим сотником Черных.
Чикин, дойдя до острова Симушира, умер, а Черных и Чупров три года (!) – с 1766 по 1769 год путешествовали по островам, дойдя к югу до 19-го Курильского острова и ведя в пути журнал путешествия. Уже по возвращении Черных был вызван в Иркутск для пояснений по журналу, но умер там от чёрной оспы. Скромное подвижничество, где наградой за лишения нередко оказывалась только смерть, было для разворачивающейся русской тихоокеанской эпопеи нормой.
Впрочем, мы очень уж удалились в последнюю треть XVIII века, не обозрев, хотя бы кратко, петровского и раннего послепетровского начала той давней и трудной, но славной и величественной в своей безыскусности истории.
ПОРА, пора, да и к месту рассказать о русских первооткрывателях Русской Америки и северных тихоокеанских её «окрестностей». Одновременно это будет продолжением рассказа о приоритетах.
Впрочем, вначале – небольшое вводное отступление…
Петровскую эпоху я бы не стал определять как эпоху открытий. Она сама – вся открытие, ибо лишь с неё начинается соединение русской смётки и отваги с европейским знанием. И одним из главных достижений этой эпохи следует считать новый массовый тип русского человека, созданного волей и гением Петра. Деятельные русские люди в Сибири и на Дальнем Востоке были не в диковинку – других там отроду не бывало. А вот образованные деятельные русские люди…
Такие пришли в глухие восточные места впервые.
Первые петровские геодезисты и начали огромную работу по уже научной съёмке территории Восточной России. А также – по освоению морских пространств Восточного, Тихого океана, которые тоже надо было обойти на утлых судах в вёдро и в ненастье. Обойти, изучить и положить на карты.
Пётр Чичагов, Алексей Кушелев, Михаил Зиновьев, Пётр Скобельцин, Пётр Чаплин, Василий Шетилов, Иван Свистунов, Дмитрий Баскаков, Иван Евреинов, Фёдор Лужин…
Все – молодые ребята.
Все имена – русские.
И все – петровские питомцы.
Два последних из этого списка в июне 1721 года впервые достигли центральной группы Курильских островов до Симушира включительно и 14 из них нанесли на карту. В конце 1722 года Евреинов в Казани лично представил царю-труженику сводную карту Сибири, Камчатки и части Курильских островов. Это было почти три сотни лет назад!
На Дальний Восток их послал непосредственно Пётр, приказавший, чтобы геодезисты Иван Михайлов Евреинов и Фёдор Фёдоров Лужин досрочно сдали экзамен за полный курс Морской академии, в которой они обучались, и во главе отряда из двадцати человек отправились на выполнение дальнего секретного задания. Кормщиком у них был архангельский помор Кондратий Мошков, посланный по распоряжению опять же Петра из Архангельска в Охотск… Позднее Мошков плавал с Берингом и Чириковым, а в 1732 году вместе с Фёдоровым и Гвоздёвым достиг северо-западного «носа» Америки.
Маршрут Евреинову и Лужину определил сам царь в своей инструкции от 2 января 1719 года: «Ехать вам до Тобольска и от Тобольска, взяв провожатых, ехать до Камчатки и далее, куды вам указано, и описать тамошние места, где сошлася ли Америка с Азией, что надлежит зело тщательно сделать не только зюйд и норд, но и ост и вест, и все на карте исправно поставить…»
Это было ещё до появления на дальних берегах регулярных экспедиций. А в 60–70-е годы XVIII века русские люди на Курилах бывали уже как в месте, неплохо им знакомом. Сотник Иван Черных с отрядом побывал на девятнадцати островах, в 1767 году зимовал на Симушире, в 1768-м – на Урупе… Иркутский посадский Дмитрий Яковлевич Шебалин после гибели его бригантины во время сильнейшего землетрясения на Урупе пробыл там два года и лишь потом на байдарах со своими спутниками добрался до Камчатки.
1-я Камчатская экспедиция была задумана Петром в конце 1724 года – незадолго до смерти. Причём есть основания предполагать, что Пётр о проливном разрыве между Азией и Америкой знал или – по крайней мере – догадывался. Так или иначе, в соответствии с инструкциями уже скончавшегося царя в 1725 году начинается первая русская научная морская экспедиция Беринга. Известные нам лейтенанты Алексей Ильич Чириков и Мартын Петрович Шпанберг были у Беринга помощниками. Чириков оказался на высоте, Шпанберг – не очень.
Уже во 2-й экспедиции Беринга Шпанберг, возглавив её после смерти Беринга в 1741 году, прервал экспедицию и в 1745 году за самовольное возвращение в Петербург был предан суду и приговорён к смертной казни. Такое жёсткое решение, возможно, объяснялось тем, что отправляли Беринга во 2-ю Камчатскую экспедицию при Анне Иоанновне, а вернулся Шпанберг уже в Петербург Елизаветы Петровны. Впрочем, Шпанберг был помилован с разжалованием в поручики.
В 1749 году он опять попал под суд за крушение корабля, которым командовал, и за гибель 28 человек экипажа, но был оправдан. В 1751 году – за десять лет до смерти – его произвели в капитаны 1-го ранга. Но Шпанберг в этой книге должен быть помянут уже потому, что его отдельный отряд прошёл северным путём от Камчатки к Японии и проследил всю Курильскую гряду от Камчатского Носа до японского Хоккайдо. И было это в 1739 году.
Дух Петровской эпохи на паркете петербургских гостиных выветрился, наступила мрачная пора бироновщины… Но дух Петра жил в этих весёлых и крепких ребятах – заросших бородами, пропахших табачищем, противоцинготной черемшой и противокручинной водкой…
Алексей Чириков позднее ходил и далеко к востоку, добираясь в 1741 году до залива Аляска. Его отчёт в Адмиралтейств-коллегию о плавании в этих местах стал первым в истории описанием северо-западных берегов Америки. А первую исторически доказанную зимовку русских на Аляскинском полуострове провёл на его юго-западном берегу зимой 1760/61 года промышленник-мореход Гавриил Пушкарев.
Эти ребята (тоже ведь – птенцы гнезда Петрова!) не только шли по океанским волнам на лёгких судах, но ещё и изобретали! Мартын Шпанберг был человеком без полёта фантазии, подозрительным и завистливым, и помощник Шпанберга штурман Петров имел у него репутацию горького пьяницы. А вот же Петров «сочинял навигацию» и придумывал новый инструмент для определения долготы на море. Инструмент у Петрова вышел «неудачный». Однако удачным был его новый взгляд на мир и на себя, русского, в этом мире. Это был исторически перспективный взгляд – совершенно иной, чем у терпеливо-выносливых, упорных, но таких невежественных предшественников штурмана Петрова.
А. Покровский, автор вступительной статьи «В. Беринг и его экспедиция (1725–1743 гг.)» к сборнику документов «Экспедиция Беринга», изданного бериевским Главным Архивным управлением НКВД СССР в 1941 году, писал о новых людях Петровской эпохи – участниках экспедиции Беринга так:
«…сама идея… экспедиции, как известно, принадлежала Петру I. Непосредственные исполнители этих заданий преобразователя России, – Беринг, Чириков, Шпанберг, Овцын, а также… целый ряд рядовых сотрудников, адмиралтейских служителей, насколько нам известны отрывочные факты из их биографии, – принадлежат к числу современников Петра; они прошли его школу, они жили духом того времени, хорошо знали, – или, вернее, чувствовали те принципы, которые тогда господствовали среди лучших представителей русской общественности. Их продвижение в Сибирь обозначало перенос на окраины Русского государства господствовавших тогда в центре понятий, представлений, а также начал культуры, техники, научного знания».
В отряде Шпанберга был и геодезист Михаил Гвоздёв. Он уже был упомянут ранее, а сейчас мы вернёмся к нему, а заодно и к вопросу о приоритетах.
Между 1-й и 2-й экспедициями Беринга, 23 июля 1732 года, от берегов Камчатки отошёл много повидавший бот «Св. Гавриил». За четыре года до этого на нём плавал сам Беринг. Теперь плаванием руководил Гвоздёв, а штурманом был Иван Фёдоров. С ними было на борту ещё 37 человек.
Гвоздёв и Фёдоров пришли на Охотское море с экспедицией якутского казачьего головы Афанасия Федотовича Шестакова. Сибирский казак в 1725 году (между 18 и 20 июля) добрался из Якутска до столицы и обратился к главному командиру Кронштадта вице-адмиралу П.И. Сиверсу, который рекомендовал Шестакова Александру Даниловичу Меншикову. Рассказы сибиряка обратили на себя внимание в Сенате, который 18 января 1727 года обратился к вдове Петра – Екатерине I с «доношением» об организации экспедиции под руководством Шестакова для поиска и освоения новых земель. Затем проект дошёл и до высшего тогда правительственного учреждения – Верховного тайного совета. 1 февраля 1727 года в Совете «разсуждали, по доношению Сената, о посылке в Сибирь для обыскания новых земель казачьего голову Шестакова», а 23 марта 1727 года состоялся указ Сената о назначении Шестакова начальником отдельной от Беринга экспедиции, ставшей известной как экспедиция Шестакова – Павлуцкого.
В состав экспедиции было назначено 400 казаков во главе с капитаном Тобольского драгунского полка Д.И. Павлуцким, рудознатец, пробирных дел мастер Симон Гардеболь, несколько геодезистов из Томска, сын Шестакова Василий и племянник Шестакова. Морскую часть экспедиции организовывала Адмиралтейств-коллегия в составе: штурман Яков Генс, подштурман Иван Фёдоров, геодезист Михаил Спиридонович Гвоздёв, мореходы А.Я. Буш, И. Бутин, Кондратий Мошков, Никифор Треска, ботовых дел подмастерье И.Г. Спешнев и 10 матросов.
Замечу, что Никифор (Никита) Треска (Тряска) в 1716–1717 годах участвовал в экспедиции «служилого человека» Кузьмы Соколова, положившей начало русскому судоходству по «Ламскому» (Охотскому) морю, а в 1718–1719 годах был в составе так называемого «Большого Камчатского наряда» – правительственной экспедиции, обследовавшей Шантарские острова. Позднее Треска плавал к Курилам, а в 1738–1739 годах его как опытного кормчего привлекли к экспедиции Шпанберга, плававшей из Охотска в Японию, но не сумевшей установить с японцами отношений.
Был опытным мореходом и ходивший ещё с Евреиновым и Лужиным помор Кондратий Мошков.
Итак, назначенный в июне 1727 года главным командиром Северо-Восточного края, Шестаков прибыл с штурманом Яковом Генсом как для новых открытий в Тихом океане («отыскания новых земель и островов»), так и – прежде всего – для «усмирения немирных чукчей» и сбора пушного ясака с местного населения. Уж не знаю, насколько последнее дело шло у Шестакова успешно, но был он, похоже, крут, потому что, как сообщает блестящий коллективный труд 1953 года «Русские мореплаватели», был убит 14 марта 1730 года в Пенжинской губе «во время зимнего завоевательного похода».
Шестаков ходил в земли чукчей на построенном им боте «Восточный Гавриил». А ещё раньше, в сентябре 1728 года, Тобольская губернская канцелярия в лице князя Михаила Долгорукова направила в помощь Афанасию Шестакову в его «разборках» с аборигенами Русского Севера помянутого выше капитана Дмитрия Павлуцкого.
Последний в ордере Якову Генсу, Ивану Фёдорову, Ивану Спешневу (ботовому подмастерью, присланному по указу Верховного тайного совета из Казани) и Михаилу Гвоздёву писал 26 апреля 1730 года: «По ея императорского величества указу и по определению посланной партии посланы вы со служилыми людьми в Охоцкий острог к казачью голове Афанасью Шестакову, а сего апреля 25 дня через посланное ведение из Анадырского острогу от подпрапорщика Василья Макарова ко мне в Нижнем Ковымском зимовье объявлено, что помянутой голова Шестаков со служилыми людми от немирных чюкочь побит до смерти.
Того ради по получении сего ордера в Охоцком остроге взять вам, ежели имеетца, оставшееся судно от капитана Беринга и на том судне из Охоцка идти со служилыми людми на Камчатку, а с Камчатки морем быть к нам в Анадырский острог в немедленном времени…»
Шестаков успел построить два судна – «Восточный Гавриил» и «Лев», да два бота он получил от Беринга (в том числе и «Св. Гавриил», а также бот «Фортуна»). Теперь за главного остался Генс, но летом 1732 года из-за тяжёлой болезни он передал командование «Гавриилом» Фёдорову (в октябре 1737 года Генс, состоя при 2-й Камчатской экспедиции Беринга, умер в Тобольске).
Фёдоров сам уже был болен цингой (в феврале 1733 года он умер). Но имя своё Иван успел обессмертить, хотя и был снесён на бот «против воли». 15 августа 1732 года «Гавриил» вошёл в Берингов пролив, а 21 августа с попутным ветром он подошёл к «Большой земле»… Гвоздёв на ней высадился, осмотрел и собрал все материалы, нужные для того, чтобы позднее положить эти берега на карту.
В уже цитированной вступительной статье А. Покровского к сборнику документов «Экспедиция Беринга» отмечалось:
«…подлинные донесения И. Фёдорова и М. Гвоздёва не сохранились или до сих пор не разысканы. Сохранились только более поздние показания по этому поводу М. Гвоздёва. Нам сейчас не известно в точности, по какому поводу и с какой целью Шпанберг в 1743 г., когда уже Беринга не было в живых, снял допрос с Гвоздёва об его путешествии 1732 г. Эти показания Гвоздёва сохранились и известны нам, к сожалению без конца. Это – единственный пока документ, где рассказывается о самом путешествии 1732 года».
В 1743 году М.П. Шпанберг, как старший по чину, заменил умершего Беринга в должности начальника всей 2-й Камчатской экспедиции. И сегодня известно, что поводом для снятии 20 апреля 1743 года «Промемории канцелярии Охоцкого порта» для Шпанберга о плавании М.С. Гвоздёва и И. Фёдорова на боте «Св. Гавриил» к берегам Америки стало «объявление» об этом плавании ссыльного Ильи Скурихина, участника плавания.
Но, так или иначе, труды Гвоздёва и его сотоварищей были востребованы уже в реальном масштабе времени. Чириков имел в своём распоряжении карту той части американского берега, где был Гвоздёв, и в описи сводной карты, которая была составлена по приказанию Чирикова и куда были занесены все использованные карты, значится: «земля, положенная против Чукотского восточного угла к востоку, лежащая от 65° N ширины (широты. – С.К.), положена с карты геодезиста Гвоздёва».
СЕГОДНЯ крайняя на запад земля Америки называется мысом Принца Уэльского. Назвал её так знаменитый английский мореплаватель капитан Кук. И назвал 9 августа 1778 года. В своём последнем – третьем плавании Кук добирался и до Берингова пролива. Причём на карте северного плавания Кука, выпущенной тогда же в Лондоне, крупными буквами обозначено – Bhering Strait.
Кук, а чуть позднее – заменивший его после его гибели Чарльз Кларк заходили и существенно севернее – за пролив. Места эти были тогда изучены плохо, и где-то Кук на своём «Резолюшн» побывал первым. По праву первопроходца он мог, конечно же, нарекать открытые им земли так, как считал нужным. Но – лишь открытые им, а не посещённые им…
Кук был в тех же местах, что и Иван Фёдоров с Михаилом Гвоздёвым и Кондратием Мошковым, через пятьдесят шесть лет после них. И, что самое существенное, знал об этом. В своём плавании в тех водах Кук пользовался в числе других картой беринговского мичмана Петра Чаплина, описаниями ломоносовского любимца Степана Крашенинникова, а также картой академика Петербургской академии наук Герарда Фридриха Миллера, ранее уже упомянутого. Обзорная работа Миллера «Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю с российской стороны учинённых» была впервые напечатана в Петербурге в 1758 году на русском и немецком языках. В 1761 году она была переведена на английский язык и издана в Лондоне. Была там и карта, в правом верхнем углу которой в виньетке-картуше значилось: «A Map of The DISCOVERIES by the RUSSIANS of the North West Coast of AMERICA. Published by the Royal Academy of Science at Peterburg» («Карта исследования русскими северо-западного берега Америки. Издана императорской Академией наук в Петербурге»).
Со стороны Азии, то есть России, карта Миллера уже сильно напоминает современную, а вот со стороны Америки всё намного более предположительно – что вполне объяснимо. Но там, где мы привыкли видеть мыс имени английского наследного принца, на английском издании карты Миллера чёткими (правда, не русскими, а английскими же) буквами написано: «Coast Discovered by surveyor Gvozdev in 1730», то есть: «Берег, открытый геодезистом Гвоздёвым в 1730 году».
А в тексте обзора Миллера прямо сообщалось: «Ведомо, что геодезист Гвоздёв в 1730 году между 65-м и 66-м градусами северной широты в малом расстоянии от Чукоцкой земли был на берегу чужестранной земли да нашёл там людей».
Со времён Беринга, Чирикова, Гвоздёва и начало входить в сознание русских людей понятие «Русская Америка».
Миллер был несколько неточен лишь в дате – Гвоздёв открыл северо-западный берег Америки не в 1730, а в 1732 году. Но координаты были указаны точно. Кук в своём дневнике 9 августа пометил: «Мыс, который я назвал мысом Принца Уэльского, весьма примечателен тем, что он является западной оконечностью всей до сих пор известной части Америки. Он лежит в широте 65°46’ N и в долготе 191°45’ О». Но англичанин видел эту землю в августе 1778 года, а русские – в августе 1732 года. При этом Кук книгу с картой Миллера (собственно – Гвоздёва) имел.
В царской России имена Гвоздёва и Фёдорова помнили, но скупо – ведь русские мореходы открыли ту Америку, которую потом «русские» цари продали. В сталинской России эти два первооткрывателя удостоились отдельных статей о них во 2-м издании даже Большой советской энциклопедии. Зато в «брежневской» Советской исторической энциклопедии 1960-х годов их имён уже не было. В энциклопедическом же словаре «История Отечества», изданном издательством «Большая Российская Энциклопедия» в «путинском» 2003 году, в сводной хронологии не указан даже факт открытия Гвоздёва и Фёдорова, не говоря уж о сведениях о них самих. Такая вот историческая (или всё же – антиисторическая?) динамика…
Не кичливы русские, не заносчивы. Это – хорошо. Но вот ещё бы нам простоты поменьше. Той, что, может быть, и не хуже воровства, но очень уж способствует воровству у нас.
Воровству приоритетов, трудов, славы.
А, в конечном счёте, и – земель.
И – исторической судьбы…
Хорошо, нашёлся в XVIII веке честный немец Пётр Симон Паллас, вступившийся за честь России – своей второй родины. В 1781 году он прямо и публично заявил, что Кук грубо нарушил научную этику и наименовал оконечность американского материка неправомерно. Что ж, как видим, своего рода борьба с низкопоклонством перед Западом началась в России далеко не в сталинские 40-е годы ХХ века.
Паллас возмутился, конечно, законно. Да уж поздно было… Да и чёрта ли нам в том названии, если через сто лет мы не приоритет потеряли, а и саму Русскую Америку?
Вместе с мысом Принца Уэльского…
На этом не пошедшую нам впрок «науку» с Куком можно было бы и отставить в сторону, но вот попался мне в руки энциклопедический словарь уже «Всемирная история», изданный во всё том же 2003 году всё тем же научным (!) издательством «Большая Российская Энциклопедия». И из статьи о Джеймсе Куке на странице 443 я с удивлением и злостью узнал: среди прочих несомненных заслуг Кука это научное издательство числит и ту, что Кук-де окончательно доказал наличие пролива между Азией и Америкой.
Эх, Пётр Симон Паллас, где ты?
РОДИНА Джеймса Кука ко времени его третьего кругосветного плавания была могучей морской державой. Её адмирал (и, по совместительству, – пират) Фрэнсис Дрейк совершил первое английское (и второе в мире после Магеллана) кругосветное плавание за двести лет до Кука, в 1577–1580 годах. В 1579 году Дрейк достиг зоны 45-го градуса северной широты у берегов, тогда ещё не называемых калифорнийскими, и наименовал их Новый Альбион. А теперь – в 1776 году Кук уходил с задачей подняться много севернее Дрейка.
«Секретная инструкция капитану Джеймсу Куку, командиру шлюпа Его Величества «Резолюшн», подписанная первым лордом Адмиралтейства Сандвичем, графом Монтегю, лордом Адмиралтейства Чарльзом Спенсером и адмиралом Хью Паллисером, начиналась словами: «Поскольку граф Сандвич передал нам пожелание Его Величества о необходимости поисков Северного морского прохода из Тихого океана в Атлантический…». И эта вводная фраза вроде бы определяла весь смысл предстоящего предприятия, далее конкретизированный ещё более: «поиски Северо-Восточного или Северо-Западного прохода, ведущего из Тихого океана в Атлантический или в Северное море».