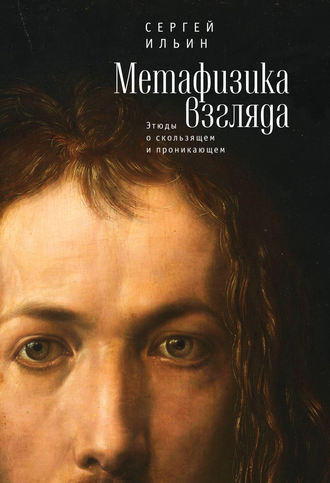
Сергей Ильин
Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем
IV. (Вечное возвращение). – Если вам на склоне лет вдруг покажется, что вы родились не в той стране, в какой следовало бы – потому что вы не можете представить себя в ней полноправным и счастливым гражданином – и не в той семье, в которой следовало бы – тоже по причине тонкой дисгармонии, сделавшей невозможным чувство постоянной и взаимной любви между вами и вашими домашними – и если это ваше странное убеждение постепенно станет вашей второй натурой и вы будете себя в нем упрекать – еще бы! ведь получается, что вы в жизни являетесь тем самым знаменитым танцором, которому, как говорится, яйца мешают, но ничего с собой поделать не сможете, – успокойтесь, еще не все потеряно! вам всего лишь следует задуматься над законом великого контраста: ведь согласно этому закону понять столь основополагающие вещи, как соотношение собственной сущности со страной и семьей, в которых она призвана раскрыться, можно лишь пережив их полную противоположность.
А это значит, что вам все-таки удалось, как бы вы это ни скрывали, познать и другую страну и другую семью, – и уже из этой, зеркально отраженной перспективы, вы осознали то, что осознали: но если так, значит, вы все же под конец жизни нашли то, что искали – ведь счастливая находка была бы невозможна без неблагоприятного исходного пункта: то есть, иными словами, для того только вы и родились там, где родились, чтобы переехать туда, где вы сейчас живете более менее покойно и счастливо, и для того только вы имели первый и несчастливый брак, чтобы создать второй и вполне гармоничный, – но тогда следует с тем большей благодарностью отнестись и к городу, где вы увидели свет, и к семье, которая дала вам жизнь, и к первой жене, с которой все было не так, как должно было быть, и даже к вашему ребенку от нее, с которым у вас тоже нет, не было и никогда не будет полного взаимопонимания.
Короче говоря: не для того вы родились на этот свет, чтобы сделаться оплотом чего бы то ни было (в данном случае страны или семьи), а родились вы на этот свет для того, чтобы стать вечным странником по жизни (и даже без религиозного пристанища, которое это странничество идеальным образом оправдывает), – в самом деле, разве можно сделаться истинным странником, родившись там, где надо?
И весь вопрос только в том, обрели вы на склоне лет и при «втором заходе» надежную гавань или это всего лишь очередная временная пристань? потому как, чтобы стать «вполне своим» в любой гавани, в нее нельзя приплыть откуда-то издалека, но в ней нужно родиться, – то есть, иными словами, тень предположения Ницше о «вечном возвращении» ложится на вас, и смутная догадка, что вам отныне всегда будет суждено рождаться не там, где нужно, зато еще при жизни с избытком компенсировать последствия не вполне «удачного» рождения, – она, эта догадка, никогда уже не позволит вам ни слепо надеяться на «природную доброту» матушки-жизни, ни тем более однозначно отчаиваться в ней.
II. Метафизика взгляда
Осенний пейзаж с человеком. – Радости и страдания естественно принадлежат этому миру, как свет и тьма, но если радости по отношению к центру человеческой личности являются своего рода луковицей, слои которой нужно убирать одну за другой, чтобы добраться, наконец, до заветной сердцевины, то страдание, истинное и глубокое страдание, подобно пучку света в темном подвале, мгновенно освещает его потаенное дно, – так что, заглянув нечаянно в глаза воистину страдающего, поймав его обнаженный и стыдящийся своей наготы взгляд, почувствовав в нем вопрос, на который вы не можете дать ответа, осознав собственную толстовскую вину без вины виноватого живого человека перед умирающим, а главное, увидев этого человека не в образе луковицы с бесконечными слоями каких-то вечно сменяющихся мыслей, чувств и настроений, а в его двух абсолютно центральных ролях: вчера еще живого, и нынче, уже умирающего, – да, драматичней этого взгляда ничего нет на свете.
Он напоминает брешь в полусломанном старом доме, когда во дворе лежат кучи щебня и камня, дальние стены еще стоят, но передняя, с улицы, уже проломлена, и в ней видна планировка комнат, однако не прежняя, милая и чарующая, обставленная мебелью и декорациями, как в былые славные дни, а сломанная, безобразная, зияющая пустотой, провалами, пылью и полуразрушенным камнем.
И все-таки символика органической жизни в конечном счете осиливает символику жизни неорганической, математическим доказательством чего является одно и то же из года в год поздней осенью переживаемое сложное и возвышенное ощущение… как его описать? когда фонари между деревьев напоминают старинные лампы с абажурами, когда даже безоблачное небо кажется ближе, чем то же небо в облаках и тучах, но весной или летом, когда стволы деревьев черны от сырости, а листья перед тем, как сморщиться и упасть, обретают удивительную красоту и трогательность и падение одинокого листа, кажется, слышно в соседней улице, – да, в такие волшебные вечера пейзаж с деревьями вдоль дороги и фонарем посередине напоминает декорацию камина, – и вся природа, а с нею и весь мир в первый и в последний раз в году становятся интимными, домашними, – и, конечно, можно было бы сказать, что страдать и умирать в это время гораздо лучше и легче, чем в другие месяцы, точно так же, как страдать и умирать лучше и легче дома, чем в больнице, – но ведь это само собой разумеется.
А вот сравнение себя с деревом – в том смысле, что дерево, очевидно, не чувствует боли, когда теряет листья, и даже не испытывает трагедию, если ему отрезают ветви, – так почему же мы так страдаем и переживаем за болезнь отдельного органа, хотя без сожаления расстаемся с собственными ногтями и волосами? – оно, это сравнение, после внимательного созерцания осеннего ландшафта раз и навсегда входит в наше сознание, укрепляется в нем и растет дальше подобно юным побегам: но куда же? в каком направлении? очевидно, в том единственном и достойном звания человека, которое заключается в признании существования в жизни человека – явной, но еще более тайной – некоего ствола, который никоим образом не идентичен с человеческим телом и даже с его мыслями, чувствами намерениями, и потому когда эти последние, то есть все телесное и все душевное, под воздействием времени начнут сморщиваться и осыпаться, подобно осенним листьям, для самого по себе ствола это не имеет абсолютно никакого значения, – и более того, этот естественный процесс является как раз самым надежным залогом будущего предстоящего неизбежного тотального обновления.
В самом деле, подобно тому как только конкретные выражения тех или иных неприятных черт характера человека в поступках и словах оказывают на нас решающее эмоциональное воздействие, тогда как сами черты характера, будучи первопричиной этих слов и поступков, не вызывают нашего прямого отторжения и мы их с шекспировской широтой взгляда на жизнь принимаем и даже вполне оправдываем, то есть когда нам говорят, что тот или иной человек скуп, ревнив, завистлив или злобен, мы понимающе киваем головой, и лишь когда нам вплотную приходится сталкиваться с красочными проявлениями скупости, ревности, зависти или злобы, мы с отвращением отворачиваемся, – так точно с некоторым гербарийным пристальным любопытством склонны мы засматриваться на высохшие и мертвые ветви и сучья еще живого растения, но уже высохшие и мертвые листья на тех же ветвях и сучьях вызывают в нас некоторое тонкое и необъяснимое раздражение, и мы инстинктивно тянемся оборвать их, – чтобы продолжать как ни в чем ни бывало любоваться профильной оголенностью умерших веток без листьев, – быть может, последняя чем-то напоминает рассказ о человеке вместо самого человека и потому только нам особенно близка.
Вот почему и взгляды беспощадно страдающих людей становятся предельно выразительными не тогда, когда они страшно и пронзительно кричат о своем страдании, а тогда, когда они (люди), напротив, делают все от них зависящее, чтобы показать, что они о нем (страдании) забыли и даже пытаются жить, точно его с ними нет, – и вот эта полная непричастность страданию, причем мнимая или искренняя, совершенно неважно, если она правдоподобно сыграна, точь-в-точь как у животных способна умилить до слез.
Что нас особенно трогает. – Все-таки что там ни говори, а только в глазах человека, который всю жизнь свою прожил без поддержки какой-либо религии, а теперь умирает, по-прежнему полагаясь на одну только жизнь, то есть отдаваясь полной и абсолютной неизвестности, без уверенности достичь какого-либо берега – безразлично, какого – всей ослабевшей психикой настраиваясь на прыжок в Неведомое, в чем бы Оно для него ни заключалось, – да, только в глазах такого человека вы увидите иногда отсвет той невероятной трогательности, которую вы редко встретите на лице истинно верующего человека, зато почти всегда узрите во взгляде умирающего животного.
И причина этой умиляющей трогательности заключается в том, что жизнь, хотя и хлещет нас страданиями немилосердно, странным образом не унижает нас, тогда как в панацеях мировых религий, обещающих нам спасение от страданий и от самой смерти, есть некое субтильное унижение, которое довольно трудно выразить, но которое все-таки всеми нами отчетливо ощущается, – вот всего лишь из естественного отсутствия такого унижения и происходит вышеописанная трогательность.
Подобная трогательность сквозит иногда в лицах стареющих женских знаменитостей, когда они, сняв грим, хотя и шокированы истиной неприукрашенного лица, все-таки предпочитают открыть ее (истину) себе и людям, нежели скрывать ее под фальшивой маской.
В защиту скромности. – Не правда ли: любой слишком нескромный взгляд в нашу сторону не потому в первую очередь вызывает у нас мгновенный и инстинктивный отпор, что как бы вскрывает нашу душевную наготу и в нее болезненно впивается, подобно иным злобным насекомым – хотя и это тоже – а потому, что претендует подсмотреть поистине самое главное в нас, то есть как бы наше существо и нашу душу: но ведь это невозможно даже для нас самих, не говоря уже о посторонних?
И вот это категорическое несогласие с выносимым нам на глазах приговором, в чем бы последний ни заключался, как раз и выражается нашей аллергической реакции на любой слишком нескромный взгляд в нашу сторону, тогда как забота об интимной душевной гигиене идет уже потом, – итак, сначала духовное, а за ним уже физиологическое, но никак не наоборот: соблюдение иерархии от Высшего к Низшему превыше всего.
Клятва верности. – Для того, чтобы оставаться верным себе, нужно помнить основное выражение своего лица и по возможности придерживаться его, – но что такое «основное выражение лица»? как его определить? от чего оно зависит и какие мускулы в нем задействованы? ведь анализировать линию губ, разрез ротовых складок, расширение ноздрей и угол бровей есть все-таки мелочное по большому счету занятие, – все дело, значит, в выражении глаз, оно и оформляет пластику лица.
Обращает на себя внимание: встречаясь с людьми, которых мы не видели долгие годы, перелистывая по случаю любезно предоставленные нам чужие семейные альбомы, где заботливо собраны фотографии всех возрастов, а главное, вспоминая себя самих в младенчестве, мы наталкиваемся на одну и ту же закономерность, а именно: если взгляд человека в позднем возрасте напоминает его же собственные ранние фотографии, то это всегда и без исключения тот самый взгляд, в котором отражены самые существенные черты его характера, если не сказать, души, – и вот с таким человеком обычно можно иметь дело; плохо, когда человек изменился настолько, что в нем уже нельзя найти его прежнего и характерного.
Казалось бы, мы для того и приходим в этот мир, чтобы развиваться, и чем круче и дальше кривая нашего развития, тем лучше для душевной эволюции, однако на деле оказывается как раз наоборот: чем идентичней выражение глаз у младенца и сорокалетнего человека, тем чище, достойней и, между прочим, симпатичней представляется нам этот последний, а когда о человеке в возрасте говорят: «ты совершенно не изменился», то это и вовсе следует понимать как комплимент в редчайшем умении пронести хрупкое и волшебное зерно детства сквозь невзгоды лет и прозу созревания.
Вот почему для того, чтобы понять себя, мы обращаемся к своему детству: река жизни течет от истока к устью и мы, подчиняясь космическому закону возраста, от рождения двигаемся к смерти, но наше взрослеющее и набирающее с каждым годом мудрости сознание, подобно форели в горном ручье, тихо плывет в обратном направлении: от будущего в прошлое и от зрелости к детству, – там и только там, в лучезарном и поистине кажущемся нам безначальном детстве спрятаны ключи от нашей судьбы, и записаны, подобно школьным шпаргалкам, ответы на те вопросы к жизни, которые мы будем ей задавать по мере осуществления нашей биографии.
Мы спрашиваем себя, почему так, а не иначе сложилось наше отношение к женщинам, а ответ лежит в нашем самом раннем и часто бессознательном восприятии девочек; мы спрашиваем себя, отчего у нас такая склонность к компромиссам, вплоть до досадной трещины на фасаде собственного достоинства, а ответ заключается в некоторой трусоватости, когда мы еще в семилетнем возрасте избегали драк «один на один», предпочитая искать союза с сильными ребятами; мы спрашиваем себя, отчего мы стали или не стали религиозными людьми, а ответ состоит в том самом первом впечатлении, который на нас произвел храм Божий и в особенности служба в нем, – и так далее и тому подобное.
Как правило, наши возможности обозримы уже в детстве и из них, как ясень из семени ясеня, произрастает древо жизни любого человека; просто естественное состояние ребенка – это некоторая отрешенность от повседневности, в которой живут его родители, а он, ребенок, как будто только участвует, – ребенок лишь одной стороной живет в повседневной жизни, а другой своей стороной – в том волшебном или полуволшебном мире, которое создает его неопытный ум и свободное пока еще от пут обыденности воображение.
Конечно, чем меньше развито воображение ребенка, и чем больше у него склонность к практической жизни, тем недоступней для него волшебные переживания, но все-таки, думается, какой-то минимум взгляда на жизнь как на некую тайну свойственен любому малышу, и кто знает, быть может полное отсутствие названной перспективы в младенческом возрасте как раз и есть основная причина самого непонятного людям поступка: самоубийства, – также и самоубийство случается обычно в позднем возрасте, но корни его лежат тоже в детстве. Вспомним толстовского Сережу Каренина, глаза которого светились чудесным смехом, даже когда он сам старался казаться серьезным, – это нормальное состояние ребенка, но вспомним также и обратное соотношение глаз и лица: глаза Печорина не смеялись, когда сам он был вполне весел; ясно, что таков же и портрет Лермонтова, и трудно себе представить, чтобы в детстве наш великий поэт был иным; нет, также и в возрасте Сережи Каренина Миша Лермонтов был как его будущий Печорин: с вечно несмеющимися глазами, – но с несмеющимися даже в детстве глазами в мир приходит либо демон, либо прирожденный самоубийца, – вот Лермонтов и был как раз тем и другим одновременно.
Итак, по этой самой чудесной зачарованности «непонятно чем» мы и отличаем детей от взрослых, и она всегда отражается в первую очередь во взгляде ребенка, – так что если человек сумел хотя бы йоту ее пронести сквозь жизнь, мы сразу узнаем его на фотографиях, отделенных десятилетиями, но при условии, что на них запечатлено основное выражение его лица.
Если же основное выражение не схвачено фотографом или если ребенок сызмальства был чужд волшебной струи и развивался исключительно по линии практических интересов, – вот тогда его узнать на фотографиях разных лет действительно очень трудно: но в той же мере затруднительно решить, кто же он все-таки такой с фантастической, парадоксальной, но в конечном счете единственно верной перспективы «замысла Божьего о нем».
Есть ли у души глаза? – Фантазируя о чертах лица и пропорциях тела, мы склонны изменять их мысленно в свою пользу: увеличивать рост, сбавлять объем живота, утончать форму носа, поднимать лоб и опускать подбородок, вообще выправлять явно выраженные аномалии, но при этом нам не приходит в голову, что с каждым таким изменениям может непредсказуемым образом измениться наша личность: нам все кажется, что это произойдет только тогда, когда мы посягнем на автономию глаз, – и потому в наших фантазиях об иных и предпочтительных физических пропорциях мы инстинктивно никогда не касаемся наших глаз.
И наверное мы правы.
В самом деле, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, иными словами, какое бы выражение в них ни доминировало, не только невозможно проследить его до конца и запечатлеть в словах, но найдется всегда еще множество побочных оттенков этого взгляда, каждый из которых при изменении обстоятельств и настроения души способен сделаться на время доминантным, – и вся оптическая магия человеческого взгляда на протяжении жизни поистине столь же многообразна, как любой ландшафт, меняющийся поминутно в зависимости от солнечной интенсивности, облачной среды, времени года и суток.
Но незаконченность как важнейшее бытийственное измерение отличает не только взгляд, но и феномен искусства, да и само мироздание в целом: правильно задуманные, но незавершенные роман, драма или эпопея весят на весах искусства гораздо больше, чем с блеском отделанные мелкие вещицы.
«Замысел "Ада" Данте, – как глубокомысленно подметил Пушкин, – есть уже плод великого гения», и если бы от «Божественной Комедии», «Фауста», «Илиады», «Войны и мира», «Гамлета», «Братьев Карамазовых», «Обломова», «Процесса», «Мастера и Маргариты» и прочих им подобных гигантов остались не просто уцелевшие куски, но даже всего лишь внятные наброски, мы бы и тогда относились к ним с тем особенным духовным пиететом, который мы никак не можем натянуть по отношению к мелким вещам, сколь бы безукоризненны в чисто художественном плане они ни были.
Точно так же когда мы смотрим в ночное небо и видим мерцающие звезды на расстоянии световых лет, быть может давно угасшие, а свет от них пока еще в пути, когда при этом мы невольно задумываемся о Творце мира, заранее догадываясь, что найти его будет не так-то просто, – разве тогда нам не припоминается вышеприведенное высказывание Пушкина о Данте: замысел мироздания уже есть плод чьего-то гения? и разве этот замысел в нашем восприятии не остается всегда именно незаконченным: во-первых, потому, что само мироздание в непрестанном саморазвитии, а во-вторых по причине нашей принципиальной невозможности постичь мироздание во всей его целостности?
Правда, когда от храма Аполлона остается пара колонн – это, конечно, маловато, но когда в том же храме недостает лишь пары колонн, его магия от этого только выигрывает, по крайней мере для нас, дальних потомков эллинов, а пожалуй и всего лишь их благодарных зрителей, – также и здесь искусство является самой точной моделью мироздания, а кроме того, что еще важней, также и моделью нашего первичного и глубинного его восприятия, и в этом смысле допустимо предположить, что если и есть в человеческом теле орган, который более других отражает или, лучше сказать, выражает образ души, в существовании которой нам вместо веры так бы хотелось иметь полную уверенность, то это конечно глаза и их взгляд.
И вот они-то снова и снова намекают на объективное существование души, но никогда не предоставляют нам полной в том уверенности: душа в нашем интуитивном постижении всегда и при любых обстоятельствах остается незаконченной и неопределенной.
Обращает на себя внимание: тело ощутимо подвержено изменениям времени, в том числе и обрамление глаз – веки, ресницы, окружные морщины и впадины, однако сам взгляд старению почти недоступен, основное выражение его, правда, существенно меняется с возрастом, но это именно не старение, а возрастное изменение, так что у старцев с развитым сознанием взгляд и по шкале витальности не уступит взглядам молодых людей: мудрость здесь вполне уравновешивает юношескую энергию.
Вот почему тело рано или поздно обращается в прах и смешивается с землей, а глаза просто раз и навсегда закрываются и их взгляд уходит в действительность, которую мы называем гипотетической, то есть такую, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть: но не в такую ли гипотетическую действительность уходит и наша душа? а точнее, не в ней ли она изначально пребывает?
Ведь наша жизнь обращается рано или поздно в прошедшее время, уподобляясь вороху сухих листьев осенью, тогда как наше ментальное тело, оставляя минувшую жизнь, устремляется в астрал, а оттуда в следующее будущее, которое тоже обратится когда-нибудь в прошлое и стало быть ворох сухих листьев; у нас всегда, таким образом, есть прошлое, которое недвусмысленно указывает на тщетность любого существования, но у нас всегда же есть и будущее, которое неизбежно толкает нас к новой жизни.
Нельзя тем самым понять ни себя ни жизнь, отталкиваясь только от прошлого, но еще меньше можно понять себя и жизнь, настраиваясь на одно только будущее, они повторяются, сменяя друг друга, и так было, есть и будет вечно.
Как можно преодолеть ощущение торжественного покоя прошлого? но еще больше бессмертную тоску будущего и непреодолимую к нему тяготу? для этого надобна недюжинная и постоянная внутренняя работа, нужно неустанно держать перед умственным взором неминуемый финал жизни – болезни, старость и смерть, нужно постоянно видеть и переживать жизнь как ворох сухих листьев, нужно загадывать и дальше: как последующая и послеследующая и сотая и тысячная жизнь кончатся болезнью, старостью и смертью, – и миллионная по счету жизнь превратится в ворох сухих листьев, нужно задействовать все силы фантазии, нужно представлять, как мы обретем статус какого-нибудь светоносного существа, которое способно будет преодолеть пространство и время, – но и тогда астральные болезни и астральная старость не прекратят подтачивать наш светоносный образ.
Иными словами, чтобы обрести полную независимость от времени, надобно восстановить в душе неизменяемое сознание, как будто все явления, возможные во времени – читай земной жизни – пережиты до конца, то есть до той метафизически предельной душевной сытости, когда желание заново испытать их в какой-либо вариации полностью и необратимо отсутствует, иначе говоря, вырвано из души с корнем, – и вся беда здесь только в том, что, по всей видимости, такое психологическое состояние, поистине самое религиозное из всех возможных, реально недостижимо, к нему можно только приближаться, им можно восхищаться, о нем можно мечтать, но воплотить его в собственной жизни вряд ли возможно.
Впрочем, это как будто удалось Будде и многим его последователям, но и тут доказательств нет никаких и, точно так же, как в христианстве, вера подводит подо всем жирную финальную черту.
А до тех пор в любом разочаровании скрыты семена надежды и радости, разочаровавшая женщина толкает нас в объятия другой женщины, за болезнью следует выздоровление, а если даже болезнь заканчивается смертью, то разве не от смерти ожидается самое радикальное обновление? и пусть прожитая жизнь обратилась в ворох сухих листьев, под спудом уже зачинаются клейкие ростки.
Итак, что же первичней: молодая зелень, обращающаяся по осени в сухой мертвый ворох? или этот ворох, обусловливающий по весне новую зелень? на все можно смотреть как на обреченное когда-то закончиться: черепом и костями, но на все можно смотреть и как на обреченное когда-то снова начаться: нежной клейкой зеленью и улыбкой младенца.
Обе точки зрения одинаково правы, и если бы Будда указал нам только на кучу опавших листьев как итог и символ жизни, он не далеко ушел бы от умнейших Лермонтова и Шопенгауэра, но Будда предлагает нам нечто большее: он предлагает нам – оставаясь в пределах образов природы – перестать быть деревом, вечно сбрасывающим осенью и надевающим весной листву, и стать небом, раскрывающим свою безбрежную, бездонную и особенно поразительную по красоте синеву именно весной и осенью, на фоне еще не одетых или уже разодетых деревьев.
Небо – универсальный символ буддийской ниббаны и у него тоже есть своя психология, как есть она и у дерева, но элементарная интуиция подсказывает нам, что, хотя дерево по-своему абсолютно совершенно, небо все-таки выше и значительней его, а главное, как-то больше соответствует природе и назначению человека: без дерева прожить можно, но трудно, без неба прожить никак нельзя.
Метафизике и психологии неба соответствует и основная музыкальная тональность нашей жизни, ибо поскольку первоосновы бытия не существует, так как любая первооснова пребывает в комлементарном созвучии со своей противоположностью, то и для человеческого восприятия ясная лазурь и ночное звездное небо выступают не только символами бытийственной первоосновы, но и ее адекватными выражениями, так что любой феномен, увиденный, помысленный или пережитый на фоне самого светлого или самого темного неба, начинает поистине звучать, и более того, приобретает сразу наиболее выразительное звучание.
Плющ на фоне лазури, античная колонна, обвитая плющом, на фоне лазури, католический ангел или надгробный памятник на фоне лазури, – все это смысловые музыкальные аккорды по возрастающей, апогейный же изгиб эта, быть может, самая главная тональность нашей жизни достигает, когда вся прожитая жизнь представляется на фоне лазури, и тогда о ней можно сказать следующими стихами. —
Слышишь, мой друг, как пред дальней дорогой
сердце волнуется близкой тревогой?
ясна лазурь и опор лишена,
станет нам пристанью только она:
в ней все, что было и вечно пребудет,
может быть, будет, а может, не будет,
в ней суждено нам и вечно пребыть:
может быть, быть, а быть может, не быть.
Вот аналогом лазури в человеческом теле как раз и являются глаза, а то обстоятельство, что, как сказано было в самом начале, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, только подчеркивает целомудренность ее природы: как будто наша душа, не желая, чтобы ее увидели с улицы, задвинула в окне занавески.
Классики не ошибаются. – У нашего Пушкина есть любопытная фраза: «У души нет глаз», она настраивает на весьма своеобразный лад, для сравнения – портрет слепого из лермонтовской «Тамани». – «Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельма подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям…»
В самом деле, «что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?», однако Лермонтов прочитал, его слепой и без глаз поразительно зрим и почти зряч, тогда как пушкинские персонажи и с глазами производят безглазое впечатление, а между тем люди не сговариваясь как будто условились в том, что если и есть в человеке душа, то выражается она только в глазах: недаром, чтобы постичь самую суть человека, мы смотрим ему в глаза и все животные, чтобы узнать и познать нас – насколько им это дано – тоже смотрят нам в глаза.
И лишь Пушкин выразился в обратном направлении, почему? такова была его стилистическая манера: чрезмерная энергийная заряженность не позволяла увидеть портрет в детали, как не позволяет сверхсильное эмоциональное волнение остановиться взглядом на многих подробностях сразу, зато Пушкин умел создавать лик вещи в энергийном облаке, лик вместо лица, здесь до иконописи один шаг, – поэтому стилистически Пушкин православен как никакой другой художник, а психологически далек от православия тоже как никакой другой: еще одна, между прочим, антиномия, которая может послужить эпиграфом к нашей исконной культурной и исторической загадочности.
При чтении Пушкин производит сильнейшее впечатление, но едва томик отставлен в сторону, впечатление от него убывает, точно туман рассеивается на глазах или как будто у волшебника Карла срезали бороду, а все потому, что у «нормальных» писателей описываемые миры пахнут, как живые вещи и оттого запоминаются, тогда как Пушкин подобен гениальному парфюмеру из романа Патрика Зюскинда, который мог улавливать все запахи мира, а сам не имел ни одного, – пушкинский художественный космос как бы приподнят над землей и изъята из под него его плотская, пахнущая субстанция.
Вещицы Пушкина – энергийные сгустки, пластически очерченные до внятности телесных форм, они световоздушны, а их субстанция суть заряженный субтильной энергией воздух, причем световая моделировка идет от содержания, сокровенный же фон образов черно-белый, графический, пушкинское творчество голографично по духу, и оттого является величиной переменной, – Пушкин может казаться одним (подавляющему большинству русских) самым гениальным художником, а другим (почти всему миру в переводах, но и в оригинале великолепному Синявскому) тем самым королем, который почему-то оказался голым, и обе стороны будут по-своему правы.
В то время как у писателей-реалистов на описываемых мирах можно ходить и плясать, у Пушкина за строкой вообще ничего не стоит, опереться на него нельзя, не ровен час – упадешь, потому что все «стоящее за строкой» Пушкин вобрал в строку и тем самым начисто упразднил задний план, его фон точно гигантским волшебным шприцем оказался втянут в план передний, вплоть до полного их отождествления, пушкинские образы, употребляя термин А. Ф. Лосева, эйдосны: пусть это не идеи Платона, но эйдосные персоналистические сгустки, – как бы некая «золотая середина» между платоновскими идеями и поздним реалистическим портретом.
Образы Пушкина духоносны и духовидны, естественно поэтому, что «обыкновенным» наблюдением, «обыкновенным» мышлением и «обыкновенным» творческим процессом их не создашь, а только вдохновением – почти на грани того, что русская церковь и русские святые называли «веянием Духа Святого», то же очевидное обстоятельство, что Пушкин с его помощью вызывал к жизни любые образы – в том числе и откровенно демонические – опять-таки подытоживает, как равно и предвосхищает русский сюжет: ну как, в самом деле, «божественной любви и милосердию» не встретиться здесь лоб в лоб с «демонической ненавистью и братоубийством»? этот сюжет уже присутствует в зерне в Евангелиях, его воплотит в жизнь католическая церковь, его будет смаковать Достоевский, и его утвердит в апокалиптическом масштабе русская революция.





