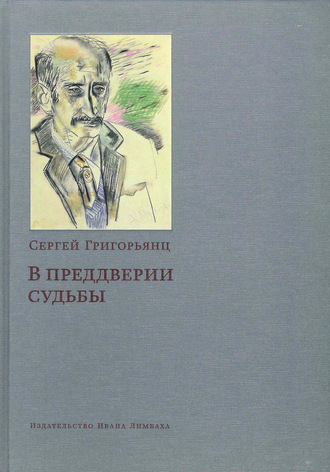
Сергей Григорьянц
В преддверии судьбы. Сопротивление интеллигенции
История с убийством генерала была по тем временам настолько скандальной, что моя прабабка Любовь Ивановна, бывшая официальной опекуншей детей Александра Ивановича, получила для них от петербургского начальства повышенные пенсии. То, что Александр Иванович сам предсказал и описал свою гибель, сделало эту историю в те склонные к мистицизму времена небывало популярной, много раз описанной, почти легендарной. Даже через двенадцать лет после событий о ней помнили, что было счастливым обстоятельством для Михаила Александровича, который, будучи человеком образованным и трудолюбивым, успешно продвигался по службе. Ко времени революции 1917 года он был главным инженером Мытищенских заводов – вторых по значению военных заводов после Путиловских. Как и все крупные инженеры, в 1918 году он попал в число заложников, но был отпущен (а не расстрелян), поскольку история гибели его отца все еще была памятна, и он, таким образом, успешно доказал свое участие в революционном движении.
В должности инспектора народных училищ Константин Иванович побуждал заводить в учебных заведениях мастерские, восстановил ковроткачество в некоторых районах Армении и Азербайджана, где эти навыки постепенно утрачивались. В Грузии, где было больше леса, устроил мебельные мастерские. Чтобы поддержать училища, покупал их продукцию по тройной цене из собственного жалования: для себя и в качестве подарков родным. У меня до сих пор целы ковры (в нашей семье когда-то их было множество) и мамин ореховый платяной шкаф из этих мастерских.
Иногда Константин Иванович своеобразно использовал свое двусмысленное положение. К нему после ссылки в Вологде приехал никому, кроме полиции, тогда неизвестный историк Павел Елисеевич Щеголев. Прадед, пользуясь хорошими отношениями с великим князем Константином Константиновичем (у него было поместье «Зеленый мыс» под Батумом), умудрился получить для молодого человека разрешение ознакомиться и опубликовать секретное дело Грибоедова о его участии в восстании декабристов, а потом и все дело декабристов. Это были документы, к которым не был допущен даже официальный историограф Российской империи В. И. Семевский, историк гораздо более опытный и знающий, чем Щеголев. Но именно Щеголев прославился публикацией обоих дел. Издательство Суворина разработало для этого какую-то небывалую факсимильную печать. Эти очень редкие теперь книги букинисты то и дело пытаются выдавать за оригиналы рукописей. Щеголев стал очень известен. Но как сегодня объяснить это предпочтение, оказанное великим князем?
Дети между тем росли. Следующая за бабушкой дочь – Надежда Константиновна, уехала учиться на женские медицинские курсы, наконец открытые при Медицинском институте, где, как и на Бестужевских курсах, преподавали величайшие русские ученые. Забегая вперед, скажу, что Надежда Константиновна – самая добрая и очаровательная из виденных мной Перевозниковых, во время Первой мировой войны была врачом в одном из санитарных поездов. На ее похоронах к гробу подошел незнакомый мне капитан первого ранга, видимо, из друзей тетки, из кампании адмирала Исакова, и сказал, что Надежда Константиновна олицетворяла лучшие народнические черты и традиции русской интеллигенции. Конечно, это было справедливо в отношении всех Перевозниковых, но сказать вслух, публично, да еще советскому офицеру о достоинствах народнического движения и русской интеллигенции было почти оппозиционным политическим выступлением в коммунистической Москве 1959 года. В санитарном поезде она познакомилась с Константином Юрьевичем Чарнецким (а может быть, была с ним знакома еще в детстве в Воронеже и снова случайно встретилась).
Константин Юрьевич происходил из тех влиятельных польских семей, которым после восстания Костюшко обменяли польские поместья на русские. Один из его предков граф Чарнецкий – «польский Суворов» – знаменитый военачальник, успешно боролся в XVII веке и с турками, и с русскими. Мальчик рос в богатейшей воронежской усадьбе, с учителями и гувернерами, но, когда ему было девять лет, лишился родителей. Внезапно умерла мать. Отец безумно любил свою жену и через две недели умер от горя. Приехали какие-то родственники, уволили учителей и прислугу, мальчика отвезли в воронежскую гимназию, заплатили за год обучения и больше он уже не видел ни поместья, ни самих этих родственников, ни денег. Кажется, мой прадед освободил его от дальнейшей платы, а на еду и жилье он зарабатывал уроками своим одноклассникам. Константин Юрьевич блестяще закончил гимназию, юридический факультет Московского университета и примкнул к революционному движению. Однажды в витрине Музея революции я случайно увидел его документы, по которым прятался кто-то из бежавших с крейсера «Потемкин» матросов. Кажется, Чарнецкий был и на первом (не организационном) съезде РСДРП. Позднее он с гордостью повторял, что ни в какие партии не входил, но тем не менее за организацию то ли забастовки, то ли стачки был арестован и на много лет сослан в Сибирь. Во время войны его вернули из ссылки, и он женился на сестре моей бабушки – свадьба их праздновалась у нас в квартире в Киеве и на большой даче под Киевом (в Святошино), которую к тому времени купил мой прадед.
Этот дом сохранялся еще в 1920-е годы, хотя во время революции власть в Киеве менялась раз десять, и грабили, конечно, всё. В кабинете деда срезали не только кожу с дивана, но даже кожу с альбома для фотографий. Этот диван, на котором я спал, точно такой же, как у профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Только книг у деда было бесконечно больше, чем у этого странного, ничего не читающего кинематографического профессора.
Но вскоре семья лишилась загородного дома. Во время мировой войны прабабушка разрешила поселиться в пустовавших каретных сараях семье беженцев. Большая дача показалась им привлекательнее сараев. Советская власть открывала разным людям разные способы для устройства. В 1928 году беженцы написали в ОГПУ, что Любовь Ивановна прячет золото, остро необходимое советской власти. На самом деле ничего не было – Константин Иванович и Любовь Ивановна всю жизнь мечтали купить домик на юге Франции и прожить там последние годы. Для этого была оформлена гигантская, чудовищная по тем временам страховка на сто тысяч рублей (Чехов Мелихово купил, кажется, за девять). Естественно чуть ли не половина оклада Константина Ивановича двадцать пять лет уходила на выплату по страховке. Срок выплаты этих долгожданных ста тысяч пришелся на июль 1917 года, когда деньги стоили не дороже обоев. Любовь Ивановну арестовали, недели две держали в ГПУ. Не знаю как, но ее пытали. Она сошла с ума на допросах. Дом в Святошино бросили, чтобы избежать новых арестов. Бабушка показывала мне этот дом – когда-то великолепная двухэтажная дача походила теперь на гигантскую грязную голубятню с рваным бельем, торчащим из каждого окна.
Безумная Любовь Ивановна доживала свои дни в большой комнате Чарнецких в Москве на Тверской – все же бабушка Надя была врачом, но и она ничего не могла сделать, – часто раздававшиеся тогда звуки лопнувших шин казались грузной семидесятилетней прабабке взрывами артиллерийских снарядов, и она съеживалась под роялем, откуда ее трудно было достать.
После краха святошинского дома Константин Иванович доживал последние годы у моих бабушки и деда в Киеве в Политехническом институте. Целые дни читал Библию и энциклопедию Брокгауза и Эфрона и сам набивал себе папиросы. Страницы всех 88 томов были пересыпаны табаком. Энциклопедию, которую мне потом отдала Ариадна Павловна, я по молодости и глупости продал.
Константин Юрьевич, будучи экономистом, сперва уехал в Грозный – к нефти. Революция 1905 года ему многое объяснила, и интерес к революционным партиям он потерял уже в ссылке. Около 1921 года, с началом НЭПа, он вернулся в Москву. Как видному в прошлом участнику революционного движения ему дали целых две комнаты в барской (теперь коммунальной) квартире на Тверской. По тюрьмам и ссылкам он был хорошо знаком с Орджоникидзе и с другими коммунистическими лидерами и без труда нашел место в какой-то структуре, пытавшейся смягчить голод в России.
Я не знаю в истории революционной эпохи человека с подобной биографией, так достойно и мужественно прожившего свою жизнь. Во-первых, в отличие от многочисленных Чичериных, Литвиновых, Красиных и прочих, отошедших от революции после ужасов 1905 года и быстренько вернувшихся к победителям большевикам, он не стал закрывать глаза на то, что творится по всей России, не стал вступать в победившую коммунистическую партию. С аристократическим польским гонором, высоким достоинством и здравым смыслом не дал себя сманить предлагавшимися ему Орджоникидзе должностями и привилегиями благодаря чему, кстати говоря, пережил всех бывших друзей. До самого конца он ясно понимал, где живет, кто его окружает и не только не принимал участия ни в каких преступлениях, но старался хоть как-то смягчить их последствия.
В 1922 году по предложению Ленина Сталин был выдвинут на вполне техническую должность оргсекретаря ЦК ВКП(б). Должность была не из самых важных, но ЦК все же послал двух своих членов, Ларина и Ротштейна, проверить на Кавказе биографию Сталина. Результаты были неутешительны, с заполненной Сталиным анкетой не совпадали, но тот был утвержден и, конечно, ничего не забыл. Проверявшие члены ЦК стали одними из первых его жертв. Константин Юрьевич до конца жизни из своей пенсии помогал вдове и дочери Ларина, с которым он познакомился где-то в Сибири.
Дом, где жили Чарнецкие, находился срядом со школой, где учились дети кремлевской камарильи. Поэтому вовсе не за революционные заслуги Константина Юрьевича, а просто по месту жительства моя тетка, Татьяна Константиновна, оказалась в одном классе с Васей Сталиным и дочерью Карла Радека. Когда она после уроков по-соседски попыталась привести в гости Васю, то была нещадно обругана, и ей было запрещено поддерживать с ним знакомство. Она рассказывала, что однажды Сталин принес в школу пистолет. С дочерью Радека отношения не сложились, девочка была замкнутая и очень высокомерная. Но когда Карла Радека арестовали, ее из страха в классе словно перестали замечать. Константин Юрьевич предложил дочери пригласить одноклассницу провести лето на даче, которую они снимали в Кратово. Из революционной компании изредка осмеливались так вести себя только Микояны, но Анастас Иванович сам был по горло в чужой крови.
К сожалению, я не виделся с Константином Юрьевичем в последние десять лет его жизни. Году в 1965-м, приехав к ним на ужин, я, совершенно не придавая этому значения, как об известном обстоятельстве упомянул, что в Московский университет евреев не принимают. Начавшийся скандал не поддается описанию. Константин Юрьевич кричал, что я клевещу на Московский университет, клевещу на русский народ, в котором никогда не было антисемитизма.
– Это у вас на Украине водится всякая шваль, и там может быть что угодно, но в России антисемитизма никогда не было, а оболгать Московский (почти с трепетом) университет – это просто кощунство, – кричал он мне.
Успокоить Константина Юрьевича было невозможно, объяснять, что однокурсники только что мне рассказывали, как Ковалев на нашем факультете «топил» на вступительных экзаменах еврейских детей (книга Бориса Каневского и Валерия Сендерова «Интеллектуальный геноцид» об экзаменах на физическом факультете еще не была написана). И я перестал у них бывать.
Единственная дочь Константина Юрьевича, моя тетка Татьяна, до войны училась в ИФЛИ, обладала необычайным очарованием и чувством юмора и, может быть, поэтому стала руководить секретариатом адмирала Кузнецова, когда он был нарком флота. В то время была группа довольно образованных и умных адмиралов, друзей Исакова. Конечно, только благодаря тетке ее муж, Николай Владимирович Волженский, стал капитаном первого ранга, начальником какого-то большого отдела в Министерстве обороны СССР, не будучи членом КПСС. Прецедентов я, честно говоря, не знаю. Правда, он был трудягой и замечательным специалистом.
Мой первый арест прошел незамеченным, но сразу после второго им в Министерстве обороны доверительно сообщили, что у меня в огороде в Боровске нашли коротковолновую радиостанцию и большой чемодан с деньгами, полученный от американской разведки. После скандала с Константином Юрьевичем я не общался с семьей Татьяны Константиновны около десяти лет, она и ее муж работали в Министерстве обороны, сын Миша служил на атомных подводных лодках. Ей было доподлинно известно, чего стоят советские телефоны, – но как только она узнала о моем аресте, сразу позвонила моей матери и сказала с достоинством, которое было у нее врожденным:
– Я твоя сестра и все, что смогу, чтобы тебе помочь, я сделаю.
Мой двоюродный брат Миша сохранял качества своей матери. Еще курсантом он получил орден Красной звезды, бросившись устранять аварию в атомном реакторе подводной лодки (и был вынужден всю жизнь лечиться от лучевой болезни). После возвращения капитаном первого ранга в Москву с Северного флота он получил, казалось бы, блестящее предложение работать в Рособоронэкспорте. И только с удивлением заметил:
– Но ведь там одни воры…
Разъезжая на своей старенькой, едва дышащей «Волге», он кормил семью в роли нелегального таксиста, пережил два нападения (убийства таксистов были тогда нередки).
Младшая бабушкина сестра, Софья Константиновна, познакомилась с наследником киевских миллиардеров Бродских, может быть, потому, что лечилась в Тифлисе от туберкулеза – считалось и кажется справедливым, что горный воздух очень полезен (не понимаю, как врачи уморили врача Чехова в гнилой атмосфере крымских болот). Он принял крещение, и они обвенчались, вопреки протестам его родных. Через полгода мужу пришлось уехать в Берлин, где он и умер в туберкулезной больнице. Софья Константиновна никогда больше замуж не вышла, но ни крещение мужа, ни их брак ортодоксальной киевской еврейской семьей никогда признан не был.
Константин Константинович, единственный сын в семье Перевозниковых, женился на младшей сестре моего деда – Адели, после крещения принявшей имя Ариадны Павловны. Их союз противоречил православным правилам, так как они уже были в духовном родстве после замужества моих бабушки и деда. Венчал их какой-то поп, кажется, расстрига, на окраине Киева, во время мировой войны, когда на многое перестали обращать внимание.
Таким образом, у меня образовались дважды двоюродный дед и дважды двоюродная бабка. Ариадна Павловна была сестрой деда, а Константин Константинович – братом бабушки Елизаветы Константиновны.
Однако в наши времена «национального самосознания» и ксенофобии любопытнее другое: ни один из четырех детей русской семьи Перевозниковых не сочетался браком с русскими, ни один из детей еврейской семьи Шенбергов (кроме не вышедшей замуж сестры Ребекки) не остался в браке иудеем. В старой дворянской воронежской (но при этом передовой народнической) семье Перевозниковых эти разноплеменные браки, насколько я знаю, возражений не вызывали. В еврейской семье Шенбергов (как и у Бродских) сперва все было иначе.
Софья, старшая сестра моего деда, тайно обручилась с выбранным ею женихом замечательной красоты, весьма преуспевающим и богатым инженером Дмитрием Дмитриевичем Полиенко, ставшим позднее профессором в Харьковском университете, в которого были влюблены все сестры Шенберг. Он не только учился в университете вместе с моим дедом, но и жил с Шенбергами в одном доме в дорогом районе Киева (на Арона Давидовича как имевшего высшее образование не распространялась черта оседлости). Поскольку он был русский и православный, их брак по российским законам предусматривал ее переход если не в православие, то в любую другую христианскую Церковь (протестантство или католичество). Родители, Аарон Давидович и Дора Акимовна, были категорически против этого брака. У девушки началось то, что тогда называлось «горячкой», и через две недели она умерла – от любви. Ее большой посмертный портрет смогла сохранить младшая сестра Ариадна Павловна, и он висит сейчас у меня. Дмитрий Дмитриевич после ее смерти никогда не женился, и, кстати говоря, не вышла замуж другая влюбленная в него сестра – Ребекка («бабушка Рыбка», как ее называла мать. Впоследствии она была известным в Киеве зубным врачом). Испуганные родители, так и не простившие себе смерть дочери, больше не противились выбору детей.
Мой дед – старший сын, блестяще закончивший и университет, и Политехнический институт, возмутительным образом просто ушел c торжественного обеда, где совершалось его обручение, оставив в полнейшем недоумении невесту (из богатой еврейской семьи Бавли, их теперь уже совершенно перестроенный дом был на углу Крещатика и нынешнего Майдана незалежностi), ее родителей и многочисленных гостей. Вскоре он крестился и женился на моей бабушке, причем при крещении из фамилии Шейнберг пропала буква «й», очевидно, соответствовавшая особенностям произношения распространенной немецкой фамилии на идише. До самой смерти он с усмешкой повторял, перефразируя знаменитую формулу из дела Бейлиса об Андрюше Ющинском, что он «умученный жидами младенец Сергий». Вероятно, ему, под влиянием матери, совсем не нравилась ортодоксаль ная местечковая киевская среда, и он был счастлив, что, женившись, из этой своеобразной, очень провинциальной среды вырвался.

Софья – сестра моего деда «умершей от любви».
Посмертный портрет. Бумага, карандаш, соус
Его брат Давид, судя по всему, тоже крестился, во всяком случае отчество у него было Павлович, женой его была очаровательная голландка Полина Генриховна Долина. Он стал крупным харьковским инженером, у него тоже были очень большие, как у многих в нашей семье, коллекции – несколько вещей из них у меня сохранилось, – но в 1937 году он был арестован и расстрелян. Полину Генриховну арестовали в 1941 году по доносу соседей о том, что она немка и ждет немцев. За донос по советским законам соседи получили комнату и вещи арестованной – ампирную карельской березы мебель Давида Павловича. В лагере Полина Генриховна выжила. Мама моя ее очень любила и хотела, чтобы она жила с нами, но та предпочла жить с сестрой – Натальей Генриховной, муж которой – Огарев, кажется, правнук писателя, был к тому времени расстрелян. Их братом был известный режиссер-документалист, первым в России начавший снимать фильмы о животных, – Борис Генрихович Долин.
Мне кажется, были очень интересны обе семьи родителей деда – Аарона Давидовича и Доры Акимовны. Отец прадеда, то есть мой прапрадед Давид Шенберг (Шейнберг) был, по-видимому, богатым бердичевским купцом. Не только богатым, но по тем временам весьма просвещенным. Я немного знаю лишь о двух его сыновьях: Акиме и Аароне. Мой прадед Аарон примерно в 1868 году был отправлен в Петербург и стал одним из первых иудеев, получивших высшее образование в России, – его серебряный значок Технологического института (венок с императорской короной и вензелем И. Т.) я в молодости любил носить. Его старший брат Аким, вероятно, не получил высшего образования, но жил в Москве, возможно, как купец первой или второй гильдии. Однако, по семейному преданию, двое его маленьких сыновей на свадьбе моей прабабки и прадеда к удовольствию гостей изображали Добчинского и Бобчинского (в 1873 году, я думаю). Старший из этих мальчиков – Александр Акимович с театральным псевдонимом Санин стал одним из известнейших русских актеров и режиссеров Серебряного века, одним из основателей МХАТа, первым постановщиком спектаклей Дягилева в Париже (оперы «Князь Игорь» и «Хованщина»), одним из первых русских кинорежиссеров (среди прочих фильмов – «Поликушка» с Москвиным), в 1930-е годы вместе с Тосканини – руководителем театра «Ла Скала» в Милане. С Тосканини как в «Ла Скала» так и в Байрейте (до прихода к власти Гитлера) их объединяла влюбленность в оперы Вагнера, к тому же Тосканини был убежденным противником «расовых законов», принятых в Италии под давлением Гитлера, а законы эти не могли не затрагивать Санина.
По воспоминаниям современников, спектакли Санина в «Ла Скала» и «Гранд опера» в 1920-е годы вызывали такой же фурор, как концерты Шаляпина. Александр Акимович первым перенес на европейскую сцену изысканную красоту и дисциплину массовых постановок императорских театров. Все, что написано в монографии Натальи Кинкулькиной о Санине, о его старомосковском дворянском происхождении, – абсолютный вымысел. Думаю, что и ссора со Станиславским, который не позвал ближайшего друга и коллегу на свадьбу, произошла как раз потому, что иудей Санин, несмотря на всю любовь к русскому народному искусству, был совершенно непереносим для патриархальной купеческой семьи Алексеевых, основной доход которой состоял в производстве церковной утвари. Не знаю, был ли крещен Санин – для него это должно было быть внутренне важно при его почти маниакальной любви к древнерусскому искусству, русским обрядам, платью, распевам. Не зря ближайшим его другом был Николай Рерих, тоже влюбленный в древнерусское искусство. Переписку с Рерихом передала через Илью Зильберштейна в Театральный музей последняя жена Санина – шведка. До этого он был женат на известной в первую очередь благодаря роману с Чеховым Лике Мизиновой. Их приемная дочь недавно умерла в Асконе в Швейцарии. Игорь Александрович Сац – младший брат мхатовского Ильи Саца, ставший самым близким нашей семье человеком после моего ареста, благодаря поездкам в Париж в качестве секретаря Луначарского был хорошо знаком с Саниным, но Лику Мизинову неизменно называл истеричкой, что, впрочем, заметно и по ее письмам Чехову.
Могилу Санина мне указал сын Вячеслава Иванова Дмитрий Вячеславович, они похоронены неподалеку друг от друга на одном из римских кладбищ. По-видимому, Санин обладал странной способностью вызывать к себе одинаково сильные и взаимно противоположные эмоции: от безудержного почитания и симпатии до почти пренебрежительного равнодушия. Возможно потому, что в эмиграции до последних лет жизни он был одним из наиболее преуспевающих людей. В 1960-е годы меня поразили воспоминания известного в начале века баса С. Ю. Левикова в серии «Театральные мемуары»: профессионально-уважительный рассказ о постановке Саниным в Мариинском театре «Нюрнбергских мейстерзингеров», когда он потребовал от певца точного следования невыносимо сложной для голоса партитуре Вагнера, и тот навсегда потерял голос, но все же вспоминал о Санине (да еще и эмигранте) с нескрываемым восхищением.
Это восхищение заметно и в переписке с Шаляпиным («Саша» – «Федечка»), и в отношениях с открытым Саниным для большой сцены юным Вацлавом Нижинским, и с Николаем Бенуа – для Санина «Кокой»; в отношениях с Николаем Рерихом, Вадимом Фалилеевым, Беньямино Джильи и Maрией Каллас. Поэтому у меня – автошарж Шаляпина, автопортрет и «Бог танца» Нижинского, коллекция работ Рериха, декорации Бакста к поставленной в Париже для Рубинштейна «Елене Спартанской», театральные костюмы Федора Федоровского, Фалилеева, Виктора Симова. Для моей мамы и более далекого племянника – Юры Дегтярева (внука Трифона Перевозникова) Санин в 1916 году последний раз вышел на сцену МХАТа, чего не знает Кинкулькина. Эвакуированных из Киева племянников он не только повел на «Синюю птицу», но и сам вышел в роли Хлеба. В справочнике о русской эмиграции о Санине написано «умер в нищете». Для русского эмигранта это не было редкостью, но здесь явно было подчеркнуто, как знаменитый, получающий высокие гонорары, человек кончает свои дни.
На самом же деле немецкий антисемитизм в Париже благодаря организованной Николаем Бенуа помощи «Ла Скала» Санина не задел, и в 1942 году он уехал в Италию. Но советский – его успешно доконал. Ставя во всех крупнейших театрах мира русские оперы, прославивший русскую музыку Санин, как и многие эмигранты, рвался домой, на родину, к русской культуре (не вполне понимая, что делается в СССР). Однако его угнетала необходимость при постановке в Метрополитен-опера использовать в операх Римкого-Корсакова негритянский хор. Внешне казалось, что к возвращению Санина нет препятствий. За него хлопотало посольство, а также композитор Шебалин и дирижер Большого театра Голованов, которым он помогал в Италии. То и дело казалось, что советская виза вот-вот будет получена и тогда Санин разрывал все заключенные им контракты, ставя в трудное положение знаменитые театры, поскольку никто в мире заменить Санина не мог, а главное – в его постановки были приглашены знаменитые артисты, у которых тоже рушились планы. К тому же он боялся уезжать из Италии в Нью-Йорк, Лондон, Париж – визы в СССР бывали ограниченного срока действия. А для Москвы Санин был слишком крупен и знаменит, чтобы сразу отправить его в лагерь или ссылку, как это было со многими возвращенцами. И он был совсем нежелательным свидетелем всего того, что творилось в Москве. Поэтому ему все послевоенные годы просто морочили голову, чего Санин не мог, не хотел понять.
Но в очередной раз разрешение из Москвы не приходило, небольшие сбережения во время этих перерывов в работе ради возвращения в Россию неумолимо таяли (с «Ла Скала» отношения так и не восстановились), Санину было уже под восемьдесят, а потом и больше лет, и в начале 1950-х после очередного отказа он тяжело заболел. Несколько лет он болел и умирал во все более острой нужде. Похоронили его за счет благотворительного фонда. Впоследствии оказалось, что для Москвы он был еще и «космополитом» – в СССР, как в фашисткой Германии, учитывали проценты еврейской крови и забытую во всем мире его фамилию – Шенберг.
При всем образованном и передовом для того времени характере семьи бердичевского купца Давида Шейнберга его сын, а мой прадед Аарон никогда не мог бы жениться на очаровательной моей прабабке Доре Акимовне (ее написанный в Вене перед замужеством портрет до сих пор остается одной из самых привлекательных вещей в наших больших семейных коллекциях). Но, судя по фотографии, Аарон Давидович был в молодости очень хорош собой, а главное, имел высшее образование, что в европейском еврейском мире чрезвычайно ценилось.
О родителях Доры Акимовны – Сыркиных – я почти ничего не знаю, поскольку вся ее семья осталась в Австро-Венгрии. По-видимому, это была одна из очень богатых и интеллигентных еврейских семей в Вене. Об интеллигентности можно судить по тому, что дядей Доры Акимовны был известный композитор, пианист и педагог Карл Черни. Франц Лист, учившийся у Черни, не только часто играл в их доме, но, по семейным рассказам, ему нравилась игра Доры Акимовны. Ее родители и братья были посессорами – то есть реальными владельцами формально принадлежавших кому-то другому больших поместий, в том числе в австро-венгерском Закарпатье. Об их состоянии можно судить по рассказам об их выезде непременно шестерней цугом. В России такая упряжка была привилегией государя, даже великие князья могли пользоваться выездом только из четырех лошадей. В Австро-Венгрии не было подобных ограничений, но легко представить себе, что упряжка из шести тщательно подобранных по масти и красоте лошадей, была, конечно, замечательно красивым, но и очень дорогим видом езды.
Все самые красивые вещи в нашем доме были из приданого Доры Акимовны, но уцелел после конфискаций и обысков у меня только ее портрет, знаменитые прижизненные портреты Моцарта и Сальери, большая сердоликовая печать одного из ее братьев, ее именная кружка и ампирные бронзовые подсвечники. Аарон Давидович получил в качестве приданого еще и деньги на постройку пивного завода, строительство которого поручил своему приятелю по Технологическому институту, – но крыша здания обвалилась, и все оборудование погибло перед самым открытием.
Молодые поселились в Киеве, вскоре пошли дети, и Дора Акимовна навсегда оказалась оторвана от привычного для нее венского мира. Моя бабушка Елизавета Константиновна, однажды мельком вспоминая родителей мужа, сказала: «Есть евреи, а есть жиды». Так, ни в малейшей степени не антисемитка, до самой смерти будучи не только влюбленной, но и глубоко уважая мужа (я вырос среди фотографий деда), она определяла отличия между его отцом и матерью, но на самом деле – шире, между интеллигенцией Вены и Бердичева. При этом бабушка была, конечно, неправа, поскольку как раз в нашей семье наиболее известным европейским, да и не только европейским деятелем культуры, был Александр Санин, происходивший из бердичевской ветви.
Я думаю, что Доре Акимовне было тяжело и одиноко в провинциальном Киеве (особенно в еврейской его части, хотя на прадеда как имевшего высшее образование не распространялись ограничения «черты оседлости») – Егупце, как называл его Шолом-Алейхем, – вдали от венской музыки, театров, картин. Может быть, именно потому никто из ее детей, вступая в брак, не остался иудеем. Дети Перевозниковых не женились на православных, по-видимому, по причине абсолютной открытости русского мира всему непохожему, взаимодополняющему, любопытному.
Мои дед и бабушка с 1905 года до самой смерти (деда – в 1936 году, бабушки – в 1968-м) прожили в так называемых «профессорских» домах Политехнического института, где дед был сперва заведующим созданной им, а потом и ненадолго названной в его честь лаборатории гидравлики, с 1913 года – профессором (лабораторию он передал будущему академику Делоне). С защитой его докторской диссертации, правда, вышла неувязка. Оппонентом у него был академик Жуковский, но защита была назначена на четвертый день Троицы и, к всеобщему удивлению, оказалось, что академик отстаивал в Троице-Сергиевой Лавре службы не три дня, как было принято, а всю неделю и на защиту опоздал.
До самой смерти дед был бессменным деканом теплотехнического факультета и заведующим кафедрой гидравлики, среди приглашенных им преподавателей был не только Делоне, но и Игорь Тамм, среди студентов пару лет – Сергей Королев. Как почти все киевские профессора, во время революции дед уехал в Одессу, собирался эмигрировать, но в Киеве оставалась его обожаемая дочь, и Сергей Павлович вернулся, хотя именно для него – с богатыми родственниками в Вене и прочным научным именем в Германии – эмиграция была бы в первые лет пятнадцать вполне успешной, если не блестящей.
«Начинался не календарный, настоящий двадцатый век». Привязанность моих деда и матери друг к другу была совершенно поразительна, хотя мама довольно рано, в восемнадцать лет, вышла замуж за сына бывших владельцев большой колбасной фабрики на Подоле и, кажется, многих сахарных заводов на Украине – Алексея Питуха. Дед его еще возил на волах из Сиваша соль и не знал грамоты. Но, разбогатев, он женился на немке, принесшей в приданое колбасную фабрику, и выучил всех своих детей. При таких родителях поступить в институт в Киеве, где их все знали, Алексей не мог, и они с мамой уехали в Ленинград, где он, выправив себе справки крестьянского сына, сперва поступил на завод токарем, а потом уже смог начать учебу и, в конце концов, стал одним из главных конструкторов советских ядерных реакторов. Мама в эти годы и работала, и училась, они снимали комнату в Петропавловской крепости у вдовы барона Притвица, сын которого, кажется, командовал Красной авиацией и тогда еще не был расстрелян. Мамин двоюродный брат Георгий Николаевич был внуком владельца последней частной железной дороги в России – Московско-Киево-Воронежской. Может быть, она оставалась частной еще и потому, что одно время управляющим у Трифона Михайловича Перевозникова был будущий премьер-министр России граф Витте. Я не раз пробовал расспросить людей родственно или по характеру своих интересов близких к этой среде об одном из богатейших в России и всем известном предпринимателе Перевозникове. Но одни о нем ничего не знали, а другие, казалось, не хотели по каким-то причинам говорить. И, вспомнив тесные контакты и сотрудничество Перевозникова с Витте, я предположил, что он не только сохранил за Трифоном Михайловичем главную железную дорогу в центре России, но, возможно, сознательно разорил главного его конкурента Савву Мамонтова. Это было самое громкое и какое-то скверное коммерческое дело перед революцией. Мамонтов, получив концессию на строительство важнейшей железной дороги Петербург – Вятка, обещавшей многомиллионные прибыли, так как она связывала напрямую Петербург с Сибирской магистралью, вложил сотни тысяч (не только своих) из капитала Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги в реконструкцию завода по производству паровозов. И тут Витте, будучи министром, внезапно отобрал у Мамонтова предоставленную концессию. Вернуть вложенные в модернизацию Невского завода чужие деньги Мамонтов уже не мог, его собственные акции упали до минимума. После блестящей речи Плевако от уголовной ответственности Мамонтов был освобожден, но разорен дотла. Действия Витте тогда объясняли по-разному: государственными интересами – возможностью купить в казну за смехотворную цену железные дороги Мамонтова; угрозой самому Витте, не предпринимающему никаких мер, со стороны министра юстиции. Но все-таки где-то рядом был и, кажется, нигде не упоминаемый мой двоюродный дед. Во всяком случае, именно ему было наиболее выгодно разорение Мамонтова. И, возможно, поэтому никто ничего о нем не говорил. Сам же я у дядюшки Георгия Николаевича ничего не спрашивал. Сперва потому что был молод, а потом просто перестал с ним видеться. Впрочем, и мама после моего ареста видеться с ним, который рос вместе с ней на даче в Святошино, почему-то не хотела.



