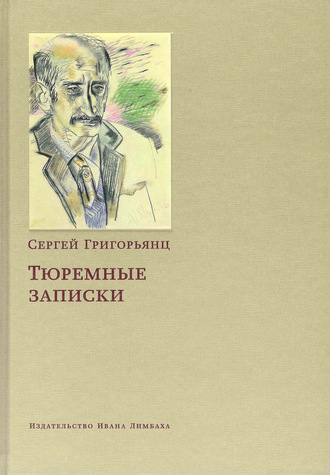
Сергей Григорьянц
Тюремные записки
Книга издана при содействии фонда Avc Charity
На обложке портрет автора работы Артура Никитина
© С. И. Григорьянц, 2018
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2018
© Издательство Ивана Лимбаха, 2018
Глава I
Первый арест
Причины ареста
Мне остается только строить догадки о том, что послужило причиной моего ареста в 1975 году. Может быть, у них были какие-то далеко идущие планы по внедрению меня в европейскую эмигрантскую среду. Вероятнее всего, логика была такая: если человек пишет об эмигрантской литературе, переписывается с заграницей, получает оттуда книги, получает даже газету из Парижа (а еще у меня были там родственники), поддерживает отношения с Ниной Берберовой; сотрудником «Русской мысли», членом эмигрантского Народно-трудового союза (НТС) Александром Сионским; переписывается с русской писательницей Натальей Кодрянской, живущей в Нью-Йорке, – то есть ведет себя совершенно непристойным образом, – он должен сотрудничать с правоохранительными органами.
Что говорить, я действительно был знаком с массой людей, которые чрезвычайно интересовали КГБ. Это были «подозрительные личности»: Варлам Шаламов, Виктор Некрасов, Сергей Параджанов. Но предъявить в качестве обвинения мне было нечего – я не держал в руках валюту. Это были пережитки хрущевских лет, когда и почта, и цензура были сильно облегчены. Поэтому какие-то эмигрантские книги – скажем, романы Набокова, сборники статей Георгия Адамовича, еще что-то общественно безобидное – проходили по советской почте. А другие книги из-за границы привозили знакомые, например Рене Герра, которого за это выслали из Советского Союза. Но и тут я не был человеком исключительным: скажем, архивист и литературовед Александр Богословский получал намного больше иностранных книг, чем я, правда, через французское посольство.
Впрочем, за эмигрантскую литературу в Москве пока не сажали – за это можно было попасть в тюрьму в провинции. Кроме того, я был одним из немногих, у кого были официальные допуски в спецхраны, в архивы, и на эти книги в своих статьях я ссылался совершенно официально.
Политикой я почти не интересовался, во всяком случае не принимал в ней никакого участия – в то время я был убежден, что политика вредна для литературы: никакого положительного результата от критики Чернышевского, Добролюбова, Писарева, не говоря уже о том, что они затравили Константина Случевского, на мой взгляд, не было. Возможно, именно это парадоксальным образом способствовало моему аресту. Ведь с точки зрения тех, кто за мной следил, это говорило о том, что во мне есть страх: человек, который общается с Натальей Горбаневской, Виктором Некрасовым, Владимиром Войновичем, но сам не принимает участия в диссидентском движении, конечно, боится. А раз боится – значит, достаточно его немного пугнуть, и он станет сотрудничать.
Давление. Слежка. Обыски
К 1974 году интерес «органов» ко мне стал явным. До этого меня скандально и не без труда выгнали с факультета журналистики МГУ, причем в Министерстве высшего образования были вынуждены прямо сказать, что это было требованием КГБ. Но это событие произвело на меня не слишком большое впечатление. Ну выгнали и выгнали – бог с ним. Мне был совершенно неинтересен этот факультет, я не собирался заниматься советской журналистикой. У меня была хорошая репутация, мне давали писать внутренние рецензии в журналах, на радио я делал какие-то передачи (была редакция Литературно-драматического радио, где работали первая жена Юрия Левитанского Марина и Ксана Васильева)… В общем, с голоду я точно не умирал, да и напуган не был.
За мной началась буквально ежедневная слежка. Одного «топтыжку» едва не избили мои соседи. Мы жили в новом девятиэтажном доме с четырьмя, кажется, подъездами, куда еще не провели телефоны. И на полтораста квартир, на пятьсот с лишним человек было всего два телефона-автомата, стоявшие как раз у моего подъезда. Но с раннего утра до поздней ночи один из них постоянно занимал следивший за мной «топтун». Конечно, соседям мое положение было совершенно ясно, но необходимость позвонить и накопившаяся злоба на «топтунов» перевешивали страх перед КГБ. Ко мне перестали приходить письма – за последние полгода или месяцев девять перед арестом я не получил ни одного. Мои письма иногда доходили, но с очень большим опозданием. Бывало, правда, и иначе. Письма Кодрянской и Сионскому я вкладывал в одинаковые небольшие конверты, и однажды Наталья Андреевна получила письмо к Сионскому, а Сионский – адресованное ей. Было вполне очевидно, что не я перепутал конверты. Забавно, что Сионский передал мое письмо Кодрянской, а Кодрянская ему – нет. «Ведь это шпион», – сказала мне, приехав в Москву. Я не стал выяснять, в чьих интересах шпионаж она имела в виду, поскольку понимал, что НТС – непростая организация. Надоело мне все это до омерзения, жена была беременна, сыну исполнился год, должна была приехать теща помогать жене, то есть в однокомнатной квартире становилось тесно, и я просто снял квартиру в противоположном конце Москвы. У меня был совершенно незаметный такой серенький жигуленок, которых был миллион. Я постарался исчезнуть из поля зрения КГБ, и мне это почти удалось.
Но слежка периодически возобновлялась. Иногда в районе Спиридоньевского переулка, рядом с домом Поповых, у которых часто бывал, я замечал какого-то мальчишку, который делал вид, что попадается мне на глаза случайно. У него была двусторонняя курточка – с одной стороны зеленая, а с другой – красная, и он периодически выворачивал ее наизнанку. Или на проводах в Москве Виктора Некрасова: мы уходили с Киевского вокзала с Евтушенко, и Евгений Александрович на платформе с высоты своего роста заметил «топтуна». Сказал мне: «За нами хвост».
– Не волнуйтесь, это за мной, – ответил я, и в сложных переходах станции метро «Киевская» от слежки ушел.
Зная, что на кольцевых станциях метро есть камеры видеонаблюдения, и без труда выделив их из пары других камер, я убедился, что если иду по перрону в сторону камеры, то она нагибается ближе к полу, чтобы не терять меня из виду. Соответственно, если я шел от нее – камера принимала горизонтальное положение. Довольно быстро выяснилось, что на радиальных станциях камер наблюдения пока нет. Там действовали «топтуны», которые могли отслеживать тебя на платформе, если, пытаясь уйти от тех, которые были с тобой в вагоне, я выскакивал из вагона поезда последним. В метро почти всегда от слежки уйти удавалось – делал я это в основном для развлечения и не желая приводить хвост к друзьям. Примерно то же я вскоре обнаружил и на улицах. Просматривались все основные (и по возможности – прямые) магистрали центра Москвы, но стоило свернуть в переулок – на углу мог ждать «топтун». Так было в Спиридоньевском переулке у Поповых1 и в арбатских переулках, если от Сацев2 я выходил через дворы, а не прямо на Арбат.
Конечно, «наружка» не ходила за мной так тщательно, как это стало происходить позже, – не так уж я был им нужен тогда, и выделять постоянно большую группу для слежки КГБ не видел большой нужды.
Конечно, я понимал экстравагантность своего поведения. Но у меня от природы ослаблено ощущение опасности, так что все это не могло удержать меня от того, чтобы писать довольно прямолинейные письма за границу, получать оттуда книги и газету то на один, то на другой адрес – в Киеве, где жила мама, в Москве на Измайловский проспект к одной из бабушек – Ариадне Павловне; иногда прямо в университет, куда Берберова присылала пакеты книг Гертруды Стайн для диплома жены.
Мама считала, что за интересом ко мне стоит желание получить нашу коллекцию, остатки вещей моих дедов и прадедов. Действительно, наша библиотека, изъятая при одном из обысков, была распродана за три дня, бесследно пропала часть коллекции живописи – например, работы старых мастеров. В то время многие зарабатывали на распродаже конфискованных вещей, но чаще этим занимались судебные приставы или люди из МВД (на одном из обысков, не стесняясь моей матери, делили между собой семейные вещи: шкаф моего прадеда – одному, зеркало из приданого прабабки – другому). Но, как потом выяснилось, мной было занято Пятое управление КГБ, у которого были более масштабные интересы, и они сперва вовсе не интересовались коллекциями.
Как я сейчас понимаю, поначалу меня не собирались арестовывать. Да, я иногда что-то продавал, как все коллекционеры, но я не жил на эти деньги – мелких гонораров и денег за внутренние рецензии нам в основном хватало. Меня нельзя было обвинить в тунеядстве, как, скажем, Бродского. Я не был членом Союза писателей, но, как Шаламов (а перед смертью и Пастернак), был членом групкома литераторов. От меня просто требовалось сотрудничество, и переданные кому-то несколько антисоветских книг давали достаточные основания, чтобы пугнуть, предъявить на первых порах какое-то обвинение. В то время люди, которые занимались изучением эмигрантской литературы и переписывались с кем-то за границей, от помощи КГБ обычно не отказывались (это выяснилось позже, во время моего суда), поэтому гэбистам просто не приходило в голову, что я не пойду им навстречу.
Одновременно со слежкой – скорее психологическим давлением, чем реальной в чем-то заинтересованностью, – у меня начались обыски и в Москве, и в Киеве. Причем в двух этих городах понятыми были одни и те же «случайно встреченные на улице» молодые люди. Обыск в Киеве был возмутителен тем, что следователи рвались в комнату моей матери «чтобы побеседовать», а у нее в тот день была высокая температура и только что ушел врач. Мама, услышав возню и понимая, что я ничего не могу сделать, сказала: «Ну ничего, пусти их, Сережа».
Мало-мальски серьезные книги я припрятал в Москве, их слегка заинтересовал десяток икон – кажется, их тогда же изъяли «для проверки», но в результате постоянной слежки они знали, что в отличие от А. Синявского на Север я не езжу, старые церкви и старушек не граблю. Купил или обменял у кого-то в Москве десяток икон – обвинить в этом нельзя. И, в общем, кроме допроса мамы, меня в обысках мало что волновало – просто на всякий случай смотрел, чтобы чего-нибудь не подложили и не слишком много украли, – я знал, что даже по советским дегенеративным законам ничего криминального у меня нет. И лишь когда они стали описывать для вывоза коллекционные иконы, я попросил оставить мне бабушкину, не коллекционную, ничего не стоящую в деньгах маленькую печатную на фольге начала XX века иконку Казанской Божьей Матери, которая ездила с нами в эвакуацию, в Ташкент, оставалась у бабушки и была единственной уцелевшей, нас охранявшей иконой. И мне ее оставили, она до сих пор у меня цела.
В общем, мысленно я уже был готов к тому, что окажусь в тюрьме. Помню, встретил как-то Сашу Морозова3 и говорю: «Ну вот, скорее всего, арестуют». (Я знал довольно много людей, прошедших через это в последние годы или находящихся в тюрьме. Литературовед и поэт Леня Чертков уже отсидел несколько лет, и с ним мы были в более-менее приятельских отношениях. Был Алик Гинзбург, который тоже два года отсидел. В Киеве арестовали Сергея Параджанова, выслали из СССР Виктора Некрасова.) Саша посмотрел на меня с ужасом и сказал: «Как же вы так спокойно об этом говорите?!» Я пожал плечами и ответил: «В Советском Союзе оказывались в тюрьмах люди и получше меня». На этих словах мы разошлись.
Сохранялась, правда, слабая возможность уехать из СССР. Но я уезжать никогда не собирался, хотя меня уговаривали это сделать. Помню, коллекционер Владимир Тетерятников незадолго до своего отъезда говорил, что меня неизбежно посадят. Но я-то писал об эмигрантской литературе и точно знал, что эмиграция – не выигрыш, а обмен одной потери на другую. Может быть, ты что-то и приобретаешь, но очень многое теряешь. Я знал, что моему двоюродному деду Александру Санину4 в эмиграции было совсем не так уж хорошо, хотя он одно время руководил вместе с Артуро Тосканини театром Ла Скала. Так что иллюзий, в отличие от многих людей тогда, о достоинствах жизни в эмиграции у меня не было. И вообще я был довольно упрямый человек: ну, с какой стати? Это моя страна, я знаю свою семью за триста лет, почему я должен уезжать?.. Позже, в Боровске, я объяснял участковому, который меня убеждал: «Вам же здесь все не нравится, почему вы не уезжаете?» – «Ну почему же все не нравится? Мне многое нравится! Мне вы не нравитесь».
Арест
Мне действительно удалось уйти от слежки, и на несколько месяцев меня просто потеряли, что, как потом выяснилось из реплик следователей, вызвало у них большую злобу, а может быть, и внутренние проблемы – ведь отчеты писать надо. Если меня обнаруживали по камерам наблюдения, я успешно скрывался во дворах. Поэтому они начали следить за моей женой. Она была беременна, ей надо было гулять, да и бульдога Арсика надо было выгуливать. Во время прогулок она звонила мне на съемную квартиру на улице Дыбенко из телефонов-автоматов, но каждый раз – из разных, а все на постоянное прослушивание не поставишь. Тогда у нее за спиной начали появляться хмыри, которые пытались подсмотреть, какой номер она набирает. Через какое-то время – длилось это полгода или месяцев семь – они поймали Тому на улице и сказали: «Вы знаете, Тамара Всеволодовна, мы поняли, что все это ни к чему не приводит, и вообще, совершенно нам ваш муж не нужен, и надо это все прекращать». А мы с Томой знали, что у них действительно есть определенные сроки, когда они следят за человеком. КГБ – бюрократическая организация: там есть отчетность, есть выделенные для этого люди, определенные сроки слежки (полгода или год) и так далее. И, по нашим расчетам, эти полгода или год (точно не помню) подходили к концу. И они убедили Тому в том, что слежка будет прекращена, и мне просто надо зайти в прокуратуру и подписать какие-то документы: «Вы же понимаете, нам надо закончить. У нас отчетность».
В общем, Тома меня убедила, и я сам пришел в районную прокуратуру по Бабушкинскому району. Пришел, как меня попросили, к одиннадцати утра 4 марта 1975 года (мы с Томой были людьми неопытными, поэтому я не стал требовать письменной повестки, а явился по устному требованию, что, впрочем, ничего бы не изменило). И до четырех часов дня просидел там, ожидая непонятно чего. Возможно, они никак не могли получить подпись прокурора для моего ареста, хотя решение ГБ, конечно, уже было. Но тогда объяснить, что нужно арестовать ни в чем не замешанного человека было не так легко. Рассуждения моих оперативников, а потом и следователей со временем стали вполне очевидны. Человек в советской стране ведет себя так, что по определению должен сотрудничать с ГБ. Но сам он к ним не идет. Тогда его пугают – слежкой, прекращением переписки, обысками в Киеве и в Москве; деликатно объясняют ему, глупому, что им совсем немного надо – только сотрудничество.
И вместо того чтобы радостно откликнуться на приглашение, я создаю им только новые хлопоты – куда-то исчезаю. И тогда они обманули Тому, которой уж очень тяжела была такая жизнь, а через нее и меня, чтобы пугнуть по-настоящему, чтобы выбор был между тюрьмой и сотрудничеством. Я знал несколько человек, которые просидели так до полугода (одного из них описывает Андрей Амальрик) и сделали для КГБ естественный выбор. Для меня все это стало вполне очевидным, когда меня почти с первого дня «наседки» стали покупать, а не пытаться узнать у меня хоть что-нибудь.
А пока в прокуратуре открывалась то одна, то другая дверь, и меня спрашивали: «Это вы – Григорьянц? Подождите, пожалуйста, еще немного! Не уходите, в общем!»
Наконец появились следователь прокуратуры Леканов и кто-то из гэбистов. Они привезли с собой Николая Павловича Смирнова. Это был старый прозаик, когда-то ответственный секретарь «Нового мира, в прошлом сотрудник журнала «Красная новь», единственный выживший из всей редакции. Вся она была арестована в конце 1920-х годов, а потом расстреляна. Он был из того узкого круга людей в Советском Союзе, кто интересовался эмигрантской литературой. Переписывался с Борисом Зайцевым, еще с кем-то. Получал, как и я, из-за границы книги… Было ему лет семьдесят или семьдесят пять, руки и ноги у него дрожали. Он сидел напротив меня, просил прощения и говорил: «Сергей Иванович, они мне сказали, что если я не дам показаний, опять окажусь там, где уже был…»
Он действительно (правда, сказав, что эти книги уничтожил) признался, что получил (купил) у меня один номер «Нового журнала» и, кажется, семь или восемь номеров альманаха «Мосты» и сжег их. Но о том, что я от него тоже получал эмигрантские книги, умолчал. Не стал об этом говорить и я. Тем, как меня заманили, я был возмущен в высшей степени – вероятно, меня особенно раздражала собственная глупость.
КПЗ. Первая голодовка
К вечеру 4 марта 1975 года я оказался в КПЗ на каких-то грязных нарах. В камере напротив милиционеры «пользовали» проституток, а может быть, и не проституток. Дверь они не закрывали, и мои соседи с интересом наблюдали в глазок. Судя по доносящимся звукам, женщины пытались сопротивляться, но как отобьешься в камере от пяти отъевшихся бугаёв-охранников. Среди соседей самым симпатичным был мужик лет пятидесяти, который уже утром следующего дня смог получить у охранников ведро с водой, швабру и тряпку и начал драить пол в камере. Было видно, что он не может прожить и часа без работы. Вскоре соседи рассказали, что этот трудяга выстроил своими руками дачу на шести сотках, работал по две смены и смог купить себе и жене квартиры, но все записал на жену, а она, хорошо подготовившись, решила, что все, что ей надо, она получила, и, разорвав на себе платье, расцарапав бедра, подняла крик на весь дом, что он ее насилует, и соседи вызвали милицию. Всем все было ясно, но женщины-судьи всегда становились на сторону жен, и трудолюбивому мужику светило не меньше пяти лет. Мужья, посаженные женами, как я потом увидел, были заметной частью советских лагерей.
Возмущение мое собственным арестом было таким, что я тут же объявил голодовку. Требований никаких не выдвигал – это был протест против незаконного задержания без надежды быть освобожденным.
На следующий день в КПЗ приехал следователь, который тут же начал говорить о книгах, которые у меня были. Но никаких доказательств того, что я их читал, у него не было. А потом он мне польстил, и я допустил ошибку, которую, впрочем, допускают почти все. Он сказал: «Ну хорошо, вы же литературовед, вы знаете этих писателей, вы знаете, о чем идет речь». И я ответил утвердительно, хотя и максимально неопределенно: мол, ну конечно, что-то я, в общем, понимаю». И много-много месяцев это было единственное, что у них было, чтобы меня обвинить, поскольку уголовным преступлением являлось сознательное распространение антисоветской литературы, а если я ее не читал, то формально не являлся преступником. (Когда меня арестовали во второй раз, я уже не повторил эту свою ошибку и сказал, что целый портфель парижских изданий случайно нашел в пивной).
Матросская Тишина
Спустя три дня мне предъявили обвинение по статье 190-1 – «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советское государство и общественный строй». Меня перевели в Матросскую Тишину, не обратив внимания на то, что я третий день голодаю.
Это была спокойная камера: был какой-то молодой грузин – карточный шулер, непрерывно тренировавший руки, но мне интереснее других был позолотчик из Троице-Сергиевой лавры, которого месяца три назад сделали завхозом и вскоре обвинили в злоупотреблениях и посадили. Теперь он, замечательно рассказывая об искусстве позолоты, уже понимал, что в лавре поочередно назначали каких-то посторонних людей на должность завхозов, чтобы было кого обвинить. К примеру, легально закупить все необходимые составляющие для ладана в СССР было невозможно.
Дня через два в камере появился какой-то человек с пачкой сахара, чтобы было что вносить в общий котел. Я еще не знал, что «кумовья» (замначальника по режиму) снабжают пачками сахара «наседок», но по тому, как он сразу мной заинтересовался, понял, что это ко мне. Впрочем, его собственная легенда о торговле какими-то шелковыми платками была так примитивна, что вызвать меня на толковый разговор ему, несмотря на все старания, не удавалось. Голодал я спокойно, на то, как ели соседи, внимания не обращал, и через неделю меня перевели в камеру для голодающих. Пытались заставить тащить туда свой матрас. Я был ослаблен, да и рядом был охранник сержант, и я отказался, сказав, что голодаю. Охранник с руганью взвалил на плечо мой матрас, и из его слов я понял, что он считает меня своим подчиненным. Ну, добро бы генерал, полковник, но какой-то тюремный сержант – твой начальник! Это был первый запомнившийся мне, но не усвоенный тюремный урок.



