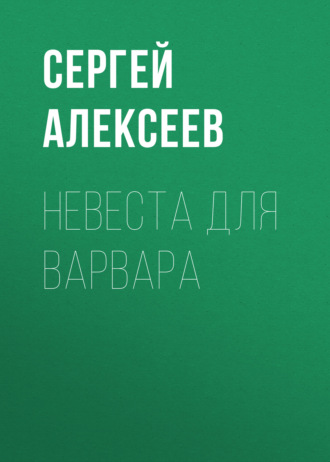
Сергей Алексеев
Невеста для варвара
– Твои товарищи-то в Архангельске! – напомнил Брюс. – Мы же уговорились оттуда в путь пускаться.
– Иную я дорогу нагадал, – вдруг заявил Тренка. – На этой нам хлопотно будет с оленьими людьми. Подговорит их гулящая женка супротив нас исполчиться и по всей дороге караулить. Везти невесту по пути кровавому – примета недобрая. Из Вологды отправимся, а товарищи уже знают про мои догадки и нынче пешими из Архангельска вышли. Ты, немец, своих людей с товаром туда же пошли, пускай у Прилуцкого монастыря встанут и ждут.
Не должен был югагир знать ни про людей, что пойдут сопровождать невесту, ни тем паче про товар, закупленный Брюсом в Петербурге! Тут возразить ему было уж нечем, а посему граф сделал распоряжения своим людям, чтоб снаряжали обоз в Вологду, и сам изготовился в дорогу, да поздно вечером был срочно призван Екатериной.
Пока был жив Петр Алексеевич, Марта Скавронская цвела при нем, несмотря на годы, порхала по дворцу, флиртовала с придворными, навлекая на них гнев государя, а тут, по недоразумению взявши бремя власти, стала быстро превращаться в брюзжащую, да еще пьющую старуху, и сил у нее оставалось лишь изображать императрицу да принимать по ночам любовников.
– Брюс, голубчик, – она говорила с сильным акцентом, – отчего вы пренебрегаете нашим обществом? Где вы все время пропадаете?
– В Артиллерийском приказе, ваше величество, – ответствовал генерал-фельдцейхмейстер.
Она с покойным государем не раз присутствовала на парадах и даже наблюдала в подзорную трубу за сражениями, однако вряд ли знала тонкости военного, в том числе пушечного, дела, а посему Яков Вилимович прикрывался службой.
– Чего бы нам выпить? – сама себя спросила Марта, явно испытывая вечернее похмелье. – Граф, хотите вина?
Отказывать ей было немыслимо, а стол во дворце у нее все время накрывали со щедрой выпивкой и закуской. Императрица сделала несколько жадных глотков из бокала с водкой и принялась есть виноград прямо с кисти.
– И в каком же состоянии наша артиллерия? – поинтересовалась она между прочим. – Расскажите мне, голубчик, что-либо прелюбопытное!
Все однообразные дворцовые утехи ей надоели, и Марта явно скучала. Иногда после долгой пьянки и грубого ночного разврата ей хотелось изысканной и умной светской беседы, а для этого у Брюса было слов заготовлено изрядно.
– Артиллерия наша в состоянии превосходном, – начал он отговорку. – Да есть один вопрос, весьма деликатный, относится к аспекту духовному и потому требует вашего высочайшего участия.
Марта в тот же час откликнулась на интригу:
– Весьма интересно! Как вам удается связывать артиллерию с делами духовными?
Граф ощутил себя пиитом.
– Во время шведской кампании государь Петр Алексеевич – царство ему небесное – велел собрать со звонниц колокола и перелить их в пушки. И так были выделаны сотни превосходных орудий, коими и одержали победу над супостатом. Сей факт достоин пера Гомера, дабы воспеть жертвенность и любовь к Отечеству ныне покойного императора. Мои артиллеристы замечали, как от огня сих пушек даже зарядами холостыми шведы обращались в панику и бежали с поля боя, ибо при выстреле раздавался не только грохот, но и колокольный звон, могучий набат, повергавший супротивника в страх.
Екатерина уже была зачарована, и сквозь белую пудру, как сквозь туман, вдруг высветился живой и молодой румянец – она обожала все мистическое. Брюс же, еще глубже вовлекая ее, сделал паузу и продолжил:
– Ныне же, когда медные и чугунные заводы Демидовых добывают руду и льют новые пушки, иные поврежденные же по просьбе Синода возвратили церкви. Из них вновь отлили колокола, кои были подняты на звонницы. Но что происходит, ваше величество? Медь, бывшая пушками и привыкшая стрелять, продолжает грохотать на колокольнях. Она гудит, подобно канонаде, и нет того прежнего, бархатного, благолепного звону. Суть сего – таинственное перевоплощение металла, неведомое науке. То есть неживая материя имеет память. И теперь требуется ваше повеление – не отливать колоколов из сих пушек, а сохранить в прежнем военном виде. А ходатайство Синода удовлетворить за счет казенной меди с литейных заводов.
На самом же деле генерал-фельдцейхмейстер таким образом пытался спасти от переплавки не только значительную часть орудий; сразу же после смерти государя Священный Синод затребовал вернуть все пушки из колокольной меди либо возместить ущерб медью, а также серебром и золотом, которые содержались в колоколах. А это десятки пудов!
Очарованная и даже потрясенная императрица вдруг так расчувствовалась, что вынула из ларца орден святого Александра Невского и нацепила на грудь Брюса дрожащими от волнения пальцами.
– За службу Отечеству и престолу и во славу российской артиллерии! – провозгласила торжественно и подняла бокал.
Принимать награду, тем паче незаслуженную, из ее рук, которые он помнил, когда она подавала на стол у Шереметева, а потом стирала белье у Меншикова и звалась Мартой, было нелепо и постыдно, однако отказаться от ордена – навлечь на себя подозрения и много лишних вопросов. Пока Екатерина витала в своих мыслях о загадках металла, Брюс был уверен, что в ближайшие две недели, поглощенная ими, она ни о чем ином думать не будет, а значит, о нем и не вспомнит. Придворные, с кем Марта Скавронская станет обсуждать научное изъяснение, непременно будут делать изумленный вид, таращить глаза и поддакивать. А однажды на вечерней службе ей почудится, что колокола на звоннице и впрямь бьют, словно орудия. Она спросит, отчего это, и ей в тот час подтвердят – из пушек колокола сделаны, мол-де, и в воздухе от них витает смрад пороховой. И вот тогда появится соответствующий указ…
Дорога в Москву напомнила графу юные годы, и было ему от того грустно, ибо ощутил он, как подкатывается и звенит, ровно колокольчик под дугой, неотвратимая старость. Бывший стольный град белокаменный хоть и был еще величественным и притягательным, однако же и здесь лежала печать подступающей старости, тогда как Петербург напоминал еще угловатого, нескладного, но радующегося жизни и шаловливого отрока. Брюс приехал, не выказываясь, кто и зачем, поэтому на заставе не объявился, дабы не привлекать к себе внимания начальства. Граф все роды московских князей наизусть знал, а также дома, где невесты есть, но поди еще, угадай, где сватов ждут от чувонского ясачного князька.
И тогда они разделились: Брюс поехал по своим давним друзьям, с коими долго не видался, мысля заодно выпытать, в чьих домах сватов ждут не дождутся, где девицы на выданье есть, но засиделись по разным причинам, а Головин отправился на ассамблею, которую устраивали в бывших царских палатах Московского Кремля, полагая там кого-нибудь приглядеть. Возвратились они оба ни с чем, ибо боярская Москва и слышать не желала про некоего дикого сибирского варвара, да еще с чудным прозвищем – Распута. Не то что невест давать – пойти свататься, так на смех поднимут. А молва, она в мгновение ока разлетается – все двери перед сватами затворят.
Однако на ассамблее Ивашка шепоток услыхал, пересуд неких двух особ, кои упоминали князя Тюфякина и дочку его, Варвару, вроде не совсем здравого ума девицу, которую из-за строгих раскольничьих нравов взаперти держат и даже на праздники со двора не выпускают. Де-мол, блаженная сия княжна, и князь бы давно ее в монастырь отдал, но староверческих обителей поблизости не осталось – все уже никонианские.
Услыхал это Головин и говорит:
– Поедем, Яков Вилимович, попытаем счастья у Тюфякиных. Авось блаженную-то отдадут. Князю же югагирскому все одно, какую уж привезем, такую и возьмет. Сам-то ведь, должно, не больно умен и сознанием детск.
– Раз тебе Тренка поручил глядеть – гляди, – ревностно предупредил граф. – Назад ведь не вернешь, ежели по нраву не придется.
Василий Романович Тюфякин вел корень свой от Оболенских и взглядов был старых, боярских, веры раскольничьей, а посему за новой долей в Петербург не поехал, жил в Москве наособицу, носил могучую бороду, и если по молодости ругал государя Петра Алексеевича и новые нравы, то ныне лишь сердито сопел и молчал. В юности они знакомы были с Брюсом, однако Тюфякин не признал его и вначале велел в дом не впускать, мол, бритых здесь не принимают. Пришлось назваться полным именем и спутника своего назвать, о котором Василий Романович наслышан был. И все одно, встретил гостей настороженно, не в палатах, а в сенях, и даже на лавку сесть не предложил. Неведомо, как уж там нагадал Тренка тут невесту искать, а всякая надежда в тот час и угасла от такого приема.
– По какому делу? – спросил хмуро Тюфякин, однако же принарядившись в дорогой боярский кафтан.
Сразу же завести речь о сватовстве у графа язык не повернулся, но здесь капитан вдруг воспрял, поклонился в пояс, как подобает, шапкой по полу махнул.
– Изволь выслушать нас, князь Василий. С добром пришли к тебе и делом важным. Есть у тебя красный товар, а у нас – купец-молодец…
– За срамного троеперстника не отдам! – и речи закончить не позволил Тюфякин. – Ступайте себе с миром.
– Наш жених древлему благочестию привержен, – нашелся Ивашка, впервые ощутив сватовской задор. – И крепко стоит на том, ибо живет в далекой индигирской землице, на Индигирке-реке.
Василий Романович вдруг пал на лавку, словно подрубленный.
– В руку! Ей-бо!.. А как ему имя?
– Оскол он именем, из рода ветхих князей Распут.
Князь согнулся так, что бородой пола достал, а сам живот поджал, словно внезапная хворь его скрутила.
– Спаси и помилуй, Господи, Исусе Христе… Знак твой!
И вроде бы сам блаженный сделался, ибо застыл в оцепенении и только глазами туда-сюда водит.
Поднялся он с трудом, не взглянув на гостей, убрел куда-то в глубь хором своих и там канул, считай, на час. Брюс с Головиным все это время так и стояли в сенях, с ноги на ногу переминаясь, словно кони притомленные: по прежним обычаям в чужом доме без позволения не садятся и без него же не уходят восвояси. Наконец является Василий Романович – какой-то благостный, просветленный, ладаном и лампадным маслом от него пахнет, в руках же крест держит серебряного литья.
– Клянитесь, – говорит, – и крест целуйте в подтверждение слов своих.
Генерал-фельдцейхмейстер с капитаном ко кресту приложились.
– Истинно глаголем!
Лишь тогда Тюфякин их в палаты свои ввел, на лавку под стеной посадил.
– На прощеное воскресенье мне сон был, – с неким душевным трепетом признался он. – В Москве потоп вселенский, грязные волны у красного крыльца плещутся, и все на погибель обречены, стонут и плачут – и кто царю-антихристу служит, и кто отверг его посулы, в бесчестии прозябает, но древлее благочестие блюдет. Я на колена пал, взмолился, а вода сквозь двери льет, сор всяческий вносит и меня подмывает. Минута до смерти осталась, не более, и тут гляжу, красная ладья к моему крыльцу чалится, а в ней – Матушка-Богородица. И меня эдак рукою манит!.. Голос же слышу ласковый, любовный: «Род твой спасется, коли посадишь дочь свою, разлюбезную и кроткую девицу Варварушку, в ладью сию и в земли дальние и холодные отошлешь, кои прозываются – Беловодье. А ждет ее там князь рода благородного и древлего благочестия держится истово». Тут я и пробудился, весь в поту, а надо мною Варварушка склонилась и вопрошает: «Отчего, тятенька, ты кричал? Не болесть ли пристала?» Я же ей и слова молвить боюсь, так жаль ее стало. Шесть дней ходил сам не свой и токмо о сне том думал, и на седьмой не сдержался, поведал Варваре, отчего нет мне покою. Она же рассудила, дескать, след вести ждать. Коли Пресвятая Богородица подаст знак, знать сон сей в руку, а нет, так пустой. Тут и вы являетесь, сваты, и называете сего князя благородного…
Не только Ивашка, но и граф слушал его в неком ошеломлении – вот как нагадал Тренка, где невесту взять! Ужели и впрямь у него такая сила магнетическая, что за полтысячи верст сон на Тюфякина вещий наслал? Ужель в самом деле сей югагир мыслью своей способен в чужие сны проникать и склонять к действию, ему потребному?..
Подумать, и то жутко становится…
Василий же Романович продолжал:
– Ныне в сибирскую сторону многие бегут, кто веры своей не извратил поганым искусом бесовским. И подумал я: знать, там и есть наша земля обетованная, прозываемая Беловодье. Соберемся там, стечемся, как речки в море, а затем и выйдем, явив святой Руси веру истинную. К сему и призывала во сне Матушка-Богородица – род спасти через дочь мою, Варвару. А что вы, слуги царя-антихриста, сватать ее приехали, тоже промысел Божеский. Господь вашими руками водит и благолепные дела свои творит. Вам же сие невдомек, вам же чудится, умом горделивым тщитесь вы тайные свои замыслы воплотить.
После такой его речи граф призадумался, вспомнив опасения Петра Алексеевича: а что, если в глухих и далеких сибирских землицах и впрямь заговор готовится, престолу угрожающий? Недовольные реформами государя именитые князья и бояре, гонимые раскольники-староверы, давно уже перетекают из городов не только на Кержач-реку, в Бессарабию и Донские степи, но и за Уральский камень, и где там оседают, в каких потаенных скитах – никому не известно…
Несведущий же Ивашка выслушал Тюфякина, но не внял и заспешил на невесту взглянуть:
– Показывай товар-то красный, Василий Романович!
Тот снова удалился, и вскоре входит в палаты княгиня – старуха с волосатыми бородавками – и выводит Варвару. Капитан как увидел ее, так подскочил и сесть не может: у девы лик, словно на иконах богородичных, в очах, как и подобает невесте, поволока печали, но сквозь нее светятся любопытство и затаенная радость – должно быть, родитель и впрямь в запертой клетке держал сию жар-птицу и людям не показывал, голоса ее слушать не давал.
У Ивашки горло перехватило: вот куда следовало сватов засылать! А он сам сватом пришел, радеть за некоего князька югагирского!
Брюс уставился на Головина, ждет от него слова, а капитан красный стоит, и сивый парик на голове отчего-то шевелится. И мысль у него шальная, предательская на уме вертится – забраковать сей товар и в Москве оставить!..
– Говори, Иван Арсентьевич, – подвиг его граф. – Какова на твой глаз?
Только тут Ивашка спохватился, что условие есть, слово дадено, и все-таки вывернуться вздумал.
– Тебе-то как, Яков Вилимович?
– Что тут сказать? Добра невеста, давно красы такой не зрел. И характером, вижу, покорная родительской воле. Истинно агнец Божий!
Надо покрывало набрасывать и невестой объявлять, а у Ивашки рука не поднимается.
– Не подойдет она чувонскому князю, – сказал он, лихорадочно придумывая отговорку.
– Отчего же?! – чуть ли не в голос воскликнули Брюс и Василий Романович.
А на лице бородавчатой старухи, родительницы невесты, вызрели недоумение и угроза – де-мол, только попробуйте охаить дочку!
И все уставились на капитана.
Только Варвара очи потупила и ждет решения судьбы своей…
– Наш жених Оскол жизнь ведет суровую и грубую, – вымолвил Головин. – Поелику обитает в студеных краях, в лесах и горах. Спит на шкурах, ест пищу, на костре приготовленную. Сами чувонцы – ясачные люди, и округ них живут ясачные дикие народы. А дочь твоя, князь, нежна, прекрасна, взлелеяна в сих палатах московских, любовью и заботой окружена. Подумай, князь Василий, каково будет ей на реке Индигирке.
– Я с Варварушкой служанку пошлю! – нашелся Тюфякин. – Самую добрую и верную. Пелагея она именем.
– И то правда! – спохватилась родительница. – Куда же мы дочь родную отдаем, Василий Романович? На какие муки?!
Сватовство явно расстраивалось, причем по вине капитана, и возмущенный граф был готов наброситься на него, но тут князь оборвал причет своей жены:
– Во всем промысел Божий. И не смей перечить! В горах и лесах и есть рай земной, именуемый Беловодье!
Бородавчатая княгиня зажала уста рукою, но в глазах еще тлело недовольство. Тут бы Варварушке в слезы, в рев, и хотя бы по обычаю умолять родителей, мол, не хочу в чужую сторону да за неведомого жениха, дескать, куда же вы меня, горемычную, отправляете, или вовсе не любите, коли из дому родного гоните? И так далее, как обыкновенно все девицы делали, когда их сватали.
А она потупилась и молчит – должно, и вправду блаженная, кроткая и воле родителей покорная.
Либо вовсе немая…
– Надобно саму невесту спросить, – заявил Головин, выдавая свою последнюю надежду. – Согласна ли она пойти за сего Оскола Распуту, князька варварского племени. По нашему обычаю, да и по чувонскому тож, спрашивать полагается.
Сказал так и узрел ненависть в глазах генерал-фельдцейхмейстера, и такую, что прежнюю можно было бы и не заметить. Однако же капитан взглянул на Варвару и спросил:
– Ответствуй нам, девица красная, согласна ли пойти за Оскола?
– Ужели сей князь и впрямь спит на шкурах? – Голос у нее оказался низким, певучим и весьма приятным, слух чарующим. – И вкушает пищу с огня?
– А еще он ездит на оленях верхом, – добавил сомнений Ивашка. – И одевается в шкуры, поелику югагиры не знают тканей. Из посуды у них лишь медные котлы и ложки деревянные. Но чаще они с ножа едят сырое мясо, ибо нрава дикого…
– Как занятно, – вымолвила Варвара, скрывая восхищение. – Вкушать с ножа, должно быть, любопытно…
И этого было довольно, чтоб сердце капитана оборвалось: в сей кроткой девице таились озорство и страсть к приключениям.
– Так согласна или нет? – терял терпение Василий Романович.
– Батюшка, ты столько твердил о Беловодье, что мне с ранних лет туда хочется! – почти счастливо проговорила она. – И я с радостью великой повинуюсь воле твоей и промыслу Божьему.
Князь в тот же час ей икону на целование поднес. Делать тут уж было нечего, Ивашка вынул из-за пазухи индийское полотно.
– Тогда по чувонскому обычаю, – сказал он, отвернувшись, – покрою ее сим покровом. Чтоб более никто не зрел ее образа…
Развернул шуршащую белую ткань, слежавшуюся за долгие годы, и набросил на голову чужой невесты.
Брюс при этом так откровенно и облегченно вздохнул, что все к нему оборотились.
– Дело сделано! – заключил он. – Неси, Иван Арсентьевич, дары жениха!
Поручкались они с Тюфякиным, Ивашка в карету сходил и принес кипу[2] с чернобурками, взятыми из казны, да вручил князю с подобающими словами, но в сторону глядя, словно воровское дело творил.
Василий Романович хоть и был вида монашеского да о вере все толковал, мягкую рухлядь, однако же, принял с интересом, тут же тугую кипу развязал и словно нечто живое на волю выпустил: сжатый мех распрямился, зашевелился, вспух серебристой чернью. А князь стал шкурки осматривать, трясти их да в руках мять – искры по палатам брызнули! Сразу видно, в руках у него бывали уже лисицы да прочие меха и цену им он знает.
– Добро. И я в долгу не останусь. Под приданое подводу готовьте.
– Надобно тебе прошение императрице написать, – уже для порядка посоветовал Брюс. – Чтоб все по правилу было.
Василий Романович напыжился и сделался горделивым и независимым – играла еще в московских боярах вольная кровь!
– Мы сию бабу гулящую не жалуем! И всякое дело творим по своему хотенью да Господнему повелению!
Брюс только того и ждал: за выдачу замуж княжны без высочайшего соизволения ответ держал родитель, а не сваты. Назначили они день, когда невесте готовой в дорогу быть, и поехали на постоялый двор.
– Не знаю, что и думать, Иван Арсентьевич, – говорит граф. – По охоте ли своей или по недоразумению, но ты чуть только сватовство не расстроил. Почто ты про согласие спросил?
– По обычаю полагается, – хмуро проронил капитан.
– А почто про дикие нравы сказал? На шкурах спит, сырое мясо ест…
– Так ведь оно у чувонцев и заведено. Мясо и рыбу сырыми строгают да едят. Зачем же девицу обманывать?
– Откуда ты знаешь?
– Мой прадед, Петр Петрович, был ленским воеводой, так много чего порассказывал…
Брюс несколько успокоился и подобрел, но спросил испытующе:
– На самом-то деле как невеста тебе? Хороша?
Ивашка отвернулся.
– По варвару и Варвара…
Графа это взвеселило, а то раньше капитан думал, он и смеяться не умеет.
– По варвару – Варвара?.. Сие каламбур называется! По варвару Варвара!.. И скоро высватали! Думал, за неделю не управимся, князь станет всякие условия ставить да расспрашивать. А ему сон приснился!..
Капитан же молчал и пуще хмурился.
На постоялом дворе Брюс, не выказывая себя, снял скромный особнячок, чтоб любопытствующих было поменее, велел на стол подать, чтоб сделанное дело отпраздновать. Но Ивашка есть не стал, лишь крепкого вина выпил, шпагу отстегнул, парик сбросил, накинул на плечи дорожный тулупчик и отлучился на конюшню, мол, распоряжение дать, чтоб на зерно лошадям не скупились. Там же поглядел на коней, с конюхами поговорил и чувствует: не хочется назад возвращаться. Как-то само собой покинул двор и побрел по Москве, куда глаза глядят. Идет, кутается в тулупчик – по ночам морозы еще крепкие, – а у самого мысли невеселые.
Бывший стольный град купеческим стал, кругом торгуют, кормят и поят в кабаках, трактирах и харчевнях. И еще здесь, как и в Петербурге, таверны появились – заведения новые, да с обычаями старыми: везде щи да пироги подают и запивают пивом, бражкой и вином. И если со стороны-то взглянуть, то в Москве будто праздник великий, а не строгий пасхальный пост, везде пьют, песни горланят, а то и стенка на стенку ходят по хмельному делу.
Не хотел капитан пускаться в загул, но стоит перед глазами Варвара и не сморгнуть сего видения. И тогда попробовал смыть его: в харчевне чаркой горилки малоросской, в кабаке хмельным медом, а в таверне – ромом гешпанским. Сей ром вроде бы пригасил навязчивый зрак, почти уж растворился образ девы в табачном дыму, тут еще гулящая девка взглядом одарила, потом и вовсе подсела под бочок и говорит:
– Поедем со мной, молодец?
Он девку сгреб в охапку, вынес на улицу, но тут хватил свежего московского воздуху, слегка вроде бы протрезвел, отпустил гулящую, дал ей полтину и пошел к себе на постоялый. А час поздний, пустынно кругом, и только стража в колотушки стучит, собаки лают, да изредка пролетают мимо извозчичьи крытые саночки. Одиноко ему стало, и мысли потекли вовсе горькие, как морская вода. Впервые, считай, встретил девицу, которая сразу же за сердце его схватила, затмила всех иных, на коих виды были, но кои сердца не касались; тут же и разум словно горячим туманом обволокло.
И надо же такому случиться: сам ее высватал за какого-то варвара ясачного, да еще своими руками покров набросил! А ведь противился, как мог, уворачивался и Варвару пытался разубедить, но ее словно какая-то неведомая сила толкала на согласие!
Должно, этот Тренка заколдовал, зачаровал девицу, мороку на нее напустил, коль стала ей жизнь дикого жениха прелестна и любопытна. Теперь хоть слезы из глаз – назад ничего не возвернешь, но вместо плача Ивашка было песню запел, да не поется. Шел, шел понурым, и вдруг поднимает голову, а перед ним хоромы Тюфякиных! Как здесь очутился, и не помнит, должно, ноги сами привели. Ограда высокая, ворота тесовые глухие, крепкие, во дворе стражник в колотушку наяривает, и слышно, пес цепью побрякивает.
И тут овладела капитаном шальная мысль: выкрасть Варвару, умчать ее в Петербург, а там будь что будет. Охваченный этим безрассудным озорством и влекомый им, он тяжелый тулупчик сбросил, сам вдоль забора по глубокому снегу пошел. У Тюфякина усадьба большая; вторые, хозяйственные, ворота на другую сторону выходят и не охраняются, по крайней мере, тихо за ними. Ивашка сиганул через изгородь и оказался возле конюшни: в растворенном каретном сарае боярские кованые санки стоят с поднятыми оглоблями, сбруя тут же висит, и лошади – вот они, за стенкой, сено жуют, а конюхи наверняка спят в тепляке.
Заложить коня – минутное дело, а ворота изнутри всего лишь на засове…
Прячась за сугробами, подобрался он к хоромам, огляделся – за каким окошком прячут деву-красу, никак не угадать. Глядит, а с тыльной части дома завозня[3] в подклет, и хоть ворота дубовые, окованные, но под ними широкий порог – закладная доска, которую вынимают, когда въезжают на лошади с повозкой. Ивашка расшатал порог, сдвинул в сторону и вкатился под воротами. За ними же мрак хоть глаз коли. На ощупь побродил по крытому двору, нашел лестницу и, поднявшись по ней, обнаружил дверь. И только отворил ее, как в лицо толкнуло теплом и знакомыми запахами тюфякинского дома – воском и ладаном. Свечи давно уж погашены, и лишь голубые лампадки тлеют возле икон.
Капитан двинулся сначала в одну сторону, но оказался в передней палате с резными колоннами, где вчера днем принимал их князь. Свету от лампад здесь было поболее, однако путь был только на улицу – дубовая дверь, через которую вводили невесту, оказалась запертой…
Вернулся он в переход, пошел в другую сторону, уткнулся в широкую лестницу, и екнуло сердце: обыкновенно в таких домах девичьи покои были на втором этаже. Ивашка поднялся наверх, миновал пустые покои и неожиданно услышал шепот – тихий, девичий и манящий: кто-то молился за двустворчатой дверью с венецианским цветным стеклом, сквозь которое проливался и играл радугой искристый свет. Он прокрался в лоно этого свечения, прислушался и в тот же миг узнал низкий, певучий голос Варвары…
Дверь осторожно приоткрыл, бочком проник за нее и узрел невесту перед образами: высватанная за неведомого югагирского князька, она била поклоны, словно наказание принимала – старательно, широко и от души накладывала двоеперстием крест, опускалась на колени и истово стукалась челом об пол. А округлое ее тело под холстяной рубахой при этом двигалось с манящим изяществом, вызывая трепет свечей, стоящих по обе стороны, и жар сердечный.
Тут капитан на миг замешкался. Коли схватить да поволочь, испугается, завизжит, поднимет шум, а из чужих хором скоро-то не выберешься. Знать, надо сразу условиться, либо попросту уста ей зажать, понести и уже на ходу сговорить, придумать что, дабы молвы не подняла.
Она же, увлеченная, шепчет страстно молитвы, и слышно – дорожные, да кладет земные поклоны. Ивашка подкрался сзади, сгреб, так что ойкнуть не успела, и ровно дитя малое, уткнул лицом себе в грудь и бегом назад. А сам шепчет:
– Варвара, не сердись и молчи! Это обычай такой, непременно след выкрасть невесту! Не поднимай шума, не то проснутся холопы или батюшка твой…
Варвара рвется из рук, и на ощупь отчего-то жилистой, костлявой оказалась, да столько прыти и верткости, что капитан едва только и держит. По лестнице снес, да впопыхах свернул не туда и очутился в передних палатах. Развернулся, бросился назад, а навстречу истопник с охапкой дров. Сшиб его с ног, поленья загрохотали по полу, Ивашка лишь на мгновение руки ослабил, и тут невеста голову вывернула да как заблажит:
– Ратуйте! Ратуйте!
Голос у нее вроде знакомый, однако от страху аж звенит.
– Не кричи, Варвара, – зашептал Ивашка. – Лучше послушай меня. Расскажу, куда тебя просватали и за кого…
И здесь узрел, что в руках его вовсе и не княжна, а старая княгиня с лицом, перекошенным от испуга, – только черные бородавки запомнились да щербатый рот…
Наваждение!
А еще истопник опамятовался и заорал:
– Воры! Разбойники!.. Ах ты, тать ночной! Ты куда госпожу понес?!
И с поленом на Ивашку. Тот ношу свою выпустил, но княгиня не побежала – руки раскинула и мечется перед ним.
– Держите! Грабят!..
Капитан от полена увернулся, поднырнул ей под мышку да бегом. В азарте мимо нужной двери проскочил, попал в некий совсем темный тупик – куда ни метнется, везде стены бревенчатые, а уже шум по дому, свет мелькает. Он было назад, но путь отрезала стража с лампою, и при ее свете блеснуло что-то. И видит Ивашка, чуть ли не в лицо ему летит старая, широкая алебарда. Едва увернувшись, он перехватил древко, сбил с ног стражника – и к окну. В два взмаха разнес переплет алебардой и прыгнул вниз – в спину осколки стекла еще сыпались.
Сугроб внизу оказался льдистым и жестким, как наждак, лизнул чело, да некогда ссадины считать – от конюшни бегут с ружьями. Он напрямки по снегу и к забору, и только заскочил на островерхий гребень, как выстрел громыхнул и тяжелая мушкетная пуля вышибла под ним доску.
Капитан прыгнул, а сзади уже кричат:
– Держи! За изгородь сиганул!
Покуда он бежал по убродному снегу к улице, глядь – наперерез стражник верховой летит, кнутом щелкает, за ним пешие с ружьями. На белом же поле, хоть и ночь, все хорошо видать, не спрячешься. Головин встал, осмотрелся, выбирая, в какую сторону отступать: на дорогу наезженную пробиваться по снегу – если не перехватят, то быстро нагонят; через пустырь в сторону речки – сквозь сугробы не пробиться, увязнешь с головою.
Всадник же тем часом заметил капитана и пустился к нему напрямую. Конь тяжело идет, скачками – снегу чуть ли не под брюхо, седок ругается, бьет его по бокам, сам в азарте, голос озорной. Должно, награда ждет, коль татя споймает!..
Ивашка треуголку на руку надел, чтоб ладонь не рассекло, и ждет. Верховой подскакал и с ходу думал ожечь разбойника, да навалиться сверху, но, видно, не хаживал на абордаж, а рукопашную знал лишь по играм на масленицу. Капитан кнут перехватил да на себя рванул – седока словно ветром сдуло. Конь же порскнул в сторону и встал, запаленный от скачки по снегу.
Пока стражник барахтался в сугробе, Головин вскочил в седло и погнал назад, к усадьбе Тюфякина, а там выехал к хозяйственным воротам, встал на наезженную дорогу и теперь уж не спеша поехал, рысью.
Вслед ему еще один выстрел ударил, но пуля на излете уж и копыт конских не достала…







