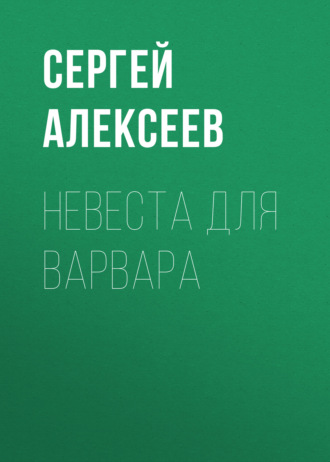
Сергей Алексеев
Невеста для варвара
– А отчего ваш князь Оскол за невестой в Россию послал? – осторожно спросил Брюс. – На свете много именитых родов и у иных народов.
– По обычаю и року, – вновь туманно ответил Тренка. – Сары хоть и стали в безвременье жить, да ведь царям-то время потребно. Вот мы добываем его и носим, когда оно расточается. Взамен же невест берем на Руси. И прежние цари нам не отказывали. В последний раз царь Иван не поскупился и своей племянницей пожертвовал, поелику в дар получил лисиц чернобурых пять сороков.
Яков Вилимович послушал сию чудную речь чувонца и подумал в тот момент, де-мол, не зря государь подозревал неладное в посольстве югагиров. И хотя прямой опасности престолу нет, однако же скрытая имеется, и таится она, должно быть, в родословной индигирского варвара…
Подумал так, но спросил об ином:
– Как же вы узнаете, что и кому предназначено судьбой?
– По вещей книге читаем…
– Что за книга такая?
– По-нашему Колодар называется, – просто сказал Тренка. – А по-вашему – календарь, который царь требовал добыть, не ведая того, что не понадобится ему более сия книга. Он ныне иную читает…
– Ну что же, добро. Твои предсказания сбылись, на престоле императрица, – подытожил Брюс. – А стало быть, не только ваше, но и наше племя сподвижников Петра ждет забвение. Не знаю теперь, как и помочь тебе, поелику с кончиной государя и полномочия мои окончиться могут в любой час. Невесту сыскать-то сыщем, нелегко будет получить дозволение государыни на сие деяние. Старые княжеские роды, даже и опальные, у ее величества на счету и под зорким оком. Сам с челобитной явишься к императрице, а тебя снова в железа да в темницу.
И почудилось тут, слепой югагир прозрел, ибо глянул бельмами своими пронзительно и в глаза Брюсу.
– Зрю, куда ты клонишь… Прежде давали нам невест без всяческих условий. А мы не мзду – дары подносили, по пять сороков чернобурок царю да по сороку родителям невесты. Ныне же немцев на Русь прибыло довольно, и все стало по вашему обычаю. Ты вот, словно на ярмарке, торг учинил. И взять хочешь поболее, чем дары. Замыслил Колодаром овладеть? А на что тебе, и сам не ведаешь. И царь не знал, на что, требуя у тебя добыть сию книгу. В прежние времена цари и их холопы были мудрее и не желали знать, что с ними станет. Токмо время себе просили. Это вы, немцы, завели иные нравы и, должно быть, от любопытствующего ума тщитесь заполучить себе кручину смертную.
Брюсу вдруг жарко стало. Невзирая на этикет, камзол расстегнул и стащил, словно липкую шкуру. И почуял: настал нужный час.
– Отчего же кручину, да еще смертную? – спросил, борясь с внутренним трепетом.
– Оттого что знания грядущего ввергают человека в печаль великую.
– Мне, мужу ученому, пристало жить умом. Я в ваши чудеса не верю, а посему не знаю тоски. Печаль-кручина и прочие нелепицы – удел придворных дам и бездельников.
– Как же ты станешь читать Колодар, коли не ведаешь письма чувонского?
– Ты и научишь. Покуда едем в Петербург невесту сватать.
– Не выучить мне тебя, немец.
– Я способен к чужим языкам и письму. Менее чем за год овладел японским, когда Денбея ко мне прислали, и ныне иероглифы могу начертать всяческие. Полагаю, ваше письмо не мудрее.
– Наше попроще будет, – согласился югагир. – Да не выучить тебя, оттого что я темный, слепой. А для дела сего зрение вострое потребно.
– Жаль…
– Неужто ты готов познать письмо, дабы прочесть всего одну книгу?
– Во имя сей книги готов на большее.
Тренка оценил решимость, но все еще пытал:
– А ты хотел бы в сей же час узнать, что станется с тобою в скором времени?
– Хочу!
– Коль в чудеса не веришь, зачем же искушаться тем, чего не бывает и быть не может? А не боишься, коль ум за разум зайдет и затмение случится?
– Это как же – ум за разум?
– Подобно солнцу, когда оно за луну заходит. И морок бывает средь бела дня.
– Не боюсь.
– Ты же испытал и убедился: мое слово верно.
– Имел честь… И все одно, желаю.
– Ежели я смерть тебе напророчу? Скажу, ты нового утра не позришь?
Граф взглянул на костлявые кулаки Тренки и расправленные после цепей плечи, однако же не дрогнул.
– Ты сего не скажешь, – вымолвил уверенно. – Покамест я здоров и нахожусь в остроге, под охраной. А ты руки на меня не поднимешь. От чего еще мне смерти ждать?
– А матица рухнет! Как раз под ней сидишь.
Брюс взглянул на потолок.
– Чего же ей рушиться? Все крепко сделано, и трещинки не видать.
– Верно рассудил. – Показалось, югагир усмехнулся. – Знать, и впрямь не боишься грядущего.
– Так говори, что меня ждет?
Тренка опустил слепые глаза к белому, скобленому полу.
– По возвращении в Петербурх царя схоронишь. А вскорости будет тебе отставка и удаление от всех придворных дел. Не то что хула и опала, но за самовольство, проявленное из дерзости и гордыни ума твоего, попадешь в немилость. И жизнь свою окончишь в бесславном уединении, в годах преклонных, забытый прежними друзьями…
– Это мне по нраву! – поспешно, боясь спугнуть удачу, воскликнул граф. – Меня давно уж не прельщают звания и дела государственные. На сей ниве я всего достиг при императоре Петре Алексеевиче, а служить Марте Скавронской не желаю.
– И смел изрядно, – одобрил югагир. – Ну, добро, будет тебе Колодар, коль грядущего не страшишься. Но прежде устроишь смотрины невест для нашего князя. И высватаешь ту, коей заповедано роком стать женою Оскола. Получишь дозволение царицы нынешней, дабы никто не смел сказать, мол, воры мы и княжну насильно умыкнули. Ладьями обеспечишь, дашь верховых и вьючных коней, чтоб приданое доставить, хлебный и прочий припас на дорогу. Да пошлешь со мной на Индигирку-реку своего верного человека. Мы и дадим ему книгу, когда князь невесту возьмет…
Граф о подобном и думать не смел и только подбирал убедительные слова, чтоб уговорить Тренку взять с собою сопровождение. А поэтому не сдержался:
– Сам поеду! Дабы принять из рук в руки!..
– Тебе в Питербурхе быть тем часом, – строго оборвал его югагир. – В хоромине своей схоронись и сиди. Токмо гляди, под матицу не садись…
– Отчего же мне дома сидеть? Я готов к путешествию!
– Ты-то готов, да обратный путь тебе заказан. Обидно же будет умирать с книгою нечитаной?
Брюс вздрогнул, вытянулся в струнку, словно в предсмертной горячке, после чего обвял и спросил обреченно:
– А разве не избегнуть смерти, если ведомо, где она ждет?
– Несмысленный ныне народ, – со вздохом заключил Тренка. – Вроде ученый муж, ума палата, а ровно отрок… Смерть можно обмануть, но рока не избегнуть. Как станешь ворочаться, в устье Оби-реки налетят на тебя верховые оленьи люди и пустят зверовые стрелы.
– Если, зная, что налетят, я броню надену, кольчугу?..
– И правда, спасут сии доспехи. Одна токмо стрела отскочит и, скользнув по латам, легонько уязвит колено. И ты потом скажешь, мол, лучше бы я не надевал защиту и был сражен в один миг.
– В чем же суть? Я не единожды был ранен и шпагою, и пулей…
– В том, немец, что оленьи люди стрелы свои сначала держат в горшке с тухлым мясом, а затем стреляют, – терпеливо объяснил югагир. – Колено загниет, а ты, заместо того чтоб сразу же приморозить ногу и попросить товарищей отсечь ее, станешь надеяться на спасение.
– Я отсеку! Или велю товарищам…
– Верно, и опять смерть проведешь. Но дабы ты набрался сил для дальнейшего пути, тебя внесут в старое зимовье и камелек растопят. Заиндевелые стены оттают и потолок… Отогреешься, и поклонит тебя в сон. И будешь землею похоронен заживо.
– Но отчего землей?!
– А оттого, немец, что так уж устроены сибирские промысловые зимовья. Заместо крыши делают накат из бревен и засыпают глиной, чтоб не мочило дождем и для тепла. На ней потом летом трава растет… От камелька растеплется земля, не выдержит старая гнилая матица и рухнет. Тогда и скажешь: уж лучше быть стрелою убитым…
Граф долго молчал, и белая его рубаха с кружевным жабо почти насквозь пропиталась потом, а из-под плотного парика бежали струйки. Он хватил полчарки казенного крепкого вина, однако не заглушил томящую его жажду.
– Как все у вас устроено чудно, – проговорил сипло, словно уже был сдавлен землей.
– А ты, немец, говоришь, мол, в чудеса не верю, – усмехнулся югагир. – Мол, нет их, а есть лишь то, что зримо оком и умом.
– Я шотландец!
– Все одно – немец. На нашем языке сие означает «немой», «не внемлющий». Если хочешь владеть Колодаром, пошли со мною человека, который вернется назад и принесет книгу. Но такого, чтоб донес.
Граф взопрел от томления.
– То будет не мой человек – государь назначил. Имя ему Ивашка Головин.
– Кто сей муж?
– В звании капитана третьего ранга. И хоть обучался в Амстердаме, но нет к нему моего доверия…
– Отчего же?
– Молод, строптив, боярского происхождения, да худороден. А ныне все худородные стремятся к чести и славе, но не к знаниям.
– Покажешь мне сего боярина, – решил Тренка. – А я уж скажу, годится или нет.
– Давай условимся, – смахивая пот, проговорил Брюс. – Ты календарь пошли с Ивашкой, но не открывай ему, что есть сия книга. И письму чувонскому не учи, дабы прочесть не мог.
Тренка бельмами своими поблуждал и сказал беспрекословно:
– Позрю на него и сам изведаю, способно ли ему будет наше письмо одолеть и лисиц чернобурых ловить. Может, сам не пожелает…
Брюс наконец-то сдернул жаркий парик, обнажил лысеющую голову и в тот же час стал беззащитным, уязвимым…
2
По случаю кончины императора Петра Алексеевича его любимчик, капитан Ивашка Головин, повергся в глубокое уныние, запил горькую, вскорости был отстранен от службы и отправлен в карцер до полного отрезвления и последующего наказания. По дороге же он растолкал конвойных моряков по сугробам и бежал. Спутав по причине долгого пьянства времена года, он сначала помчался на свой фрегат, дабы в тот час же отчалить и уйти куда глаза глядят. Вскарабкался на борт, встал на мостик и начал командовать:
– Отдать швартовы! Багры в берег – отвалить! Поднять паруса! Носовая пушка – товсь! Отвальный залп, холостым зарядом!..
И тут увидел, что матросов на палубе всего двое и они отчего-то в тулупах и с метлами.
– Где команда?! – сурово спросил Ивашка. – Где боцманмат?!
– А все на берегу, герр капитан! – докладывают матросы.
– Почему вы с метлами?
– Снег с палубы метем!
– Откуда снег?
– Дак зима на дворе, Иван Арсентьевич!
Здесь только капитан Головин огляделся и обнаружил, что корабль стоит у причала, вмороженный в Неву. Паруса и оснастка вовсе были сняты и убраны на хранение в трум, а еще два матроса долбили пешнями сахаристый лед возле кормы.
Охолонувшись слегка, оконфуженный капитан спустился на берег и завернул в ближайший кабак, где его знали и могли налить чарку в долг, ибо денег в карманах не обнаружил. Испил немного вина и, когда в голове прояснилось, посчитал утраченные в загуле дни. И оказалось, их миновало уже двадцать, а еще вспомнил дерзкий побег из-под стражи, что было наказуемо разжалованием, и тут вовсе загоревал, ибо заступиться теперь за него было некому. Однако вина более пить не стал, а зашел к товарищу своему, Василию Прончищеву, капитан-лейтенанту, который также на берегу жил в ожидании весны. И хоть встречен был с радостью, Ивашка, однако же, только кофию попил, поглядел на счастливую семейную пару – у Василия жена была красавица, Мария, и стало вовсе дурно от одиночества, так что даже мечтать не захотелось. А мечтали они каждый о своем: Головин постарше был и потому думал выпроситься у Петра Алексеевича в кругосветное плавание, а Василий вкупе с женою своей мыслили пока что пройти полунощными, северными морями аж до Чукотки.
Теперь обоим не о чем стало мечтать…
От Прончищевых Головин побрел к себе на прошпект, где были у него рубленые хоромы, жалованные государем за находчивость и прилежную службу. Хоть и деревянные, но просторные, дворянские, в узорочье под камень, и окна на воду смотрят. Ивашка все жениться собирался и однажды даже сватов засылал к Некрасовым – дочка у них была, Гликерия, которую обыкновенно звали Ликой. Ему больше нравилось ее имя, чем сама избранница, как и многие девицы, привезенные из Москвы, в два года утратившая зубы на болотистых берегах Невы. Поэтому петербургские невесты на балах уст своих манящих не размыкали, и если смеялись, а вернее, подхихикивали, то заслоняли ладошками рты. Ко всему прочему, Гликерия оказалась еще и строптивой, отказала Ивашке и велела передать через сватов, что, тогда еще лейтенант, Головин хоть и образован в Европе, но, окромя жалованья, ничего не имеет, бездомок, обитает в труме на своем фрегате и к тому же любит в кабаках гулять. И все его мысли не о том, как дом свой завести и семью, а совсем вздорные и безалаберные – купить корабль и отправиться в кругосветное путешествие. Но, дескать, ежели исправит свое положение, обзаведется имением или хотя бы квартирою, то тогда она, Лика, подумает.
Ивашка не очень-то и расстроился, однако сей отказ его несколько образумил: и в самом деле эдак-то можно остаться в холостяках, еще раз отвернут сватов, и на весь стольный град дурная слава пойдет гулять. А добрую обрести можно лишь в сражениях, но тут как на грех все войны государь Петр Алексеевич завершил победами и наступил тягостный для лейтенанта мир. Особенно зимою становилось тоскливо, когда фрегат Головина мерз у причала, а иного дела он делать не умел, кроме как ходить под парусами по морю и брать на абордаж шведские корабли.
И здесь выпала удача и возможность отличиться. Однажды государю вздумалось установить на устье Невы свинкса, коего он увидел где-то на картинках египетских, и так загорелся, что ни быть, ни жить. А взять такой большой камень, чтоб высечь его, поблизости негде – только из-за моря везти, со шведского берега, где граниту полно. Вот он и бросил клич: «Кто доставит морем гранитный камень для свинкса, того всячески облагодетельствую».
На что ему был нужен этот свинкс, никто из морских офицеров не спрашивал, да блажь царскую уважать следует. В Европе Ивашку только навигации выучили, а думать он умел по природе своей, поэтому походил по берегу, подумал, посчитал и взошел на свой фрегат.
– Поднять якоря!
Пришел он к шведскому берегу и теперь по нему походил, подумал, посчитал, выбрал подходящую скалу, что у самой воды стояла, созвал прибрежных шведов и нанял их сухостойный лес рубить да к морю возить. А те после поражения смирные были, податливые, валят сосны в два обхвата, тащут их лошадями на берег и молча дивятся: на что русским сухостой, лишь на дрова годный? Неужто в России весь лес вырубили и печи топить стало нечем?
Моряки же тем часом начали вязать плот размером двадцать на сорок сажен, да не в одну деревину, а многоярусный, в двенадцать венцов: лес железными скобами сбивают, гвоздями и для прочности смолеными канатами переплетают. И форму плоту придают корабельную – форштевень, высокий нос, корма, все как полагается. Связали из сухостоя эдакое чудовище первобытное, подчалили кормой к скале и стали в той скале дыры пробивать и порохом заряжать. Тут молчаливые шведы и вовсе затылки зачесали: должно быть, эти варварского вида люди или с ума сошли, или совсем глупые, или же что-то небывалое замыслили, а то и вовсе для них, шведов, опасное и вредное – так в Европе всегда думали о русских, дабы не вдаваться в подробности их нрава. А лейтенант Головин велел с берега всем удалиться и махнул флажком. Побежал дымок по берегу, достал скалы, и тут так громыхнуло, что у любопытных шведов шапки сдуло. Скала же качнулась и медленно завалилась на плот, погрузив его в глубину до самого верхнего венца, так что издалека кажется, будто камень сам на воде плавает. А моряки на него еще и мачты поставили и снасти заготовили. Позрев на это, шведы доложили своему королю Карлу: дескать, моряки царя Петра не только дрова, но и скалы воруют. Король не поленился, приехал лично посмотреть, но Ивашка ему царскую грамоту показал, где было сказано, что лейтенант Головин послан к шведским берегам, дабы взять граниту для свинкса в зачет возложенной по договору контрибуции.
– А на что Петру сфинкс? – изумился Карл.
– Кто его знает? – ответствовал лейтенант. – Может, хочет, чтоб у нас как в Египте было. И не желает больше быть императором, а мыслит назваться фараоном. Цари, они же как малые ребята, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Король так ничего и не понял, однако же махнул рукой.
– Ну, добро, идите теперь домой! – позволил, и поскольку зол еще был на русского императора, то добавил: – Пускай Петр этот камень себе на могилу поставит!
Ивашка дождался попутного ветра, впряг свой фрегат в постромки, закрепленные на носу плота, поднял все паруса и пошел через море. Кто тогда встречь или вкрест проплывал, глаза себе протирали – блазнится ли, или уж в самом деле скала под парусами идет? Плота-то не видать, он весь в воду погрузился.
Приплавил лейтенант камень в устье Невы, причалил плот к берегу, а его весь стольный град встречать вышел. В толпе и Гликерия стоит, пуще всех радуется, руками машет и, забывшись, уста-то свои сахарные отворила. Ивашка как глянул на ее рот старушечий, так его от женитьбы сразу и отвратило. Государь на этот камень взошел, обнял там Ивашку, поцеловал и на радостях всячески облагодетельствовал: своею шпагой одарил, из лейтенантов в капитаны третьего ранга произвел, золотом воздал и хоромы пожаловал на прошпекте. А еще с камня же крикнул Меншикову:
– Алексашка! У тебя дочери который год?
Александр Данилович испугался, руками замахал:
– Мала еще! Мала!
– Как подрастет, за этого капитана отдашь!
Гликерия такое услышала и тотчас из толпы убежала.
Столько Ивашка за войну наград не получал, когда живота своего не жалел! Вот как Петру Алексеевичу свинкса хотелось поставить в Петербурге. Теперь или жди, когда Мария Меншикова подрастет, или не дожидаясь заходи в любой дом, сватайся, но на Головина опять тоска напала и нехотенье. Лика же нравом дерзкая была – не стыдилась того, что когда-то отказала Ивашке, а теперь передумала; она вознамерилась добиться своего и отважилась пойти к немцу, который новую моду завел в Петербурге – золотые зубы вставлять. Прежде он только отважных мужей пользовал, которые адские пытки готовы выдержать, когда живые зубы точат подпилком и сверлят коловоротом, а тут приходит девица и говорит, мол, вставляй, все вытерплю. И ведь вытерпела, слезы не пролила, до чего умела сердце скреплять. Является она на ассамблею, куда и Головин зван был, встречает его и улыбается во весь рот. Он же опять как глянул, так и вовсе потерял охоту к супружеству.
А с камнем гранитным вот какая недолга вышла: оказалось, его легче из-за моря приплавить, чем на берег поднять и там уже свинкса из него вырубить. Народу и лошадей согнали не только из Петербурга, но и со всей округи, опутали скалу, обвязали канатами и давай тянуть. С плота еще кое-как на отмель стащили, а уж когда он припал к земле – так к ней присосался, что ни с места. Сам государь впрягался и тянул – не помогло; сколько веревок и гужей порвали – не считано. Немцы всяческие прожекты предлагали: дождаться зимы и по льду вытащить камень, наморозив ледяную дорогу, или вовсе высечь свинкса там, где лежит скала, и пусть его омывают волны речные. Ну и прочие всякие глупости. Но Петр Алексеевич уже сумрачный стал, какие-то, видно, тайные надежды его рухнули, и скорее всего, надорвался он, пытаясь сволочь камень, простудился в холодной воде и с того начал часто хворать. Потом и вовсе махнул рукой и позволил пилить гранит на плиты, чтоб полы во дворцах настилать, фасады обделывать, ставить всяческие балюстрады, изваяния или вовсе пускать на надгробия богатых, но усопших граждан Петербурга. За один год всего так и не высеченного свинкса искололи, испилили и растащили – немцы едва успевали пилы из Германии возить.
Освобожденный плот же к берегу подчалили, разобрали, изрубили на дрова, и почитай всю зиму топился стольный град шведской кондовой сосной.
И вот после кончины императора Ивашка Головин отбражничал двадцать дней, оплакал былые веселые времена и, бежав из-под конвоя, засел в своих хоромах на прошпекте, чтобы с мыслями собраться и подумать, чем же скрасить далее свою жизнь. Из прислуги у него были лишь старая кухарка да камердинер, исполняющий обязанности истопника, сторожа и стекольщика: кто-то повадился каждую ночь бить стекла в окнах. Посоветоваться даже было не с кем. Ивашка наказал холопам, чтоб говорили, будто его дома нет, поскольку опасался, что вновь пришлют конвой, а сам залег, как медведь в берлогу, и разве что не лапу сосал, а отпивался капустным рассолом с брусникой. Похмельные мысли и так невеселы были, а тут еще ночью услышал он, как возок к дому подъехал и встал. Полагая, что это комендантский конвой, капитан от досады и расстройства шпаги хватился, да вспомнил, что отняли ее при аресте. И тогда взял от печи старую секиру, которую камердинер давно приспособил головни в топке толочь, и сунулся к окошку. В сей миг из повозки вышла женщина – лица не рассмотреть, стекла заиндевелые, да и фонари на облучке тусклые, направилась было к подъезду, но вдруг взмахнула рукой, и капитан едва отскочить успел. Стекло брызнуло в разные стороны, зазвенело, а по полу забрякал увесистый булыжник. Ивашка снова к окну, и на устах уже вызрел пузырь корабельного ругательства, но не лопнул, ибо в следующий миг узрел он сквозь пробитый глазок сверкнувшую золотом улыбку – не было подобной во всем Петербурге!
А Лика села в возок, захлопнула дверцу, и лошади с места взяли в рысь.
Более изумленный, чем возмущенный, капитан долго не мог найти покоя, велел камердинеру до утра заткнуть дыру в окне подушкой, но в комнате все одно выстыло, и он отправился в гостиную. Неугомонная Гликерия вернула его к прошлым мыслям о женитьбе – куда ни кинь, все указывает, что пора обзаводиться семьей, тогда, может, и тоска отойдет. Только вот к кому отправлять сватов? К самому Меншикову – у него дочь подросла, а государь прилюдно обещал отдать ее за Головина? Так ныне Александр Данилович Екатерине одним из первых присягнул, угодил в фавориты и капитана ко дворцу своему на милю не подпустит. И слышно, рвется он к трону через свою Марию, ибо вздумал выдать ее за наследника, малолетнего Петра Алексеевича. К Румянцевым ли направить стопы, или еще раз попытать счастья у Некрасовых? Лика-то неспроста зубы вставила и окна хлещет – должно, есть у нее любовь страстная, а то, что рот у нее сияет, как открытая табакерка, так к этому привыкнуть можно, а потом ночью-то, в постели, не видать. Днем же миловаться с ней будет недосуг – служба да походы морские…
Так размышляя и уговаривая себя, Ивашка уж было решился наутро заслать к Гликерии сватов, однако вспомнил: император Петр Алексеевич-то до сей поры в леднике лежит, не похороненный! Какие уж тут сватовство и свадьба, когда в стольном граде скорбь, по-новому «траур», и сам он еще под арестом и угрозой разжалования?..
Уже под утро, когда немецкие часы отбили четверть пятого, капитан вконец увяз в невеселых топких мыслях и уже кликнул кухарку, чтоб принесла вместо рассолу вина, опять под окнами запели на морозе кованые полозья. Он занавеску отвел, рукавом иней со стекла счистил – вот теперь уж точно конвой пожаловал: на паре приехали, санный возок оленьим мехом крыт и фонари яркие. Тут из него вышел офицер и два нижних чина с саблями спрыгнули с задков, да сразу все на крыльцо.
– Открывай, господин капитан! – застучали в двери. – Мы знаем, ты дома, коли в кабаках нету!
При подобной диспозиции следовало или затаиться, ровно мышь, или оказать возможное сопротивление, но Головин выбрал третье – сдаться, велел впустить конвой, ибо в тот момент не было желания ни прятаться, ни драться. Камердинер снял дверь с запоров, офицер и нижние чины вошли, однако встали у порога, сабель не вынимают из ножен и в караул не становятся.
– Доброго здоровья, Иван Арсентьевич, – сказал офицер и башлык скинул.
Ба! Да это же Данила Лефорт, подручный Брюса, человек хоть и давно знакомый, но поскольку с отрочества воспитан был графом, обучен им всяческим наукам и хитростям и при нем же служил, то дружбу ни с кем не водил и обыкновенно спесив был с Ивашкой и высокомерен. Один раз только и снизошел, когда Головин камень из-за моря приплавил по воде: все расспрашивал, как сие удалось да какими расчетами он пользовался, и самолично гранитную скалу обмерил веревочкой, нарисовал и грузность ее вычислил в пудах и фунтах, дабы потом графу доложить.
– Виноваты, ночью потревожили тебя, – между тем продолжает Данила, а в голосе неслыханное заискивание, – да дело у нас неотложное. Отряжены мы генерал-фельдцейхмейстером Брюсом с нижайшей его просьбой немедля прибыть к нему для разговора важного. Меня Яков Вилимович еще днем послал, да я тебя только к утру сумел отыскать.
Капитан изумился даже более, чем когда увидел улыбку Гликерии за разбитым окном: граф никогда к нему не обращался, тем паче с просьбой нижайшей. Напротив, гордый шотландец всегда держался с ним заносчиво, а когда Головин камень из-за моря приплавил, и вовсе пренебрежительно, ибо, как все иноземцы, преданные русскому государю, Брюс отличался страстной, почти женской ревнивостью и презирал всех, кто приближался к объекту его поклонения. Яков Вилимович не мог забыть отеческих объятий и поцелуя Петра Алексеевича, когда тот с капитаном вместе забрался на гранитную скалу и оттуда взирал на собравшийся народ. В свою очередь Ивашка к графу относился презрительно, дерзко и порою насмешливо, не почитал ни его чинов, ни званий и заслуг, отчего Брюса кривило, да поделать с императорским любимчиком сей вельможа ничего не мог.
– А скажи-ка, Данила, чем обязан я столь редким вниманием графа? – сдержанно спросил Ивашка, не давая лопнуть пузырю возмущения.
– По велению покойного государя императора, тебе, Иван Арсентьевич, надлежит исполнить некое поручение государственной важности, – доложил тот. – Можно сказать, это его последний наказ тебе, ибо Петр Алексеевич вскоре после того преставился.
– А при чем здесь генерал-фельдцейхмейстер? – Похмельная голова капитана еще не образумилась в полную силу, мысли плавали и шуршали, ровно шуга[1] на реке, однако упоминание о воле государя взбодрило его.
– При том, господин капитан, что император передал веление свое посредством Якова Вилимовича. А подробности мне не известны, ибо дело тайное. Ты уж не губи меня, Иван Арсентьевич, граф и так во гневе, что скоро не сыскал. Поезжай к нему, а он уж сам тебе скажет.
И тут еще капитан вспомнил, отчего ударился в запой – из-за Меншикова, который привел Екатерину на престол, того же генерал-фельдцейхмейстера Брюса и прочих им подобных! Можно сказать, предали они государя: когда тот в леднике лежал непохороненным, все его сподвижники тем часом кинулись присягать императрице. Должно быть, граф с Меншиковым давно сговорились, кто сядет на трон, ведь Брюс ранее чести удостоился великой – корону нес во время коронации Екатерины!
Как тут горькую не запить?
– Знал бы Петр Алексеевич, каковым граф оказался, – тяжко вздохнул Головин. – Стыд и срам… Не поеду к Брюсу!
– Помилуй, Иван Арсентьевич! – взмолился Лефорт, догадавшись, куда клонит Головин. – Генерал-фельдцейхмейстер в сем позоре не участвовал. Он тем временем в Двинском остроге находился. И недавно лишь вернулся.
– Все одно ехать не желаю!
– Граф без тебя не велел на глаза являться! Придется силой тебя взять и свезти.
– Попробуй!
Капитан огляделся в поисках шпаги и, вспомнив, где сейчас его личное оружие – дар императора, – несколько увял.
– Не вынуждай нас брать тебя помимо воли, – снова принялся умолять Данила. – Не станем ссориться, Иван Арсентьевич! Добром тебя прошу!
И тогда Ивашка схитрить вздумал.
– Поехал бы, – говорит, – да без шпаги никак не могу, по достоинству не положено.
– Где же твоя шпага? – спрашивает Данила.
– Должно, у коменданта. Привезете, так поеду.
– В сей час привезем!
Сели в возок и с места в галоп – умчались. И полчаса не проходит, как являются со шпагой и отпиской коменданта, что арест снят без всяческих последствий. И сие обстоятельство было уху капитана убедительнее слов Лефорта: коли он добился этого, знать дело у Брюса и впрямь важное.
Привезли Головина во дворец графа, а тот, несмотря на час ранний, сам у порога встречает, и видно, за ночь глаз не сомкнул. И речь заводит душевную либо весьма прехитрую – его же сразу не поймешь:
– Осиротели мы с тобой, Иван Арсентьевич, без благодетеля нашего и отца, государя Петра Алексеевича. И лежит он в леднике, доныне не преданный земле, поелику сподвижники его ворами оказались. Теперь наследство делят да возле Скавронской Марты увиваются, клянясь в преданности. И я в сей грязи замарался, корону ее нес…
Капитан слушает гордого ученого шотландца и ушам не верит своим – что же такое могло случиться, ежели граф так резко поменял диспозицию? Неужто его, мудрого книгочея и философа, витающего в звездных небесах астролога, эдак потрясло явление земное – кончина хоть и императора, но человека смертного? И от того ревность и ненависть к Головину так нежданно перевоплотились в любовь, да еще и с покаянием? Или уж похмелье выходит из мутной головы Ивашки, а посему и мир встает перед взором и слухом, ровно перевернутый?
– Твой посланец Данила Лефорт сказывал, у тебя дело есть, – набравшись дерзости, перебил его капитан, – порученное мне самим Петром Алексеичем. Так говори, не стесняйся.
– Ступай за мной, – скомандовал генерал-фельдцейхмейстер.
Приводит его в покои, а там на хозяйской кровати спит бородатый, долгогривый детина. Брюс зашептал:
– Видишь сего человека? Это тайный затворник Двинского острога, с Индигирки-реки, именем Тренка. А про себя говорит, будто он из племени Юга-Гир, что значит «огненная гора», с коей некогда спустился великий и могучий народ. Будто прежде населяли они пространство по обе стороны от Уральского камня во всех землях полунощных. А стольный град их стоял на месте, где ныне город Великий Устюг, на реке Юг. Пришел сей Тренка в Петербург семь лет тому, но был отправлен подальше и заточен в означенную крепостицу. Привез я его намедни, дабы исполнить завещание государя императора.
– И что же завещал Петр Алексеевич?
– Высватать невесту именитого рода и сопроводить на Индигирку-реку. Там выдать замуж за их князя, именем Оскол Распута.
Капитан головой потряс, полагая, что все увиденное и услышанное – не что иное, как чертовщина, блажные картинки из тех, что, по рассказам, мерещатся с перепоя. К тому же граф говорил гнусавым полушепотом, зачем-то щурил один глаз и в полумраке походил на совращающего беса. Но сколько ни тряс – ни спящий затворник, ни граф не исчезли. Мало того, Яков Вилимович вывел его из покоев, притворил дверь и тут уже заговорил громче:







