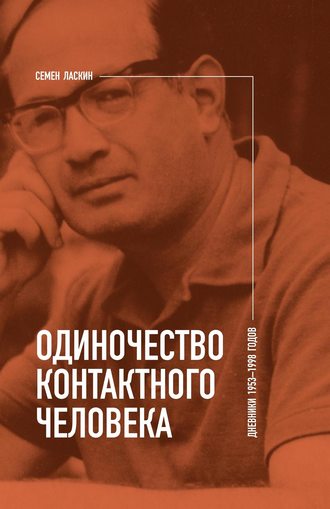
Семен Ласкин
Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов
Гор интересно говорил о Гоголе – «Вот от кого начался Кафка. Это и есть сюрреалистическое начало. Особенно „Нос“».
…Нужно больше читать. Больше. Иначе не поумнеешь.
Марксизм дал четкую экономическую концепцию, но не дал этической.
28.8.67. С Гором просидел сегодня день. Говорили о литературе. Он тянется к литературе формальной, абсурда, как он говорит, – это Катаев[194] теперь, Олеша тогда. Он и сам, кажется, был писателем интересным. Нужно прочесть.
Из молодых поддерживает Ефимова[195] и Битова. Говорит об интуитивном начале: «Пусть будет так, как напишется».
5.1.68. Геннадий Гор. «Знание и художник» (рукопись).
В ХХ веке изменился характер знания. В прошлом веке истину можно было проверить (теория Дарвина, закон Ньютона). В нашем веке научная истина потеряла наглядный характер. Ее может проверить лишь узкий специалист… Но другая, философская часть истины – достояние общества.
Что изменилось от этого в мире? Психология, видение мира. Человек чувствует себя частью особо сложного мира.
Некоторые считают, что между истиной и человеком происходит отчуждение.
В современном мире истина выходит за пределы нашего личного опыта. Человек знает не только то, что случилось дома, но и на расстоянии миллионов световых лет. Эти истины встречаются и, возможно, дают «взрыв». А может, и не встречаются вместе, есть между ними стена.
Взглянем на литературу как на наиболее чуткий аппарат воспроизведения и отражения душевной жизни человека. Оказывается, задолго до нынешних открытий литература стала отражать литературный взрыв – смятение человека, его удивление перед парадоксальным характером истины и действительности.
«Нос» Гоголя, его загадка не разгадана до конца и сейчас. Художественные средства Гоголя много впереди своего времени. Юмор своеобразный, трагический. Коллежский асессор Ковалев в сложном, почти парадоксальном мире Петербурга, теряет контакт не только с окружающими, но и с самим собой. Человеческое «я» Ковалева раздвоилось. Произошло то, что называется «вычитанием». Из коллежского асессора, такого, каким он себя знал на Кавказе, действительность «вычла» того Ковалева, которым он стал в Петербурге, и остатка не получилось.
Гоголь искал новые методы художественного познания для отражения и постижения мира… Отражал новые отношения человека и действительности. Вернадский говорит: главный постулат науки – аксиома реальности мира. Но далеко не все художники принимают реальность за аксиому…
Наивным людям кажется, что гротескный юмор разрушает реальность. Нет. Это у Гоголя способ проникновения в сложность взаимоотношений «элементарного человека» с усложненной действительностью столицы. «Элементарный человек» «Носа» – это бездуховный человек. Трагедия духовной элементарности – вот этическая и философская сущность «Петербургских повестей».
Достоевский, близкий Гоголю, отрицал духовную элементарность в человеке. По Д., человек – это духовная бесконечность… Только раз Д. пытался изобразить конечного и элементарного человека – Смердякова, но и то он элементарным не получился…
Если бы марсианин прочел Достоевского и Гоголя, то он бы думал, что их разделяют не два десятилетия, а два века. Человек Г. предельно элементарен, человек Д. – сложен. Но оба преследовали одну цель – отрицание элементарного человека.
Одна из самых больших трудностей, с которой встречается писатель, – это точное воспроизведение времени своего героя. Иногда жизнь человека приходится сжимать до рассказа. Показать жизнь гения – значит показать, как он тратил время. ЖЗЛ для читателя – это учебник жизни.
Чех Земан («Познание и информация»)[196] говорит, что количество информации влияет на течение времени. Чем больше информации, тем меньше времени.
8.1.68. Дружу с Гором, но, кажется, разозлил его. Как-то взял менторский тон. Это вроде бы его обидело. Нужно исправлять.
31.1.68. Вчера в Книжной лавке Гор познакомил меня с болтливеньким, маленьким старичком. Худой, костлявый, немодный.
– Это Леонид Ильич (?) Борисов[197], – сказал Гор. – А это Ласкин С. Б. – писатель и врач-сердечник.
– Вы тот сердечник, который приедет, когда я буду умирать? – спросил Борисов.
Я вздрогнул. И подумал – завтра дежурство. А вдруг – правда?
Потом Борисов все время мелькал по лавке и говорил афоризмами.
– Статья обо мне. Хвалят. И кто, вы думаете? Друзин[198]. А он когда-то мою книжку «Волшебник из Гель-Гью» назвал антисоветской[199]. Как не посадили? А теперь хвалит – очищается.
21.7.68. На днях был у Гора. Милый старик, несколько боязливый. Говорили о Зощенко. Он считает, что это самый крупный писатель. Бабель принял революцию и утверждал элементарность нового типа, а Зощенко все это отрицал начисто.
Он сказал:
– Сталин знал, кого ему взять в жертву. Умный был все же…
29.7.68. Никаких новостей, кроме инфаркта у Гора. Добрый, мудрый и до наивности неприспособленный к жизни человек. Вся его дача оккупирована бабками и детьми. Они и втянули его в жуткую историю с Рябушкиным[200], директором Дома творчества писателей, родственником жены, заставили хлопотать, убедили в его честности. Гор приходил к Гранину[201], Ходзе[202] – и только плакал.
21.9.68. Читаю мало. Книга Гора о Панкове. Умная, тонкая. Что такое примитивист? Как-то очень доказательно передает с помощью записей характер и первобытность Панкова. Фольклор – будто бы просто, но требует углубленного понимания. Нелегко понять вещь, где личность создателя соединена с мышлением и видением предшествующих поколений. Не подозревая об этом, Панков так передает чувство прекрасного, как это было бы понятно его дедам…
…Леонид Борисов – сухонький, маленький (хотя, возможно, такой как я), седой, вихрастый старичок, пожевывая губами как-то странно:
– М-да, м-да, молодой человек, м-да…
Вбежал к Гору, который надписывал мне книгу. Обнял, поцеловал.
– Нет, это не поцелуй Иуды, – сказал он. Потом увидел, что Гор подписывает книгу по диагонали, с угла, крикнул:
– А мне по горизонтали! По горизонтали! Так пишут только: «Отказать».
На следующий день в книжной лавке:
– Ничего здесь хорошего, молодой человек. Идите-ка к Елисееву – там коньяк 5 звездочек, 5,20. Вот это штука!
…Гор – удивительно добрый. Перескакивает часто на свое. Внутренне углубленный. Жалуется:
– Вот письма тут надписывал, посылал книгу. Очень устал. А читаю философию – отдыхаю.
На стенах – картины Панкова, Тышлера, Зеленина, Целкова (совр. художники).
22.9.68. Сегодня говорил с Гором. Он сказал:
– У меня был приступ. Расстроился. Умер Достоевский, внук Ф. М.[203] Прекрасный человек. Он всю жизнь посвятил деду. Пытался создать его музей – и создал. Надо же, защищать писателя, который после Шекспира – самый великий!
3.10.68. Прочел некоторые рассказы Гора – «Большие пихтовые леса». Рассказ «Маня» – великий рассказ. Вот уж неожиданность – Гоголь, Кафка, хотя Кафки он не знал. Рассказ пролежал 30 лет и вышел наконец. Я вчера его поздравил. Старая проза его удивительно чистая, прозрачная даже…
Вчера он сказал: «Живопись – вот что может воспитать вкус у детей». Его любовь к примитивному связана с детством. Отец – революционер – был выслан в Сибирь. Мать из сибирских евреев. Жена – крестьянка. Впитал какое-то деревенское целомудрие. «Бабник» – самое серьезное для него ругательство.
Интересно сказал о Симонове:
– Талантливый журналист, масштабный, но никакой личности за его словами не стоит. И добросовестный – все изучит перед тем как писать. Герман же писал левой ногой, но все же в его вещах видна личность.
Битова считает лучшим писателем из молодых.
Сказал: «Странно, что у нас самым острым писателям-деревенщикам проще, чем Битову с его асоциальной (почти) прозой».
Сказал: «Писателю нужно писать, а не выступать. Даже Бабель и Зощенко были ортодоксальными в выступлениях, но что писали!»
«Сейчас время массового человека. Личностей почти нет».
О Камю, о его вещи «Посторонний» (только что вышла в «ИЛ» № 9):
– Он первым описал безразличие к себе. Прежде описывалось безразличие к другим.
8.4.69. Бываю у Горов. Испытываю к ним чувства почти сыновьи, столько тепла излучают оба эти старика.
Последний раз Гор сказал:
– Удивительная выставка натюрморта. В России натюрморта не было почти столетие. Его стало много в начале ХХ века. В Англии вообще не было натюрморта. Это необъяснимо, непонятно! Философский натюрморт – вот что интересно.
Гор сказал:
– Я пишу роман и хочу его сделать на стиле. На стиле можно все. И то, что можно на стиле, никогда без стиля не пройдет. Катаев – он только на стиле. Стиль усыпляет их. В этом тайна.
8.6.69. Бродил с Гором. Разговаривали.
Он сказал:
– Я понял, в чем гениальность Булгакова. Для него духовный мир более реален, чем собственно реальный. Это удавалось лишь великим («Дон Кихот»). Именно духовность вечна и жизнеспособна.
О Сашкиных стихах о Петрове-Водкине[204].
– Не знаю, кто бы так написал, кроме ребенка. Может быть, Хлебников?
О положении в литературе и о духовном:
– Это самое трудное, что можно писать.
Я:
– Я пишу рассказ с положительным героем, но решаю все через музыку.
– Конечно, музыка особенно духовна. Очень духовна.
9.6.69. Каждый день бываю у Гора. Дружим, много говорим о литературе. Он прочел «Художник и маляр»[205], и я понял, что ему понравилось.
Особенно 2-я часть.
Он говорит:
– Для святой (Маша) нужен особенный стилистический строй. И это сейчас главное. Если сделаете 1-ю часть на уровне 2-й, то это может стать новомирской вещью. Посоветовал прочесть Андре Жида[206]: «Пасторская мелодия». Там святой пастор…
Интересно говорил о Блонском[207] – это не только педагог, но и философ.
Очень высоко ставит Битова, Ефимова чуть ниже.
К Гранину относится с осторожностью. Всегда подчеркивает его ум, но так же постоянно говорит, что не знает – о чем тот думает и что сделает.
16.6.69. Дописал рассказ «Эта чертова музыка». Показал Гору. Он сказал, что очень ему понравилось и он даже не знает истоков. Может, Т. Манн, рассказ «Тристан»? Я не читал…
Читаю «Записки А. П. Ковякина» Леонида Леонова[208] (рекомендация Гора). Очень забавно, даже здорово. Это смердяковская линия, развиваемая Леоновым. И думаю, что она, линия, очень здорово пригодится для повести Валокордины[209]. Хорошие стихи в конце каждой главы. Гор привез мне А. Жида. Пока читаю о Достоевском[210].
Да! Гор сказал, что Маша прямолинейна[211]. Ей нужно чуточку посомневаться в себе. Быть чуть-чуть тоньше.
6.7.69. Гор сказал:
– Был Рытхэу[212]. Спросил, читал ли я Ласкина. И прибавил: «Я в „Юности“ читал его „Боль других“. Знаете, ученическая вещь».
Гор заступился. А ведь худо, что обо мне судят по первой вещи.
Гёте говорил: в меня стреляют, а меня там нет.
А вот в меня стреляют, меня там нет, а все равно попадают. Если бы мне повезло и вышла бы книга рассказов!
…Андрей Личко[213] судит Достоевского и Гоголя как психиатр.
Гор сказал:
– Это неверный взгляд на писателя. Вредный. Это дает право невеждам считать, что такие, как Кафка, Гоголь и пр. – сумасшедшие. И литература их ненормальная. Другое дело, когда Личко пишет об Иване Грозном – тут все так. Политика – иное дело.
Гор хотел пойти со мной к Гранину, но не пошел. Сказал:
– Наталья Акимовна меня не пускает, обижена за свою сестру.
22.7.69. Гор сказал:
– Театр не люблю. Очень все искусственно. Набоков тоже не любил театр.
Очень высоко отзывается о Набокове.
– У него, как у Гоголя, всегда чувствуется русская реальность. У Гофмана этого нет. Гофман неконкретен – поэтому слабее.
18.8.69. Сегодня Гор читал мне свой роман «Изваяние». Куски. Сказал, как только меня увидел, что прочтет несколько небольших кусочков – то, что Наталье Акимовне показалось наиболее интересным.
Один кусок поразителен. Средний художник пишет гениальную картину – как невыносимо состояние гениальности. И Гоголь, преподающий идиоту, – этот сюжет тоже кое-чего стоит.
Гор говорил еще раньше, что мысль о романе пришла к нему через полотна Водкина, где античная красота и современность сплетены в одно. Водкина он считает гениальным, но холодным художником…
Много говорили о рассказе. Гор считает, что рассказ должен быть открытым, быть фрагментом романа – тут и мысль Битова («ВЛ», № 7, 69). Что такой рассказ открывает широкую перспективу, а в романе, становясь главой, эту перспективу теряет.
Хвалил воспоминания Водкина[214], обещал дать.
Сказал, что Репин был дурак, хотя хороший живописец, талантлив несомненно.
Я жаловался, что пошел на компромисс, боюсь очень, что книга не пройдет, – и из‐за этого написал худой рассказ. А как хочется сохраниться!
Он о себе сказал так же.
– Я писать начинал любую вещь интересно, но иногда боялся после какой-нибудь проработки, что это не напечатают, и тогда сбивался. Получалась слабая вещь.
О Битове сказал как о самом одаренном, хотя согласился, что он холодноват, иногда бесстрастен и не широко берет. Я сказал, что он может быть крупнее.
Говорили о Солженицыне. О его провалах художественных. Местами слабо. Это, я подумал, в силу его тенденциозности, захлестывает непримиримость – начинается гротеск.
25.8.69. Сегодня опять несколько часов говорили с Гором. Перебирали молодых, удивлялись ограниченности их возможностей.
Самый талантливый – Битов, но у него перспективы одни, пока сделано мало крупного… О Ефимове тоже был разговор. Ефимов написал новый роман, но какой? О чем – не знаю.
Вот и все. Марамзин[215] вторичен пока.
Читал он Сашкину «Фугу»[216], только что написанную. Удивлялся. И шибко хвалил. «Он (Сашка) более интуитивен, чем вы»…
Гор прочел мне куски из своего романа «Корова»[217]. Это старая его вещь (1930 г.), неопубликованная, великолепная. Он даже ее не перепечатал. А жаль. Для молодого читателя это очень и очень было бы неожиданным и сильным.
Гор сказал, что все творчество Чехова было против людей-функций, против людей реальных, холодных, как сестра Мисюсь. Но они у него и побеждают людей духа – он это понимал и от этого страдал.
21.10.69. Гор читает Гамсуна[218]. Считает его самым красивым писателем. Я стесняюсь его попросить дать книгу.
Нашлась жена Панкова, ненца, художника, о котором Гор пишет как о великом. Она работает в Луге киоскером. Плакала, когда о нем вспоминала. Говорит, дома есть большая картина, но она ее не продаст ни за какие деньги. (Гор ей сказал, что если она будет продавать, то чтобы знала – за это очень много должны заплатить.)
Сказала, что есть и рисунки, но где – не знает.
Он ей сказал:
– Рисунки его еще важнее. Этого нет почти ни у кого.
Сказала:
– Приходят подруги. Кто рисовал? Муж. Да, поглядят, ничего, не худо. Похоже даже…
16.12.69. В эти дни ездил к художнику Егошину[219] – блондин, стареющий мальчик, были вместе с Гором. Купили картину (натюрморт) за сто рублей.
Интересный аукцион.
Гор сразу присмотрел эту работу, разволновался и бегал вокруг нее, приговаривая:
– Красивая вещь. Очень красивая вещь.
Нат. Аким. сидела, как на троне и, почувствовав страсть Гора, сказала:
– Гор, я вузрожать не буду. Ты можешь и купить картину.
Это сразу вселило смелость – и он спросил:
– За сколько вы продаете эту?
– Ну, я не знаю.
– А за сто отдадите?
– Вам отдам.
– Нет, – сказала Нат. Аким. – Мы же понимаем все. Может, выйдете с женой и обсудите.
– Нет, нет, – сказала жена, – я не понимаю в этом.
Гор отсчитал 4 бумажки по 25 и был очень доволен.
4.1.70. Был у Гора. Говорили о живописи. Он пишет статью о художнике Егошине.
Гор сказал:
– Натюрморт – самый философский жанр в живописи. Художник как бы вырывает вещь из среды, изучает ее и познает. Он как бы рассказывает вещь для себя, но и вещь словно бы познает себя. Она удивляется вместе с художником, выявляя то одну свою грань, то другую.
9.2.70. Вот уже почти неделю ничего не пишу. Почти. Смотрю в бумагу, а голова не работает совсем. Оттаивает. Отдыхает. Труд был адский[220]. Но вот сегодня что-то завертелось в голове. И сюжет такой, что хочется скорее перевести его на бумагу. Это будет притча о честолюбии: «Двое».
Сижу возбужденный, взбудораженный даже. Кажется, «Двое» – это не притча, а что-то крупнее. Роман? Повесть? Пьеса? И то, и другое, и третье. Я вижу героя, его сомнения, терзания…
Итак, человек, добившийся многого в науке, завидует, бешено завидует писателишке. Он завидует и презирает его за меленький ничтожный талантишко.
Он сам писал когда-то. Задавал бешеный ритм и считал, что раздвоенность – это конец любого человека. И вот он задумывает роман… Он пишет его втайне, выворачивает себя наизнанку, обнажает себя до боли. Он – вещь, которая познает самое себя.
А дальше он не знает, что делать. Показывать? Но стоит ли? Нет. Он отдает его другу. И тот печатает.
И вот тут начинаются страдания человека и ученого. Он «кусает локти». Он ненавидит. Он готов позвать его в суд, есть свидетели.
И он решается на этот суд…
Конец – катастрофа. Смерть журналиста.
Бог мой! Как это прекрасно, но выдержу ли я??[221]
10.2.70. Был у Гора. Советовался о романе. Сказал: интересно, но мысль должна быть крупнее. Мысль та, что между идеей и создателем должно быть нравственное единство.
Я думаю, что и еще одна мысль… Гремит слава, поется аллилуйя этому роману, но он схимичил… Он уже не способен жить так, как жил раньше.
13.2.70. Демиденко избил Козлова[222] за то, что тот сказал, что надо резать еврейских детей.
Гор вскочил, заметался по комнате.
– Неужели! – сказал он. – А ведь никто не выступит! Я бы выступил, если бы мне разрешила Наталья Акимовна!
8.4.70. Комарово. Брожу с Гором. Стараюсь больше услышать его. Сегодня очень хвалил – не то слово – высоко отзывался о прозе Рильке. Это, сказал он, источник, из которого черпает Цветаева.
О ее прозе отзывался очень сдержанно, скорее не хвалил, а вот стихи – это иное.
Я пытался с ним поговорить о Маляровой[223] (сегодня встретил ее, говорили о разном). Он сказал:
– Есть талантик.
Я сказал, что новая ее книга местами хороша.
Он опять сказал:
– Да, да, я читал ее стихи. Есть небольшой талантик.
17.4.70. Гор высоко отозвался о романе[224]. Сказал – очень остро. Такого уровня в «Неве» пропустить не могли.
Сказал:
– Вы пишете как в жизни. А в искусстве иногда писатель должен оторваться от жизни. Воссоздать то, что подсказано его фантазией. Таков ли был Нечаев, как его написал Достоевский? Он стал много сложнее, интереснее, глубже. Отчего идут к примитиву художники? Там они свободнее, неожиданнее, дальше от оригинала… Ребенок свободен тоже, как гениальный художник. Гоголь, Кафка – все это иррациональные творцы. Кафка показал, что и в иррациональном нет выхода, подсознательное еще страшнее сознательного.
28.6.70. Почти ежедневно вижу Гора, радуюсь каждому нашему разговору, страдаю, что мало знаю… Он много размышляет о времени, о пространстве. В реальной прозе, говорит, человек прикреплен к времени и пространству. Пространство – это конкретность, где он живет. Время – это движение его жизни. В фантастике все иначе…
…Если бы не Гор, что бы я знал о многих философских проблемах. Ноль…
29.6.70. Гор сказал:
– Позитивисты думают, что мир не реален, а факт реален. А кто реальнее для нас – Дон Кихот (миф) или Иван Иванович (конкретность)? Кто реальнее – Пушкин или Онегин? Христос? Так ли важно – был он или нет? В него верили как в конкретность.
…Читал мне свой новый роман «Изваяние». О времени. Только искусство сильнее времени, оно его уплотняет, раздвигает. Девушка-искусство способна превратить в реальность любое пространство, перенести его на холст и т. д[225].
3.7.70. Ежедневно бываю у Гора. Читал мне Адамовича[226], воспоминания. К сожалению, куски. Удивительно тонко.
О Достоевском: «Конечно, его герои не могут пригодиться для нового общества, но без них – без такого высокого, никем, кроме него, не переданного страдания, ненависти, нельзя в это общество войти».
О Блоке. Он – самая высокая фигура в литературе ХХ века. В нем была судьба. (Я это понимаю как предчувствие трагедии.)
Есть мысль об «индивидуалистической революции» (Герцен) как следующей за революцией главной. Можно было, говорит Адамович, предположить, что все согласятся на свободу, но равенство – вздор. Нужно ли оно? Иван Иванович не хочет такого костюма, как у Петра Петровича.
Чуть вульгарно, но тут, я думаю, уже начинается физиология или психология человека, а с этим нельзя не считаться.
10.7.70. Бурсов[227] сказал:
– Гор спросил у меня: что я думаю об иконе? Я ответил.
– Но куда же это ушло?
– Гор сказал: я думаю, это перешло к Достоевскому.
10.7.70. Сегодня бродили с композитором Клюзнером[228]. Человек очень умный и начитанный. Я впервые так близко сталкиваюсь с человеком музыкального мира. И что же – не актерская первосигнальность, а глубина, философское осмысливание многих сторон жизни, литературы, истории.
Говорили о «Докторе Фаустусе» Т. Манна. Он считает (Гор не согласен, но, как обычно, без вступления в спор), что это вредная, путаная книга. Черт обвиняет Леверкюна[229] в гибели немецкой музыки и излагает свою теорию (эту теорию в это время опубликовал композитор-еврей)[230]. То есть он обвиняет евреев в гибели немецкой музыки.
– Это не умственная книга. Автор умствует, запутывается в понятиях и философских категориях.
Клюзнер говорил очень много, я не все понимал, не был, как это часто у меня бывает, сосредоточен. О религии, об истории христианства, о том, что, возможно, не евреи породили единобожие, а хетты (Авраам выводил пастухов-евреев из города Ур, который находился на более высоком культурном уровне).
Интересно и о государстве Израиль. Он сказал:
– Когда оно было организовано, я понял, что история повторится. Это будет то, из‐за чего опять сотрясется мир. Уже не крестовые походы их ждут, а иное, более страшное.
12.7.70. К Гору пришел Гранин.
– Значит, ему что-то нужно. Как правило, это вопрос.
Так и было.
– Скажите, Г. С., зависит ли образование от нравственности?
– Скорее, если и зависит, то в обратную сторону. Человек не может развиваться односторонне. Если это происходит, если в нем превалирует один интерес, это идет за счет ущерба нравственности.
5.8.70. Взял у Гора К. Леонтьева[231], хочу понять, что это такое. Читаю статью «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения».
14.8.70. Были с Карасиком[232] у Бурсова и у Гора. Опять Достоевский.
Гор рассказал:
– Немцы – гестапо – хотели расстрелять родственницу Достоевского. Она закричала: «Достоевский!» – и это остановило приказ, ее оставили жить.
8.9.70. Гор сказал:
– В Фальке[233] много французского и еврейского.
Я:
– Что вы считаете еврейским?
– Грусть. Вот Левитан. Разве это русская грусть?
Открылась выставка Пахомова[234]. Гор ему написал, что ставит его выше «Бубнового валета» и даже Фалька.
Это, сказал он, очень русское явление, очень современное.
Показал ответ Пахомова. «Мне говорили, что рота идет в ногу, а я не в ногу, и я оставил живопись».
Графика Пахомова ничтожна, говорит Гор.
26.10.70. Мне иногда кажется, что я очень правильно живу, слит с миром – потому что я врач. Вчера застали мертвую старуху, врач видела, что она мертва, почти извинялась, что зря вызвала. А мы ее оживили.
Увлеченно читаю книгу о философии дзен…
Гор сказал:
– Я думал о вас. По доброте своей вы можете стать дзен-философом, но вам мешает активность…
Я думаю, активная доброта лучше созерцания. Хотя дзен за созерцание, за поиски в себе Будды.
Гор сказал о Ван-Гоге:
– Он слишком активен. Зря его причислили к дзен-буддизму.
17.1.71. Был у Гора в Комарово. Гор сказал:
– Гоголь неразгадан. Если о Достоевском понятно все, то Г. все еще непонятен. Этот писатель предсказал будущее. Вот что главное.
Сказал:
– Были гениальные статьи Ремизова, Мережковского.
Нужно поглядеть.
14.2.71. Прочел небольшую повесть Гора «Рисунок Дороткана»[235]. Удивительный духовный мир детства. Детства, уже оцененного пожилым человеком, умудренным опытом и философией мира. После этой вещи считаю Гора самым крупным писателем у нас, хотя ясно, что он идет за Набоковым, как и Катаев в «Святом колодце». Но – в отличие от Катаева – это мир большей духовности, большей неожиданности. Это мир живописи, где время и пространство встретились и соединились.
Ритм прозы его удивительный, хотя, странно, запятых он не признает.
Впечатление, что я побывал на симфоническом концерте. Удивительны, кстати, и характеры людей – мальчика-рассказчика, Алешки, прагматика, его друга, Офицера, тетки-революционерки. И, самое острое, злого-гимназиста-меньшевика, покончившего жизнь самоубийством.
Ах, как бы я хотел иметь эту книгу изданной, в ней Гор с нашими летними разговорами, с его философией жизни, с его детскостью и мудростью одновременно.
25.2.71. Пишу лежа в кровати. Пришел из Дома писателей с обсуждения повести «Анастасия» Аленник Энны Михайловны[236].
Еще не читал книги, но все оценили ее как крупное событие.
Сама Энна Михайловна – женщина лет 55, с желтоватым, но приятным лицом. Еврейка, но мало похожа на еврейку. Пока молчала, очень нравилась мне, но когда заговорила, обаяние уменьшилось, слишком уж выраженная артикуляция.
Выступали прекрасно.
Гор сказал, что люди не всегда современники. Не физическое и не историческое время тут нужно понимать, а эмоционально-психологическое. (Мы все не соответствуем этому времени – кто отстал, кто опередил. Страшны те, кто соответствует. Это прагматики и демагоги.)
Интересно говорила Т. Хмельницкая[237]. Смотрела куда-то вглубь себя, была напряжена. Считает, что роман о религиозности, о свободном веровании.
Гор чуть раньше говорил о двух направлениях в современной литературе. Направление Андрея Платонова – духовное начало, Бабеля и Олеши – материальное.
Рабле, сказал Гор, не мог появиться в России. Бабель и Олеша – не русское явление. В «Анастасии» больше духовное начало. Там же, где бытие, духовность уступают место быту, там снижается ценность книги.
В заключение Аленник сказала, что она «против всех богов, с которыми нельзя спорить, и против тех, которые на нас давят».
Дар[238] – маленький, косноязычный, шумный еврей – кричал:
– Я был против романа. Это безнравственно – бороться с религией, если у нее, религии, нет права защищаться.
20.6.71. Я в Комарово. Сегодня – день первого купанья, встречи – очень радостные – с Гором, с Бурсовым. Мудрые мои старики. Очерк под влиянием живописи и Г. С. Без него не было бы моего понимания многих вещей.
Сегодня, слушая меня, Г. С. сказал:
– Я бы мечтал съездить на Алтай, в Бурятию. Если бы предложили Париж или Забайкалье, я бы выбрал Забайкалье.
Я подумал: это так. Что может дать чужой Париж, что может дать знакомство с городом за неделю? Да еще из окна туристского автобуса! А вот встреча с местом, где осталось сердце, – это многое дает.
23.6.71. Ходили с Гором к Энне Михайловне Аленник – умной, тонкой писательнице. Иногда Гор меня чуточку раздражает – большой ребенок, не умеющий слушать. Диалога не признает, только монолог. Говорит для себя. Знает – тьму, прочел тьму.
Его мышление только абстрактно, не конкретно. Там, где конкретность, он пасует, старается уйти в кусты. Мнение его очень нетвердое, не убежден он в своем, тут же сдается, лишь бы не спорить.
Из мыслей Гора:
– Перечитал подшивку «Красной нови». Хорошая была проза, но убогая публицистика. Сейчас нет прозы, есть философия, читать интересно. Воронскому, главному редактору «Красной нови», попало от Ленина за статью о Шпенглере[239], а проза могла быть любая. Теперь следят за прозой, а философия может быть разная. Что это? Недопонимание или какой-то наступивший сдвиг?
24.6.71. Гор сказал:
– Реализм XIX века достиг высшей точки, так как он есть проявление благополучия и успокоенности… XX век – век сверхреализма, психологического надлома – тут уже все проявления нового искусства. Наше искусство – не реализм.
Кстати, Гор иногда произносит слова, «говорит красиво», а мысль не очень четка. Сегодня долго говорил о северном искусстве, что у них нет времени, есть пространство, но так ничего не сформулировал.
А я думаю, что привлекательность северян все же в искренности, в чистоте, «детском взгляде», это антипод нынешней казенщине…
Великое ли это искусство, когда есть Рембрандт или Боттичелли с их совершенством, сказать трудно. Если оно и великое, то своей первозданностью, неповторимостью, «самостью». Тут подделки невозможны.
А о времени: импрессионисты для меня – мгновение, Ван Гог вне времени – это чувство, исступленность, эмоции. А Панков? Вечность больше, взгляд из космоса – синие горы, зеленые деревья, фиолетовые реки.
26.8.71. Читаю Гора «Изваяние». Местами кажется, что он гениален. Так не писали. Теперь ясен и его скепсис, и его внутреннее слегка ироничное отношение ко мне (хотя и очень скрытое).
Я как-то сказал ему:
– Вам же не нравится, что я пишу.
Он (с возмущением):
– Я же даже писал на вас рецензию.
– Но все равно – в глубине души.
Он отрицал. Но я-то вижу.
Бурсов с недоверием слушал мои похвалы Гору. Гор с недоверием относится к книге Бурсова. Это результат скепсиса братьев по перу. Свой сосед не может быть талантлив.
28.8.71. Дочитываю Гора – и радуюсь, и смеюсь, и плачу. Ах, как хорошо! Мысль о гениальности не уходит, а ведь это лишь часть, пять листов вынуто.
О чем книга? Гор сказал – об искусстве, о многомерности человека, о том, что искусство истинное стоит над временем, оно пересыпает его в своих пригоршнях, как муку.
Переступи это, встань над обыденным, сосчитай себя невеждой, пойми – ничего мы не знаем, и ты станешь тоньше.
Эта книга против нашего прагматизма – удар по нашей позитивистской философии.
О чем вы, люди, волнуетесь, куда идете – будущее так же страшно, как та планета, на которую попал художник Петровский.
Нет, это чудо! Встреча с чудом – я такого не испытывал со времен Булгакова.
А потом – грусть. Книгу не издадут – вот что может быть. Это не только не марксистская, а антипозитивистская, надклассовая книга.
Гранин был прав, когда говорил Гору – не соглашайтесь сокращать, ждите. Второй раз он может уже не стать гениальным.
Но если не заметят чуда – дай бог! – если не заметят, тогда счастье.
Чего Гор испугался, когда разрешил убрать треть романа, – он испугался Натальи Акимовны, того, что она скажет – как можно отказываться от денег!
Это была ошибка. Он-то знал, что написал гениальную вещь, а раз знал, то рисковать ею не имел права.
10.9.71. Вчера был у Гора. Он сказал:
– Нравственная одаренность – это не менее редкое явление, чем талант.
Клюзнер, композитор, к которому мы с Гором ходили, сказал:
– Ум художника своеобразен. Еще живописец может быть дураком, но композитор или писатель – нет. Но и очень большой ум опасно. Тут бывают жуткие трагедии, потому что ум подавляет эмоции, выстраивается схема…


