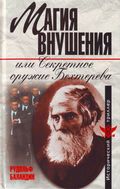Рудольф Баландин
Время дальних странствий
Глава 2. Южная Сибирь
Нет у меня ничего,
Кроме трёх золотых листьев и посоха
Из ясеня,
Да немного земли на подошвах ног,
Да немного вечера в моих волосах,
Да бликов моря в зрачках.
Анри де Ренье (перевод М. Волошина)
Прежде, чем я второй раз попал в Сибирь, прошёл всего лишь год, но был он плотно наполнен событиями порой невероятными. Решалась моя дальнейшая судьба как геолога и как личности. Если бы мне не удалось преодолеть роковые трудности, которым я был обязан самому себе, не было бы не только этой книги, но и меня таким, каков я есть.
Остаться самим собой
Итак, меня вышибли из МГРИ. Ощутил себя неприкаянным, никчемным и никому не нужным. Меня ждали только на армейской службе. Я предпочёл отправиться куда-нибудь в экспедицию. Но это не удалось: полевой сезон начался давно. Оставаться в Москве было опасно. Однажды к нам домой заглянула милиция.
Избрал лучший вариант: проводить дни в Библиотеке имени Ленина (дом Пашкова), где никто меня искать не будет, а ночевать у знакомых. Уезжал в Монино к бабушке.
Я «косил» от армии не из боязни трудностей. В экспедициях было и трудней и опасней. Но пропустить три или четыре (в Морфлоте) года могло означать, что геологом вряд ли стану. А где-то служить или выполнять механическую работу я категорически не желал.
Учитывая своё положение тунеядца, обходился рублём в день и не пользовался транспортом. В библиотеке читал разную литературу, преимущественно по философии. Изучал стили писателей. Сделал вывод: настало время пользоваться разными стилями в зависимости от литературной задачи. Но звание писателя надо заслужить своей жизнью, трудом и знаниями значительно выше среднего уровня.
…Памятный март 1953-го. Смерть товарища Сталина я не осознал и не прочувствовал. Однако побывал у его гроба в Колонном зале Дома Союзов.
У меня с детства анархический склад характера. Ближе всех мне по душевному складу Пётр Алексеевич Кропоткин, не только анархист и коммунист, но учёный, путешественник-исследователь, философ.
Моё отношение к Вождю менялось по мере того, как я узнавал историю страны и набирал жизненный опыт. Восхваление Сталина мне не нравилось. Как будто, вознося его над всеми, этим унижали меня. Но в то время, по молодости лет, я не огорчался: взрослым виднее. Теперь я понимаю, что у некоторых людей такой культ вызывал злую зависть (скрытую от самих себя). Мол, я же лучше него! Такие индивиды стараются унизить его ниже своего уровня или вовсе втоптать в грязь.
Вообще славословия за некоторым пределом переходят в свою противоположность. (Из книги Фейхтвангера «Москва. 1937» я узнал, что Сталин это понимал.) В избытке восхвалений есть нечто лакейское, лицемерное. В официозе так, пожалуй, и было. Но большинство советских людей, в чём я со временем убедился, искренне любили Сталина.
В день его похорон я ещё оставался студентом и поехал в институт. Центр был оцеплен. Меня пропустили по студенческому билету (форма у нас была солидная, с погонами). Занятий не было.
У меня запрет пройти в Колонный зал пробудил желание попасть туда только из-за запрета. Дворами вышел к пустынной улице Горького, увидел двух мужчин, пробежавших во двор, в сторону Пушкинской улицы. Я бегом бросился за ними через улицу под милицейский свист.
Они полезли на высокий дом по пожарной лестнице. И я тоже. На высоте было страшновато, руки судорожно вцеплялись в холодные железные перекладины. Мы побежали, громыхая, по крышам. Снизу на нас кричали, но никто за нами не полез. Спустились во двор, выходящий на Пушкинскую, вошли в неширокий поток людей, идущих в Колонный зал.
Торжественности момента я не ощущал. Был доволен, что пробился сюда вопреки запрету. Вид мёртвых тел у меня вызывал тягостное чувство: как будто это имитация человека, горькая насмешка над ним, победа смерти над жизнью. А тут ещё скорбная музыка.
…С конца 1953 года я начал работать, встречал разных людей. Кому-то из пожилых, из трудящихся, а не служащих, я сказал, что с похоронами Сталина, с толпами, давкой и жертвами произошло что-то нелепое. Умер старый человек, а жизнь продолжается, вот о чём надо думать.
Он ответил, что я ничего не понял, и наше поколение ещё узнает на своей шкуре, что произошло. Так и вышло…
В годы социализма я работал как геолог, журналист, писатель с чувством страны и народа, которым я приношу пользу. Мой вклад был мал, но причастность к общему делу придавала смысл моей работе.
Многое из того, что происходило в ту пору, я не понимал, не мог понять, да и не пытался этого сделать. Таким я мог бы остаться на дальнейшую жизнь.
Говорят, история не терпит сослагательного наклонения. Иначе говоря – что случилось, то случилось. Мысль убогая. Но есть смысл провести умственный эксперимент. Что будет, если я в определённый момент поступил бы не так, как было в реальности?
У Софьи Ковалевской, математика и литератора, есть драма в двух частях «Борьба за счастье» (1887), где показано, как развивались события при одном и при другом поступке в определённый момент. И каждый из нас много раз осознанно или бессознательно делал такой выбор из нескольких вариантов.
Бытие давит на нас, заставляет прилаживаться к текущим обстоятельствам, поступать так, как проще и легче, как в подобных ситуациях поступает большинство. Короче, приспосабливаться к окружающей среде.
У нас есть возможность сознательно противостоять давлению среды, определять своё бытие. Зачем это делать? Зачем идти против течения? Зачем лезть в гору, если известно: умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт? (В последней экспедиции пренебрежение этим мудрым заветом едва не стоило мне жизни.)
На мой взгляд, так нужно делать, чтобы сохранить свою личность от внешнего давления. Потому что оно направлено прежде всего на интересы материальные (мы живём в Техносфере, искусственной среде, где приоритет за техникой, производством и потреблением). Для нормального человека этого слишком мало. Как я полагаю, у него должны быть ограниченные материальные и безграничные духовные потребности.
Впрочем, каждый выбирает то, что считает нужным. О себе могу сказать, что невольно жил по такому принципу. После изгнания из института и крещения Сибирью ждал меня ещё более жестокий удар судьбы. После него шансов оставаться самим собой, то есть таким, каким остаюсь до сих пор, было слишком мало.
Не знаю, внятно ли я рассуждаю. Судите сами: ведь каждый из нас в какие-то моменты мог иначе выбрать линию жизни. И стал бы не совсем тем, каким является сейчас.
Удар судьбы
Вернулся я из Забайкалья летом 1954 года, чтобы проситься обратно в МГРИ. Заработал за полгода 600 рублей. Оброс тёмно-каштановой бородой. Ехал из Читы в Москву в плацкартном вагоне, можно сказать, со всеми удобствами.
Прибыл на Казанский вокзал, рядом с домом на Каланчёвке, где мы жили. Поднялся на шестой этаж, позвонил в свою квартиру. Слышу перестук каблуков матери. Она приоткрыла дверь, закрытую на цепочку, взглянула на меня и резко захлопнула дверь. Каблуки выбили дробь, удаляясь. Вдруг тишина. Быстрое возвращение, распахнутая дверь… Я – дома!
С тех пор маме не нравилось, что я из экспедиций возвращался бородатым. Её испуг можно понять. Было лето 1954 года; по городам и весям разносились слухи о беспределе уголовников.
Нас, изгнанников, волновало совсем другое. Нас осталось человек десять-двенадцать. Кого-то забрали в армию, кто-то избрал другой институт.
Мы собрались у двери кабинета директора, ожидая аудиенции. Делились впечатлениями от проведённых месяцев. Выяснилось, что погиб один из нас, изгнанников, Ванадий Мартынов, как-то странно, пошёл через озеро, покрытое льдом, хотя ему это запретили, и провалился.
Вдруг невысокий тёмно-русый Коля, похожий на Сергея Есенина, вытащил из-за пазухи книжку Ивана Ефремова, грохнул её на пол, затоптал ногами и заголосил:
– Три тыщи метров!.. Сердце не мотор!.. Романтика чёртова!..
Мы опешили. Постарались его успокоить. Он показал своё темя, на котором белел клок седых волос. Рассказал о своих злоключениях.
Оказалось, он и не собирается проситься в институт, лучше пойдёт в армию. Просто хотел повидаться с нами. Из его сбивчивого рассказа я понял, что работал он в горах Средней Азии, на берегу горного озера на высоте три тысячи метров над уровнем моря. Там вели разведку месторождения. Рабочими были в основном бывшие зэки. Начальник на всякий случай поселил Колю в свою палатку.
Рабочие любили пошалить. Могли подбросить в палатку начальника то ли капсюль-детонатор, то ли взрывчатку. Начальник, привыкший к таким сюрпризам, успевал выбросить подарочек обратно, а Коле было не по себе.
После получки группа рабочих спустились в ближайший посёлок, разгромили там лавку, привезли ящики водки, закуску и устроили, что называется, большой шмон. Но если в тюрьмах и лагерях шмонают заключённых, то тут пьяные бывшие зэки гонялись за всеми прочими.
Коле вместе с группой интеллектуальных работников пришлось бежать вокруг горного озера: три тысячи метров над уровнем моря, а сердце не мотор. Страху натерпелся по полной программе. Пьяные вскоре выдохлись и полегли на поле отменной брани. К ночи всё затихло. Спали спокойно. Проснулся Коля от какого-то шума, выглянул из палатки…
Очнулся в больнице. Сильное сотрясение мозга, рана на голове. Это жители деревни, где разграбили ларёк и, возможно, кого-то побили, собрались пораньше и устроили погром, колотя всех подряд.
Рассказав свою печальную историю, Коля удалился. Кажется, он пел тенором в армейском ансамбле песни и пляски. В институте он вроде бы не пел. Возможно, сказалась травма.
Когда в кабинете ректора собрались деканы всех факультетов, нас вызывали по одному и решали нашу судьбу. Я надеялся на свою хорошую характеристику с места работы. Перевесили мои неуды и прогулы.
Вердикт произнёс заместитель ректора по учебной части Синягин:
– Если тебя принять, ты весь институт испортишь.
Оценка моих способностей была слишком завышена, но от этого мне легче не стало. Меня отчислили из МГРИ, так и не зачислив.
Это была катастрофа. Устроиться на работу в дальние края было нереально. Впору отправляться в армию. Что дальше? За 3 или 4 года многое может произойти со мной. Не буду же после армии сидеть на шее у родителей. Пойду работать. Заочная учёба? Захочу ли? Мать постарается найти мне выгодную работу, используя свои знакомства в «высших кругах». Там же постарается найти мне невесту. После того как я опозорился во МГРИ, придётся или уйти из семьи, или стать послушным сыном.
Домашним я ничего не сказал. Уходил утром, приходил поздно вечером. Почти всё время проводил в Библиотеке имени Ленина. От Каланчёвки до неё и обратно ходил пешком. Что произошло в следующие месяцы, забыл. Провал в памяти. Как у Гоголя в «Записках сумасшедшего»: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чёрт знает что такое».
Возможно, наша память избавляет нас от тяжёлых и никчемных переживаний. Я даже запамятовал, почему решил отправиться в Ташкент. Скорее всего, поздней осенью в Москву приехал младший брат моей бабушки Михаил Осипович Хачатуров – главный прокурор железных дорог Узбекистана. По-видимому, он предложил «устроить» меня на геологический факультет Ташкентского политехнического института.
Зима была морозной, я простудился. Донашивал свою институтскую форму, но уже без погон, шинель, ходил в обычных ботинках, часто мёрз. В ночь под Новый год отчим крепко выпил. Пьяным он резко менялся. У него стекленели глаза, он ругался и буянил.
На этот раз он обрушился на меня, оскорблял на разные лады. Я оделся и вышел из дома. «Был сильный мороз». Быстрым шагом я вышел на Садовое кольцо, перешёл его и двинулся в сторону метро «Маяковская». Фуражка и лёгкая шинель были не по погоде. Быстро замёрзли ноги в ботинках.
Было пустынно и холодно. Ярко горели, порой мигая разноцветными лампочками, окна в домах. От этого становилось особенно одиноко. Можно бы написать: от ветра и мороза слёзы застывали на щеках, но этого не припомню.
Пройдя метро «Маяковская», зашёл в парадное какого-то дома. Скорее всего, это был тот дом на Садовой, где находилась «нехорошая квартира» из «Мастера и Маргариты», Михаила Булгакова. Конечно, об этом романе я тогда не знал.
Поднялся на площадку между первым и вторым этажом, встал у окна, под которым была горячая батарея. Постепенно отогревались руки, ноги. Долго стоять на одном месте было неловко. Из квартир иногда выходили люди. Я делал вид, что остановился, спускаясь или поднимаясь по лестнице.
Так и промотался всю ночь по новогодней морозной Москве, заходя время от времени в подъезды, чтобы согреться.
Тут бы преисполняться жалостью к самому себе, бесприютному. В памяти проигрывалась: «Вечер был, сверкали звёзды, на дворе мороз трещал. Шёл по улице малютка, посинел и весь дрожал». Что там было дальше, я не помнил, откуда взялись эти строки, не знал. Они были к месту, вызывали горькую усмешку и не давали хандрить. Да и не было причин жалеть себя: плохо учился и много прогуливал. Сам во всём виноват.
Вскоре отбыл в Ташкент. Мела метель, а я был болен. Забрался на вторую полку. Бил озноб. На какой-то остановке вышел, чтобы в аптеке купить лекарство. И здесь была метель. Шёл, как в бреду, боялся упасть. Пришлось вернуться на свою полку.
На вторые сутки у меня начался жар. Чувствовал слабость. Не явиться же таким в Ташкент! Меня должны зачислить в Политехнический.
Я сбивал температуру жестоким способом: выходил в тамбур и мёрз. Когда начинал замерзать, возвращался на своё место. Потихоньку становилось всё жарче. Опять выходил в тамбур. Я плохо соображал, был туп и зол на себя. В Ташкенте мне надо быть крепким и здоровым, или умереть. Что мне делать там больному? Надо поступить в институт, а не болеть…
На третий день вечером я заснул, как говорится, мертвецким сном. Проснулся утром. Светило солнце. Я был слаб, но чувствовал себя здоровым. На вокзале меня встретил дядя Миша.
Его семья занимала одноэтажный дом с двориком, где гуляли индюки. Всё бы хорошо, но я был на иждивении у дяди Миши. Семья отличная, трое детей младше меня: старшая Неля, затем Рудик и Эдик. Быть нахлебником – тяжёлое испытание.
Я приехал в весну. Меня зачислили на третий курс. Некоторые предметы были новыми, например, начертательная геометрия, сопромат. Теперь я учился старательно. Вовремя сдавал зачёты. На одном экзамене получил «хорошо», на всех других «отлично».
Наиболее успешно освоил начертательную геометрию. Преподавал мой однофамилец. Его искренне радовали мои успехи. Я старался оправдать его доверие. Любил решать сложные примеры. На экзамене он с загадочным видом задал мне дополнительный вопрос. Я с трудом справился с задачей. Преподаватель был в восторге: «Баландин даже не знает, что этот раздел мы не проходили. Молодец!»
Впервые я учился легко и успешно. Сказывались обстоятельства. Это была последняя надежда вернуться в МГРИ. Откуда взялась лёгкость? Не знаю. Поумнел, что ли?
Круглым отличником стал другой студент, что называется, зубрила. Кто-то из группы пошутил: один берёт головой, а другой задницей. Но я так не думал. Его упорство в достижении цели вызывало уважение.
Мы с ним отличались только тем, что он с одинаковым усердием учил все предметы и со временем стал, пожалуй, хорошим исполнителем. Он мог (или даже смог) закончить аспирантуру, написать кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую. Но вряд ли ему посчастливилось сделать хотя бы одно научное открытие.
Часто услышишь презрительные высказывания в адрес троечников и двоечников. Однако крупные открытия в науке и философии, достижения в литературе, искусстве редко принадлежат отличникам. Они обычно становятся хорошими узкими специалистами. Хотя бывают исключения. П.А. Кропоткин, например. Он и учился отлично, и проводил опасные экспедиции, был выдающимся исследователем и оригинальным мыслителем.
Полезно отличать любопытствующих от любознательных. Первым нужны новые впечатления, вторых интересует познание, проникновение мыслью в суть вещей и явлений.
Любопытствующие любят туристические поездки, стремятся побывать в примечательных местах, желательно с удобствами, посещать музеи, любоваться красотами природы и архитектуры. Они хотят приятно проводить свободное время.
Любознательным мало просто увидеть, прочесть, услышать. Они хотят понять, выяснить. Пять веков назад Мишель Монтень писал: «Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей: человек более пытливого ума не будет доволен… Удовлетворённость ума – признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому… Пища его – изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение».
Во время своих сидений в библиотеке я прочёл и выписал эти слова. Они были близки моему уму и характеру. Своей жизнью и работой я это подтвердил. Над многими проблемами тружусь шесть десятилетий.
У меня нет особой одарённости: феноменальной памяти, необычайной сообразительности. Если есть что-то сверх среднего, то это упорство и любознательность, стремление к правде и справедливости.
А бывает ли правда без справедливости?
Кураминская геологическая партия
Есть такая формула-перевёртыш: «Бытие определяет сознание». Как это понимать? Ударение на первом слове – один смысл, ударение на последнем – смысл прямо противоположный.
Одни философы уверены: бытием определяется сознание. Другие возражают: сознанием определяется бытие. Я думаю, разумней третье: единство бытия и сознания. Хотя есть и другие варианты.
Большинство людей зависят от условий жизни, приспосабливаются к ним. Но есть и те, для кого идеалы, принципы, сознание определяют бытие. С тех пор как меня изгнали из МГРИ, моё бытие и сознание находились в разладе. Бытие – неприкаянное. Положение в обществе – шаткое и зависимое от многих обстоятельств. Только в сфере умственной я более или менее был свободен.
Физически я чувствовал себя хорошо. Несмотря на худобу, по 20 раз выжимал левой и правой рукой двадцатикилограммовую гирю.
Много времени проводил в главной библиотеке республики. Там был хороший выбор книг по истории, философии, художественной литературе. И учить институтские задания там было удобно. Я применил свой метод. Сначала читал то, что мне интересно. Делал перерыв и переходил к учебному материалу.
Помимо всего прочего, я присматривался к стилю писателей, читал труды литературоведов. Заинтересовался формалистами, которые подсчитывали, в каких пропорциях классики употребляли существительные, глаголы, прилагательные. Понял, что в зависимости от целей надо менять стиль изложения. Хотя меня больше всего интересовали идеи.
Надеялся стать писателем. Понимал: для этого надо не литературный институт закончить, и не филфак, а набраться жизненного опыта за многие годы. Заделом на будущее завёл тетрадку (она затерялась), делая заметки на тему «Эволюция стилей и смыслов от Пушкина до Горького».
Однажды в солнечный день я направлялся привычным путём в библиотеку. Рядом с Домом офицера ко мне бросился человек средних лет и среднего роста. Он так радовался, словно я принёс ему подарок, тряс мою руку, улыбался, говоря, что очень рад меня видеть.
Я был озадачен, поздоровался и спросил: «И что теперь?»
– Как что? – он был странно весел и не пьян. – Споёте мне что-нибудь, пойдёмте.
У меня в голове вертелось: откуда он знает, что я люблю петь? В школе пел дуэтом с Володей Романовым песни, которые исполняли Бунчиков и Нечаев. У Володи был баритон, да и у меня тоже, но мне приходилось петь тенором. Особенно трудны были переходы в «Песне друзей» Хренникова: «Дует ветер молодо во все края».
Но как мог этот человек знать обо мне в те годы? А может быть, он слышал, как я, когда бывал один в доме Хачатуровых, подражал Лисициану в арии тореадора из оперы «Кармен» или Нэлеппу в арии Хозе? Неужели я так громко и отменно пою, что меня слышно на улице? Ничего не понимая, спрашиваю:
– Вы и вправду хотите, чтобы я спел?
– Ну конечно! – Он засмеялся.
– За последствия я не отвечаю.
– Пойдёмте, пойдёмте, – он засмеялся, взял меня под руку и потянул в сторону Дома офицеров.
Откуда он знал, что я здесь пройду? Кто-то следил за мной?
А если это в связи с моей работой в читинских геологических фондах? Неужели?! И что теперь?
Нет, не может быть. В таком случае взяли бы быстрей и проще.
Или это какая-то особенная операция КГБ? Нет, скорее всего, он шизик. Тогда врежу ему и убегу…
Я так и не решил, как поступить. Он обернулся ко мне, поторапливая, и вдруг взглянул за мою спину, глаза его округлились, он бросил мою руку, воскликнув:
– А-а-а… вот он!
Я оглянулся. К нам приближался темноволосый молодой человек с усиками, похожий на меня.
Странный незнакомец начал передо мной извиняться. Оказывается, он художественный руководитель местного коллектива. На гастроли приехал греческий ансамбль. Ему понравился солист, которого он пригласил на прослушивание и репетицию как раз на то время, когда я появился.
Так я не стал певцом. А может быть, и греком.
…Пребывание в Ташкенте было для меня чем-то похожим на курорт, тем более после Забайкалья и московских мытарств. Кажется, все дни были солнечными. Учёба давалась легко, возможно потому, что я впервые воспринимал её всерьёз.
Из Москвы я привёз небольшой аккордеон и порой наигрывал на нём чардаш Монти, ещё что-то и даже самодельный опус «Весёлый день» (помню мелодию до сих пор, но проблесков таланта в ней не нахожу).
В нашей многонациональной группе студентов никаких конфликтов не было. Ни национального, ни религиозного, ни политического разлада не наблюдалось. Напомню, шел 1955 год. Пройдёт лишь год, и на ХХ съезде КПСС будет подрублена идеологическая опора советского общества.
После расчленения СССР общество раскололось по всем духовным и материальным показателям: религиозному, национальному, социальному, политическому, экономическому. Подлейшим образом растащили народное достояние, результаты труда миллионов людей. Буржуй, получивший доступ к народному богатству, получает несколько миллионов рублей в день, а трудящийся – в тысячи раз меньше.
Меня удивляет непомерная жадность «новых русских» буржуинов и олигархов. Им необходимы роскошные дворцы, огромные яхты, лакеи, миллиарды долларов. И ради таких никчемных подлых крохоборов уничтожили великую державу, обрекли русский народ на вымирание и деградацию!
Невольно сопоставляю то, что было, с тем, что стало. Это не старческое брюзжание. Знаю: в Забайкалье жилось совсем не так, как в Москве или в Ташкенте. Малая зарплата, скудный рацион (цены относительно высокие). В маршрутах грыз сухари, кусковой сахар. Зубы начали крошиться, а дёсны кровоточить. Я не догадался покупать витамин С, рыбий жир (который не любил). Вообще не было и нет привычки заботиться о своём здоровье.
Для меня в Ташкенте единственной и постоянной неприятностью было пребывание в виде нахлебника. Чувствовал (или мнил), что я в тягость семье дяди Миши. Надо было подумать о работе на это лето. Мой товарищ, если не ошибаюсь, Марат, сказал, что у него есть знакомый геолог, и обещал узнать у него, нужны ли коллекторы или рабочие.
Договориться-то мы договорились, но его адреса у меня не было. Знал, что он живёт на окраине Ташкента, однажды был в том районе, вот и всё. Учёба кончилась, мы о встрече толком не уговорились. Начинался полевой сезон. Что делать?
Я чувствовал злость и отчаяние. Сам виноват, не предусмотрел встречу. Надо найти Марата. Как? В крупном городе случайно встретить нужного человека в определённое время практически невероятно.
Решил действовать вопреки очевидности. Пошёл в тот район, где жил мой товарищ. Выбирал наиболее людные улицы, смотрел по сторонам. Прошагал час. После центра с каменными (частично) домами начинался глиняный пригород. Переходишь на несколько веков в прошлое. Встретил женщину в чадре.
Впору было заканчивать нелепый маршрут без адреса. Вот и окраина города. Оставалось дойти до трамвайной остановки, после которой рельсы описывали дугу, поворачивая назад. Там подошёл трамвай, из которого высыпали пассажиры. Среди тех, кто собирался войти в вагон, был Марат! Подбежав к нему, я тронул его за плечо:
– Не торопись, привет!
Он обернулся, ошалело взглянул на меня:
– Ты откуда?
– От верблюда.
– Как ты меня нашёл?
– Телепатия.
Впору было поверить в телепатию. Ведь я заранее дал себе задание встретить Марата. Значит, можно воспользоваться теорией вероятности. И тогда получается, что вероятность такого события в пространстве и времени ничтожно мала.
Говорят, в экстремальных ситуациях человек способен проявить необычайные физические и духовные способности. Это предположение, основанное на редких событиях. Научный подход требует проверку фактов, возможность экспериментов. А тут события неповторимые и непроверяемые.
С тех пор я не раз возвращался к теме телепатии. Окончательного ответа не получил. Читал об интересном опыте циркового артиста Дурова с собакой, за которым наблюдал психолог, физиолог и психиатр академик В.М. Бехтерев. Были единичные удивительные случаи, не более того.
Не исключено нечто похожее на телепатию в сообществах некоторых животных (муравьи, термиты, голые землекопы и др.). У человека речь и жесты заменили другие более тонкие, но менее определённые способы общения. Так же как рассудок потеснил интуицию.
Об этом я писал в некоторых своих книгах. Возможно, ещё вернусь к этой теме.
Марат сообщил мне адрес Кураминской геологической партии. Я отправился туда и был зачислен коллектором. Они в ближайшие дни отправлялись в поле.
Этот полевой сезон был бестолковым. Сначала повздорил с начальником. В назначенный час я пришёл на базу партии с рюкзаком. Там стоял гружённый до верху ГАЗ-51. Когда начальник отряда (не помню его внешности) распределил места, оказалось, что я лишний. Через несколько дней предполагался второй рейс.
Но я простился с родственниками и хотел уехать. Залез на груз и лёг наверху, держась за верёвки. Начальник настаивал на своём. Я объяснял, что мне некуда идти. Он ссылался на технику безопасности: ехать долго, дорога плохая, можно упасть и разбиться, а ему отвечать.
Он был прав, но возвращаться я категорически не желал. После недолгих пререканий он понял, что меня не переупрямишь, стягивать силой не стал, объявил мне выговор, обещал наказать, и мы тронулись в путь.
Впервые я почувствовал, что означает ветер при температуре сорок градусов. Он обжигал. Приходилось прятать лицо. Чтоб не свалиться, вцепился в верёвки, отчего руки немели. Дорога была знойной, пыльной, ухабистой и долгой.
Вечером наскоро разгрузились и поставили палатки. Пригодились мои навыки. Своё обещание начальник исполнил: отрядил меня на кухонные работы. Главным поваром был молодой весёлый узбек, а я ему помогал, мыл посуду. Так продолжалась неделя, началась другая…
Обидно. Но – дело есть дело. Обзавёлся смирением.
Наш отряд проводил детальную геологическую съёмку. В этом районе обнаружили, если не ошибаюсь, залежи меди или полиметаллов. Особой спешки не было, но всё равно дело двигалось туго. Однажды наш студент – крепкий бойкий симпатичный парень, хорошо певший песни под гитару, вместе с двумя девушками отправился в маршрут. Не прошло и часа, как они вернулись. Все трое смущённые, парень понурый.
Оказалось, они дошли до склона, по краю которого шла тропа, парень сел и отказался идти. Девушки взяли его под руки, помогли дойти до безопасного места.
Начальнику пришлось оторвать меня от святых кухонных обязанностей и отправить в маршруты. Пришла пора использовать мои скудные познания в геологии, дополненные практическим опытом.
Позже мне пришлось пройти по этой тропе, где испугался студент. Склон был не крутой, градусов тридцать. Но такова уже сила воображения: парню показалось, что это обрыв, пропасть.
Кстати, когда рисуешь горы, на глаз, они получаются более крутыми, чем на самом деле. Так бывает и у художников. Подсознательно мы склонны преувеличивать крутизну склонов. В этом есть смысл: лучше преувеличить трудности, чем недооценить их.
Из всех рабочих и коллекторов я был самый опытный. Обычно маршруты были не особо далёкие, и мне доверяли ходить одному. Солнце палило, а я с удовольствием чувствовал, что прогреваюсь до костей, как в прошлом году до костей промерзал. Иногда позволял себе ходить голышом, надев трусы на голову: благо, что жилья поблизости не было.
В обрывах слои известняков, изогнутые причудливыми складками, выступали чисто и наглядно. На горных седловинах изменчивые ветры приносили то сладкое дыхание медуницы, то свежий, как снег, запах мяты, то какие-то пряные смеси полусухих трав. Вдали открывалась до горизонта плоская равнина. Пересекающие её машины угадывались по широким шлейфам пыли.
Даже зной и редкие скудные источники, истоптанные стадами, не портили своеобразной красоты этих мест. Были и некоторые сюрпризы.
После переезда лагеря на новое место мы с Батыром, рабочим, прошли небольшой маршрут и только после ужина прохладным вечером поставили свою палатку. Солнечным ранним утром вышли из палатки. Батыру ветерок показался прохладным. Он надел свою рабочую куртку, потянулся…
Из её правого кармана вытянулась крупная мохнатая паучья лапа, а за ней – другая. Фаланга! Я взглядом показал ему на карман. Он взглянул, издал вопль, сорвал куртку и стал на ней выплясывать что-то дикое.
Я не думал, что у местного жителя может быть такое сильное чувство к другому местному жителю, хотя и беспозвоночному. Говорят, фаланга ядовита, но можно было хотя бы куртку пожалеть.
Мы поставили палатку на норке этого паукообразного, и он утром не нашёл лучшего для себя места, чем карман Батыра. Больше опасных встреч с фалангами и скорпионами у нас не было.
Меня подстерегала другая беда: мои ботинки были на кожаной скользкой подошве. Но я как-то исхитрялся не соскользнуть с камней, ни разу не упал. Конечно, скалолазанием заниматься не приходилось, но встречались более или менее крутые скальные выступы.
Какую работу я делал? Не помню. Единственный раз экспедиция ничем меня не заинтересовала. Я выполнял задания, только и всего.
Запомнилось прибытие начальника экспедиции. Этот пожилой полноватый узбек почтенного возраста (такими мне казались все мужчины старше пятидесяти) был одним из открывателей крупной залежи полиметаллов в нашем районе.
Утирая лоб платочком, он тяжело спускался к зелёному оазису возле родника, сидел там часами в тени чинар, почитывал книги, пил зелёный кок-чай и поглядывал на склон соседней горы, который блестел свежими осыпями. Там шли горные работы. Геологи, открывшие то месторождение, получили большие премии.